В СОЗВЕЗДИИ ТРАПЕЦИИ

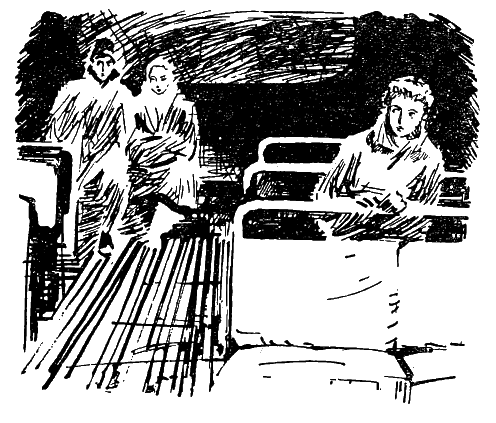
1
«Надо было взять такси, — с досадой думает Ирина Михайловна, озябшим пальцем протирая прозрачный кружок в оледеневшем окне троллейбуса. — Совсем замерзну, пока доеду…»
Время позднее — за полночь. В троллейбусе малолюдно— всего пять-шесть человек. Сквозь замерзшие окна ничего не видно, а водитель не считает нужным объявлять остановки.
В протертом кружочке мелькает свет уличных фонарей. Ирина Михайловна всматривается в него, почти касаясь лбом толстой наледи на стекле. В столь поздний час на улицах уже выключена часть освещения и густые тени затушевывают приметы хорошо знакомых зданий. Да и прозрачный кружочек то и дело затягивается сизой пленкой изморози. Его почти непрерывно приходится протирать стынущими пальцами.
Лишь после Каляевской Ирина Михайловна начинает ориентироваться безошибочно. Теперь скоро площадь Маяковского» а там и Кудринская.
В скверном настроении возвращается домой режиссер цирка Ирина Михайловна Нестерова. Не очень приятный был у нее сегодня разговор с директором и главным, режиссером. Они все торопят с программой к открытию нового здания цирка. Времени хотя еще и много, однако нужно ведь не только придумать программу, но и отрепетировать ее. И не какую-нибудь, а нечто грандиозное, небывалое. В ее ушах и сейчас еще звучат патетические слова директора:
— Первого мая мы дадим представление не просто в новом здании цирка, а в самом лучшем в мире здании цирка! В нем мы должны показать не только новое, но и принципиально новое!
Ирина Михайловна и сама все это отлично понимает. Она уже была в новом здании и восхищалась почти всем, что там увидела. Особенно же четырьмя манежами, три из которых расположены под землей.
И снова мрачные мысли о новом репертуаре. Главный режиссер высказал пока лишь самые общие соображения о нем:
— Новая наша программа должна быть на уровне века. На уровне современной науки и техники. Короче говоря — она должна быть космической…
«Хорошо ему говорить о космическом — в его распоряжении весь цирк, — уныло думает Ирина Михайловна, всматриваясь в протертый глазок в наледи окна. — Воздушных гимнастов на различных механических конструкциях, полеты их с батутов и резиновых амортизаторов можно, конечно, подать как вторжение в космос. А у меня клоуны… У них что космического? Куда устремлю я своих коверных?..»
И усмехается невольно:
«Дрессированные животные тоже, конечно, не очень космическая фактура!.. Но Анатолий Георгиевич как-нибудь справится со всем этим. Наверно, придумает что-нибудь. И я бы придумала, если бы у меня были такие клоуны, как Виталий Лазаренко или мой отец, знаменитый «Балага», будь он хотя бы лет на десять помоложе…»
Ирина Михайловна знает, конечно, что и для клоунов придумают что-то, если не главный режиссер, то кто-нибудь из пишущих для цирка сценарии новых программ, но ей очень досадно на себя за свою беспомощность…
Но вот и Кудринская. Нужно выходить. Ого, какой свирепый мороз! Настоящая космическая стужа. Хорошо хоть, что идти недалеко.
Ирина Михайловна торопливо перебегает широкое Садовое кольцо и заворачивает за угол. Ее дом — третий от угла. Поскорее бы миновать двор, яростно продуваемый сквозным ветром.
Поднимаясь на третий этаж, Ирина Михайловна ищет в сумочке ключ от квартиры. Осторожно открыв дверь, на цыпочках входит в коридор и нащупывает на стене выключатель.
Повесив шубку и переобувшись, она идет на кухню. Сквозь стеклянную дверь соседней комнаты не видно света — отец её, Михаил Богданович, и сын Илья спят, конечно.
Мягко щелкает клавиш выключателя, и на кухне вспыхивает свет. Сразу же бросается в глаза тарелка, покрытая салфеткой. Рядом стакан и коробка с помадкой — любимыми конфетами Ирины Михайловны.
«Это папа, конечно», — тепло думает она об отце. С тех пор, как он ушел на пенсию, в доме стала чувствоваться его заботливая рука.
Ирина Михайловна зажигает газовую плиту и осторожно ставит на нее чайник. Усевшись за стол, не без любопытства приподнимает салфетку.
Ну да, это приготовленные папой бутерброды. Но что это еще? Что за странная фигурка? Похожа чем-то на Буратино…
Ирина Михайловна берет ее в руки и вдруг слышит отчетливо произнесенные тоненьким «цыплячьим» голосом слова:
— Добрый вечер, Ирина Михайловна! Позвольте представиться — Гомункулус. Создание великого алхимика нашего времени Балаги и его внука физикуса Ильи.
«Конечно же это проделки Илюши и папы», — догадывается Ирина Михайловна. Ее, однако, не смешит эта выдумка, а лишь вызывает чувство досады.
«Зачем они устроили мне этот цирк на дому?..» — с огорчением думает она, откладывая в сторону маленького человечка, и уже без прежнего аппетита принимается за бутерброды.
Человечек, однако, оказывается упрямым.
— Ай-яй-яй! — укоризненным голоском произносит он. — Не ожидал я этого от вас, Ирина Михайловна. Я понимаю, вы устали и хотите есть, ну так и ешьте себе на здоровье. Я ведь вам не мешаю. Прошу лишь вашего внимания, ибо мне нужно сообщить вам нечто очень важное: мой повелитель, знаменитый коверный клоун Бала-га, решил снова вернуться на арену.
Ирина Михайловна уже не может больше спокойно слушать этого маленького наглеца. Она снова берет его в руки и внимательно осматривает со всех сторон в надежде найти какой-нибудь проводок, с помощью которого ее отец или сын Илья ведут этот разговор. И хотя никаких проводов Ирина Михайловна не находит, она снимает туфли и в одних чулках на цыпочках подходит к комнате проказников, намереваясь застать их врасплох. Энергично распахнув дверь, она зажигает свет, но никого возле дверей и за столом не обнаруживает. Дед и внук лежат в своих постелях, безмятежно похрапывая. Ирина Михайловна почти не сомневается, однако, что они лишь притворяются спящими, но окликнуть их не решается.
— Они спят, Ирина Михайловна, — снова произносит человечек, как только она возвращается на кухню. — А я уполномочен ими вести с вами этот разговор. Вы ведь будете, наверно, пить чай? Ну, а я тем временем изложу планы вашего папаши. Почтенный Михаил Богданович Балаганов действительно решил вернуться на арену цирка. Чихал он на свой пенсионный возраст! Придется, конечно, отказаться от акробатики и, может быть, даже от реприз. Но он теперь будет мимом, подобно Марселю Марсо в его Бип-пантомиме.
— Ну вот что — хватит! — сердито хлопает ладонью по столу Ирина Михайловна. — Это уже не остроумно!
И она бесцеремонно хватает Гомункулуса, собираясь швырнуть его в кухонный шкаф.
— Умоляю вас, погодите минутку, — пищит человечек. — Еще буквально два слова…
— Нет! — неумолимо прерывает его Ирина Михайловна и бросает в темный ящик шкафа. — Поговорю об этом завтра с твоим повелителем.
Ей уже не хочется есть. Она торопливо убирает все со стола и уходит в свою комнату. Ее муж, доктор физико-математических наук, Андрей Петрович Нестеров, спит на диване. Но едва Ирина Михайловна зажигает ночничок, как он открывает глаза.
— Ты уже пришла, Ира? — сонно спрашивает он и смотрит на часы. — Почему так поздно? Да и вид какой-то расстроенный.
— Спасибо за спектакль, — сердито говорит Ирина Михайловна.
— За какой спектакль? — удивляется Андрей Петрович.
— За домашний. Не сомневаюсь, что без твоего участия тут не обошлось. Все было на уровне современной кибернетики.
— Да что ты в самом деле! Я понятия не имею, о чем ты говоришь…
Голос Андрея Петровича звучит искренне, и Ирина Михайловна решает объяснить, в чем дело.
— Ай, проказники! — смеется Андрей Петрович. — Ловко придумали, а ты зря злишься. Это, конечно, Илюша — он блестящий экспериментатор. Вся техника — его рук дело. Ну, а остальное — результат фантазии и артистического таланта твоего отца. И, знаешь, я думаю, это не только шутка. Дед в самом деле снова хочет в цирк. Такие, как он, не уходят на пенсию.
— Но ведь годы, — вздыхает Ирина Михайловна. — Он же буффонадный клоун, а врачи запретили ему не только сальто-мортале, но и более простые акробатические трюки.
— Стало быть, Гомункулус сказал правду — коверный клоун Балага действительно решил стать мимом. Наверное, в наше отсутствие он уже репетирует свою новую программу, вживается в новый образ. Да и что гадать— завтра он сам посвятит тебя в свои планы.
А в это время дед с внуком шепчутся в соседней комнате:
— Не переборщили ли мы? — спрашивает Илья. — Мне кажется, мама рассердилась…
— Да, может быть, — соглашается Михаил Богданович. — Но зато она подготовлена теперь к моему решению и мне завтра легче будет с нею разговаривать. К тому же она сможет оценить и возможности моего будущего партнера — Гомункулуса.
2
В квартире Нестеровых Михаил Богданович встает раньше всех. Затем уже Ирина Михайловна. Андрей Петрович с Ильей позволяют себе поспать еще часок.
Спит ли еще Илья, Андрею Петровичу не известно. Сам он просыпается почти тотчас же, как только поднимается его жена. Он, правда, не произносит ни слова и даже не открывает глаз, догадываясь, что она хочет, видимо, поговорить с отцом наедине. А потом, когда Ирина уходит на кухню, он напряженно прислушивается, пытаясь уловить хоть одно слово из негромкого ее разговора с Михаилом Богдановичем. Но, так и не услышав ничего, снова засыпает.
В девять часов его будит Илья:
— Вставай, папа, наш дом уже пуст.
— Как пуст? А Михаил Богданович?
— Дед тоже ушел куда-то. Оставил записку, чтобы завтракали без него.
— Жаль, — вздыхает Андрей Петрович. — Хотелось узнать, чем кончился его разговор с твоей матерью.
Илья смеется:
— В наш век магнитных записей мы и так все узнаем…
— Как тебе не стыдно, Илья! — хмурясь, перебивает его отец.
— И ты мог подумать обо мне такое? — укоризненно качает головой Илья. — На вот, прочти.
«Зная, каким любопытством будешь ты томиться, специально для тебя зафиксировал все на магнитной пленке. Вернусь только к вечеру. Идем с Гомункулусом к главрежу. Проинформируй обо всем папу.
Твой дед — «Великий алхимик и начинающий мим».
— Ну что ж, включай тогда, — машет рукой Андрей Петрович.
Пока нагреваются лампы магнитофона, отец с сыном молча смотрят друг на друга, пытаясь угадать — с согласия ли Ирины Михайловны пошел Михаил Богданович в цирк или вопреки ее желанию?
Но вот Илья нажимает наконец кнопку воспроизведения записи, и Андрей Петрович слышит спокойный голос жены:
«Здравствуй, папа! Спасибо тебе за вчерашний спектакль».
«Ну и что ты скажешь о моем решении?»
«А ты серьезно?»
«Серьезнее, чем ты думаешь. Мне надоело быть домработницей».
«Только поэтому?»
«Это, конечно, не главное. Не могу я без цирка…»
«Но что ты теперь будешь там делать? Не те ведь годы.»
«Ты же слышала от Гомункулуса — мы с ним покажем пантомиму — «В лаборатории средневекового алхимика».
«А ты веришь в успех?»
«Не сомневаюсь».
«А я сомневаюсь… Сомневаюсь, что ты будешь иметь такой же успех, как прежде. Ведь ты был знаменит. Во всяком случае, тебя проводили на пенсию почти как народного артиста. А теперь…»
«Что теперь? Теперь я, может быть, буду еще знаменитее, ибо чувствую, что нашел то, чего не хватало раньше, — настоящую маску. Ведь я работал все эти дни… Целый год! Вы все уходили, а я тут работал. Сначала просто над техникой мима. Репетировал стильные упражнения по грамматике Этьена Декру, по которой учился Марсель Марсо. Осваивал ходьбу против ветра, передвижение под водой, перетягивание каната. Этьен Декру утверждает, что актер может своим телом выразить любые чувства. Лицо для него не играет никакой роли. Оно лишь маска. Только тело в состоянии выразить такие чувства, как голод, жажду, любовь, счастье и даже смерть».
«И ты поверил в это?»
«Я проверил-это. Вот смотри, я изображу тебе передачу новостей по радио. Покажу человека, который включил утром радио и услышал интересные новости».
Некоторое время слышится лишь легкое шипение магнитной ленты и постукивание чайной ложки о стенки стакана. Потом щелчок, будто кто-то включил радиоприемник. А спустя еще несколько секунд тихий смех Ирины Михайловны и возбужденный голос Михаила Богдановича:
«Ну что? Поняла ты, что услышал человек, включивший радио? Не догадалась разве, что передавали сообщение о новом полете в космос?»
«Да, папа, поняла! И признаюсь — не ожидала…»
«Не ожидала! Плохо ты знаешь своего отца. Я вырос в цирке. Вся жизнь моя прошла на его манеже. Я и родился, наверно, где-нибудь под тентом ярмарочного балагана. Ты ведь знаешь, что я подкидыш… Помнишь, рассказывал, как меня подкинули коверному клоуну «Бульбе», положив в его чемодан? Он и вышел с этим чемоданом на манеж во время представления, не подозревая, что в нем живой ребенок. А потом так обыграл свою находку, что хохот зрителей чуть не сорвал ветхий брезент с ярмарочного балагана».
И опять пауза, заполненная шипением магнитной ленты. Затем снова голос Михаила Богдановича:
«Подкинула меня Богдану Балаганову циркачка, имя которой ему не было известно. Наверно, и она родилась в цирке, и кто знает, сколько поколений циркачей в нашем роду? И, веришь, я горжусь этим! Обидно только, что ты не стала цирковой артисткой».
«Ты же знаешь, папа, почему…»
«Да что теперь говорить об этом!.. Но ты хоть понимаешь, что не могу я без цирка? Что возвращаюсь не для того, чтобы посрамить свое имя, а твердо веря в успех? Я ведь не только открыл в себе мима, но и приготовил свой номер. Подсказал его мне Илья. Он и сконструировал Гомункулуса. Он ведь очень талантлив, наш Илюша!»
И тут вдруг раздаются всхлипывания Ирины Михайловны, а затем ее дрожащий от волнения голос:
«Да, да, он талантлив! Вы все талантливы: он, ты и даже мой муж. Одна только я бездарность и неудачница!.. Ничего из меня не получилось, не получается и режиссера. Ничего не могу придумать такого, что вдохновило бы моих клоунов…»
— Может быть, выключить, папа? — робко спрашивает Илья, заметив, как волнуется отец. У него и у самого щемит сердце.
Но отец лишь отрицательно качает головой и старается не смотреть в глаза сыну. Ему нестерпимо жалко Ирину. Да и за Михаила Богдановича очень тревожно. В его годы пробовать себя в новом жанре более чем рискованно…
А из магнитофона все еще раздается его возбужденный голос:
«Ты молода, Ирина. У тебя все впереди. Да и не одна ты теперь будешь. Сообща мы непременно придумаем новую программу для всей нашей клоунской братии. А теперь давай-ка позавтракаем и пойдем вместе в цирк…»
3
Некоторое время отец с сыном сидят молча. Каждый по-своему переживает и оценивает услышанное.
— Пожалуй, это к лучшему, что они наконец объяснились, — замечает наконец Андрей Петрович. — Я верю в твоего деда — он умный и энергичный человек, и если действительно «нашел себя» в жанре мима — все будет хорошо. Маме тоже станет легче — он и ей поможет в ее режиссерской работе.
— Но признайся, ты все-таки не очень в этом уверен? — пристально глядя в глаза отца, допытывается Илья. — Я дедушку имею в виду, его успех…
— Откровенно говоря — да, не очень, — неохотно признается Андрей Петрович. — Публика помнит его, как талантливого буффонадного клоуна и не известно, как еще примет в совершенно новом для него жанре.
— Почему же в совершенно новом? Я хорошо помню дедушку, когда он еще выступал. В его номерах были и мимические сцены.
— Эпизодики, а теперь на этом нужно построить целый номер. Ты видел хоть, как это у него получается?
— Нет, он этого никому не показывал. Проделывал все наедине с зеркалом. Но я знал, что он репетирует новый номер. Он не скрывал этого от меня, просил только держать в тайне. Иногда советовался даже. Тогда-то я и подсказал ему идею кибернетического партнера — робота в образе фантастического Гомункулуса. А потом и сконструировал ему его. Кибернетический партнер, по-моему, вполне в духе времени. Дед ведь очень начитанный, он сразу понял всю новизну такого партнера. Он, правда, хотел сначала работать в образе Мефистофеля, властвующего над душой Гомункулуса. Но я посоветовал ему воплотиться в образ средневекового алхимика, творящего с помощью Гомункулуса чудеса.
Илья говорит все это увлеченно, почти зримо представляя себе все многообразие возможностей подсказанной деду идеи. А Андрей Петрович будто впервые замечает теперь хорошо сложенную фигуру сына, широкие плечи, крепкие руки, безукоризненную точность движений. Почти не глядя, берет он со стола чайную посуду, ловко споласкивает ее под краном и с каким-то удивительным изяществом вытирает полотенцем.
«Наверное, сказывается в этом унаследованная им сноровка и навыки многих поколений цирковых актеров, — невольно думает Андрей Петрович. — Кем была его прабабушка? Наездницей, которой приходилось сохранять равновесие на бешено мчащемся коне, или эквилибристкой на проволоке?»
Нервы, мускулы, вестибулярный аппарат — все должно быть безукоризненным у людей этой профессии, ибо не только. успех, но и сама их жизнь зависит от этого совершенства.
И так из поколения в поколение. Дед Ильи был ведь универсалом. Владел всеми жанрами циркового искусства. Мать тоже была воздушной гимнасткой и работала бы на трапеций до сих пор, если бы не сорвалась однажды во время исполнения сложнейшего апфеля — спада на качающейся трапеции со спины на носки. Упала она хотя и в сетку, но так неудачно, что врачи не разрешили ей больше работать гимнасткой… Тогда отец ее, знаменитый коверный Балага (имя это образовал он из усечения своей фамилии — Балаганов), стал обучать Ирину клоунаде. Года два была она его партнершей, а потом ее послали на курсы режиссеров. И вот с тех пор испытывает неудовлетворенность.
А Илья? У него от цирка только спортивная фигура да ловкие руки, столь необходимые физику-экспериментатору. Любые, самые замысловатые приборы, иной раз почти ювелирной тонкости, изготовлял он, будучи еще студентом. Есть у него и упорство в достижении цели, столь свойственное многим цирковым артистам. Андрею Петровичу известно это не только по своему тестю и жене, но и по судьбам их друзей. Многим из них приходилось преодолевать боязнь высоты, падать, ломать кости ног, бедер, подолгу лежать в больницах и начинать все сначала. Позавидуешь такой непоколебимости!
— Вот и дедушка и мама называли меня только что талантливым, — прерывает размышления Андрея Петровича Илья, — а ты, папа? Не разделяешь их мнения или считаешь, что хвалить меня не педагогично? Я имею в виду мой эксперимент, вызвавший антигравитационный эффект.
Отец долго молчит, нервно постукивая пальцами по столу. Илья терпеливо ждет, убирая посуду в кухонный шкаф.
— Уж очень загадочен этот эффект, — задумчиво произносит наконец Андрей Петрович. — Подобен чуду, а я не верю в чудеса.
— Ну, так давай вместе разбираться, искать объяснения, — живо поворачивается к нему Илья. — А то ведь и сам ничего не предпринимаешь, и мне не даешь возможности начать серьезное изучение открытого мною явления.
— Напрасно ты так думаешь, Илюша, — укоризненно качает головой Андрей Петрович. — Я уже не первый день занимаюсь теоретическим обоснованием твоего эффекта.
— Но почему же только сам? У тебя ведь нет для этого даже достаточного времени…
— Не торопись, Илюша. Я не хочу, чтобы над нами смеялись. Вспомни ту шумиху, которая была поднята чуть ли не во всем мире вокруг аппарата американского изобретателя Нормана Дина. Не только французский журнал «Сьянс э ви», но и некоторые ученые мужи утверждали тогда, будто Дин обосновал новый принцип механики, позволяющий построить летательный аппарат без использования отдачи реактивной струи.
— Но ведь не все и не всё отрицали тогда в аппарате Дина. Многие считали, что достигнутый им эффект не противоречит ни одному из законов Ньютона, а лишь уточняет их. А что ты скажешь о наших изобретателях «безопорных движителей»?
— О инженерах Толчине и Зайцеве?
— Да. О инерцоидах Толчина и универсальном импульсном движителе Зайцева.
— Я не считаю себя достаточно компетентным в вопросах механики. Мне известно, однако, что Комитетом по делам изобретений и открытий заявки на безопорные движители не принимаются к рассмотрению, так же как и на злополучные перпетуум-мобиле.
— А вот доктор физико-математических наук Протодьяконов сказал недавно об инерцоидах Толчина, что они заставляют задуматься о верности некоторых положений механики. И добавил: «Я бы не поверил, что эти опыты осуществимы, если бы не видел их собственными глазами…»
— Я не читал его высказываний, — хмуро говорит Андрей Петрович, — не сомневаюсь, однако, что эксперимент Толчина не был достаточно «чистым». Боюсь, что желаемое принимается тут за достигнутое и превратно толкуются побочные эффекты.
— Но должно же быть как-то истолковано «поведение» механизмов Толчина и Зайцева и объяснено с точки зрения современной механики? А этого никто пока не сделал с достаточной убедительностью. Да и только ли это? Разве мало еще неясного? Это ведь в конце прошлого века, когда все казалось таким простым и доступным, лорд Кельвин мог заявить, что здание физики уже построено. Его смущали лишь два небольших облачка на ясном горизонте науки. Одним таким облачком был опыт Майкельсона, не имевший в ту пору объяснения, вторым — катастрофическое расхождение между существовавшей тогда теорией и опытными данными, полученными при изучении теплового равновесия между нагретым телом и окружающей средой. А потом, как ты знаешь, из первого опыта родилась теория относительности, а из второго — квантовая механика.
— Напрасно ты утешаешь себя этими примерами, Илюша, — снова укоризненно покачивает головой Андрей Петрович. — К тому же они были бы уместны лишь в споре с невежественным в истории науки человеком.
— Прости, папа, — смущается Илья, — я не хотел тебя обидеть. Но и ты пойми мое состояние… Пока не решу этой загадки, не смогу ничего больше делать. Вот уже вторую неделю я не в состоянии притронуться к своей диссертации. А то, что полученному мною эффекту нет пока объяснения, меня не расхолаживает. Ведь этот эффект — «Его величество Факт», как сам ты любишь выражаться.
— А я не уверен пока, что это действительно «Его величество Факт», — упрямо качает головой Андрей Петрович. — Я не только старше тебя, но и опытней и знаю, как невероятно трудно в наше время открыть что-нибудь принципиально новое. И смущает меня не то, что ты открыл это случайно, — в науке такое бывало. Случай нередко даже помогал многим открытиям. Он помог Беккерелю обнаружить радиоактивность, а Рентгену — лучи, названные впоследствии его именем. Нас, однако, должно волновать сейчас не это. Нам необходимо точно знать — действительно ли перед нами «Его величество Факт», нет ли тут какой-нибудь ошибки?
— Ну, так поручи кому-нибудь повторить мой эксперимент! — восклицает Илья.
— Если бы ты не был моим сыном, а я не был бы директором научно-исследовательского института, так бы я и поступил. Но ведь то, что ты мой сын, а я директор института, — уж это-то бесспорный факт. И именно поэтому я не могу официально поручить кому-либо повторение твоего эксперимента. Не делай, пожалуйста, удивленного лица, наберись лучше терпения и выслушай меня до конца.
Андрей Петрович встает и продолжает разговор, прохаживаясь по кухне:
— Я ведь говорил уже, что пытался теоретически объяснить полученный тобою эффект, и чем больше размышлял об этом, тем больше убеждался, что в таких масштабах эксперимента он вообще не может быть обоснован с достаточной основательностью. Нужно, следовательно, ставить его фундаментально. А для этого необходима целая экспериментальная группа опытных научных работников, а главное — мощная энергетическая база. Вот и посуди теперь сам: могу ли я при отсутствии твердой уверенности, что твой эффект повторится, пойти на такой риск сейчас, когда все мои сотрудники заняты выполнением срочных заданий Академии наук?
— Но что же тогда делать?
— Спокойно продолжать работу над диссертацией и терпеливо ждать более подходящего времени для проверки твоего антигравитационного эффекта.
— Нет, папа, — не глядя на отца, упрямо произносит Илья. — Спокойно работать над диссертацией я больше не могу. А если ты боишься подорвать свой авторитет возможной неудачей при повторении моего опыта, я осуществлю его в необходимых масштабах где-нибудь еще… И у меня найдутся хотя и не такие опытные, как твои, но зато более заинтересованные в успехе моего эксперимент та люди.
4
Михаил Богданович возвращается домой в первом часу. Он не садится в троллейбус, а идет пешком — мороз сегодня не такой жестокий, как вчера. В цирке ему было очень жарко (наверное, от волнения), и теперь хочется немного остыть, собраться с мыслями. То, что главный режиссер раскритиковал пантомиму «Средневековый алхимик» не очень огорчает его. Может быть, и в самом деле все это старовато.
«И зачем вам этот алхимик? — огорченно сказал ему главный режиссер. — Нафталинчиком от него попахивает. Жаль только вашего труда. Чувствуется, что поработали вы над этим образом немало. Очень выразительным получился. Только ведь это совсем не то, что нам сейчас нужно. Для современной клоунады скорее бы подошел образ чудака профессора, этакого рассеянного ученого, типа жюль-верновского Паганеля. И знаете, это мысль! Манеж всегда слишком уж был перенаселен людьми без определенных профессий — простаками, плутами и неудачниками. А образ профессора — это уже в духе времени. Вот и давайте подвергнем вашего средневекового алхимика Скоростной эволюции, превратив его в современного доктора каких-нибудь наук».
«Да, пожалуй, — робко согласился с главным режиссером Михаил Богданович. — Образ алхимика действительно не очень удачен, — а сам я, как мим? Вот же что для меня сейчас самое главное, Анатолий Георгиевич?»
«Ну, что вы спрашиваете, дорогой мой? — широко развел руки главный режиссер. — Разве вы пришли бы ко мне, не почувствовав в себе мима? Теперь можно лишь удивляться, что я сам не открыл его в вас раньше. Это ведь у вас не вдруг. Вы всегда были отличным мимом. Но вы тогда были молоды и обладали еще и талантом превосходного акробата, столь необходимым настоящему буффонадному клоуну. Вот это-то и заслонило от меня все ваши прочие способности. А теперь, когда уже не попрыгаешь, не крутнешь сальто-мортале, не взберешься так же ловко, как прежде, на трапецию или на батут, мы сосредоточимся на искусстве пантомимы и разовьем то, что многие годы дремало в вас. Пишите заявление и давайте работать! Будем готовить программу к открытию нового здания цирка. Раньше я вас не выпущу. Класс вашей работы должен быть не ниже, а выше того, в котором вы кончили было свою карьеру на цирковой арене».
Вспоминая теперь этот недавний разговор с главным режиссером, Михаил Богданович счастливо улыбается, не обращая внимания на прохожих. Он будто помолодел лет на десять. Идет пружинящей походкой, ощущая удивительную легкость во всем теле. Кажется-даже, что если, хорошенько разогнаться, можно и теперь сделать двойное сальто-мортале с пируэтом, какое делал когда-то в дни молодости, удивляя лучших мастеров акробатики. Многие из них не раз приглашали его в свои труппы, но он оставался верен клоунаде, ибо считал, что настоящий клоун должен владеть всеми цирковыми жанрами. И он действительно мог бы работать в любой труппе акробатов-прыгунов, если бы только захотел.
По ходу сюжета клоунских антре приходилось ему совершать и полеты с трапеции на трапецию не хуже любого вольтижера-профессионала. Наверно, он бы и сейчас смог сделать многое, но с тех пор, как у него начало пошаливать сердце, врачи запретили ему эти трюки, а без них он не представлял себе буффонадной клоунады. Вот и пришлось уйти на пенсию…
А теперь он будто заново родился. Не все, значит, потеряно. Он еще покажет себя! Расшевелит и Ирину. Похоже, что она совсем пала духом. Не ладится у нее с режиссурой клоунады. Надо, значит, чем-то подбодрить ее, подсказать что-то.
5
Михаил Богданович ходит теперь в цирк ежедневно. Вместе с главным режиссером и Ириной они вот уже который день продумывают новую программу клоунады. У них есть несколько сценариев, написанных профессиональными литераторами, хорошо знающими цирк, но все это кажется им не тем, чего ждут от них зрители. Да и сами они остро ощущают необходимость чего-то совершенно небывалого. Ведь новое здание цирка представляется им не только новым помещением, но и новым этапом в развитии того искусства, которому Михаил Богданович с Анатолием Георгиевичем отдали почти всю свою жизнь.
Михаил Богданович размышляет теперь об этом и днем и ночью. Иногда ему начинает казаться, что он придумал наконец то, что нужно, и он спешит поделиться своим замыслом с Ириной. Но еще прежде, чем успевает она раскрыть рот, он и сам сознает, что все это не то. И снова начинаются мучительные раздумья, надежды, сомненья…
Совершенствуя искусство мима, Михаил Богданович читает все, что написано о мастерах этого жанра. Большое впечатление производит на него книга о «великом паяце» Франции — Гаспаре Дебюро, на могиле которого написано: «Здесь покоится человек, который все сказал, хотя никогда не говорил». Не упускает он ни одного случая еще раз посмотреть фильмы с участием Чарли Чаплина, но более всего увлекается игрой Марселя Марсо.
Михаилу Богдановичу посчастливилось увидеть его в Париже во время гастролей во Франции с группой артистов советского цирка. Потом он видел его и в Москве, и не раз, но первая встреча с Марсо буквально потрясла его. Ему казалось тогда невероятным, что мимический актер один, без партнеров, на совершенно пустой сцене, в одном и том же костюме и гриме может держать публику в неослабеваемом напряжении целый вечер. Почти не было и музыки. Но искусство Марселя Марсо было таково, что пустая сцена как бы заполнялась и людьми, и предметами.
Теперь и сам Михаил Богданович живет в этом безмолвном мире жестов и телодвижений, удивляясь тому, что не видел раньше всего богатства его изобразительных средств. Жест руки, поворот туловища, наклон головы способны ведь убедительнее всяких слов передать ощущение высоты, глубину пространства, форму и вес предметов.
Теперь Михаил Богданович и понял и освоил многое, но достигнутым все еще не удовлетворен…
Дома тоже не все благополучно в последнее время. Беспокоят его взаимоотношения Ильи с отцом. Михаил Богданович не знает, что именно между ними произошло, но догадывается, что не все ладно. Хотел как-то спросить Ирину, потом подумал: а может быть, она не только не знает ничего, но и не догадывается даже об их разладе? И не стал ее тревожить. А когда совсем уже стало невмочь от беспокойства за внука и зятя, решился поговорить с Ильей напрямик.
— Что у тебя такое с отцом, Илья? Поссорились вы, что ли?
— Как же поссорились, если разговариваем, — удивляется Илья.
— А ты со мной не хитри, — хмурится дед. — Разговаривать-то вы разговариваете, да не так, как прежде.
— Да что вы, сговорились, что ли? — злится Илья. — Вчера мама, а сегодня ты учиняешь мне допрос.
— Ну, вот видишь! Мама тоже, значит, заметила. Стало быть, не случайны наши подозрения. Давай-ка, выкладывай все начистоту.
Илья угрюмо молчит. Притворяться, что ничего не произошло, теперь уже нет смысла, но и рассказывать всего не хочется. Да и поймет ли дед всю сложность его отношений с отцом?
А дед, догадавшись, видимо, о его сомнениях, произносит почти равнодушно:
— Я тебя не неволю, однако. Не хочешь — не надо. Я ведь и не пойму, наверно, из-за чего у вас мог произойти раздор. Разве серый цирковой клоун может понять, а тем более рассудить столь ученых мужей?
— Ну что ты говоришь такое, дедушка! — бросается к Михаилу Богдановичу Илья. — Просто не хочется голову тебе морочить нашими спорами на чисто научные темы.
— Спорами ли только? Я ведь знаю, когда вы схватываетесь между собой из-за ваших лептонов и нуклонов. Тоже иной раз не разговариваете по целым дням, но это все не то. Теперь у вас посерьезнее что-то… Однако повторяю: не хочешь — не говори.
Илья бережно сажает деда на диван. Садится с ним рядом. Произносит с тяжелым вздохом:
— Ладно уж… Слушай и не обижайся, что я не рассказал всего этого сам. Просто не хотелось тебя расстраивать. Знаю ведь, как близко ты принимаешь все к сердцу. А насчет того, что ты «серый клоун» и ничего в высоких материях не смыслишь, — этого ты никогда мне больше не говори. Хотел бы я, чтобы все наши клоуны были такими же «серыми», как ты.
— А они и не могут быть серыми, — смеется Михаил Богданович. — Они либо рыжие, либо белые.
— Знаю, знаю! — смеется и Илья. — Когда в доме столько циркачей, будешь знать все эти тонкости.
И, снова став серьезным, даже нахмурившись почему-то, он продолжает:
— Ну, а разлад у нас с отцом вот почему: конструировал я одно устройство для обнаружения гравитационных волн, а оно неожиданно дало почти противоположный эффект — стало порождать нечто вроде антигравитации. Понятно ли тебе, о чем я говорю? Не обижайся только, пожалуйста, что спрашиваю об этом.
— Будешь теперь извиняться всякий раз, — усмехается Михаил Богданович. — Я же понимаю, что разговор у нас серьезный, и все, чего не пойму, о том сам спрошу. О гравитации я читал кое-что в научно-популярных журналах. Кажется, это не очень изученная область?
— Да, тумана тут хватает, — угрюмо кивает Илья. — Никаких эффектов, связанных с реальным существованием воли тяготения, никто еще не наблюдал. Однако они были предсказаны более сорока лет назад. И теоретически мы кое-что уже знаем о них, а вот обнаружить пока не можем. Но ведь и электромагнитные волны теоретически были предсказаны Максвеллом почти за два десятилетия до того, как Генрих Герц экспериментально доказал их существование. И лишь еще через семь лет наш Попов нашел путь практического их применения…
— Это ты мне не рассказывай, об. этом я и сам кое-что знаю, — перебивает Илью Михаил Богданович, которому не терпится узнать поскорее, в чем же суть устройства, сконструированного внуком.
— А ты не перебивай. Мне ведь не так просто объяснить тебе сущность моего открытия. Знаешь, в чем трудность обнаружения гравитационных волн? А в том, что в формулу определения их энергии входит, как коэффициент, очень малая величина — так называемая гравитационная константа.
Слегка задетый замечанием деда, будто он говорит ему прописные истины, Илья нарочно употребляет теперь такие выражения, как «гравитационная константа», без пояснения ее значения.
— Вследствие этого эффект, вызванный действием волн тяготения, неуловимо ничтожен, — продолжает он. — А для того, чтобы он возрос, необходимо увеличить до космических масштабов массы колеблющихся тел и частоты их колебаний. И тут опять тысячи препятствий. Массы звезд, например, хотя и достаточно велики, но зато малы частоты их колебаний. А такие тела, как атомы и ядерные частицы, хотя и колеблются с достаточными частотами, но ведь массы их ничтожны.
— Ну и как же ты выкарабкался из этих противоречий?
— А я не стал выкарабкиваться. Пошел иным путем. Решил исходить из того, что гравитационные волны при всей ничтожности их мощности излучались многие миллиарды лет. Их порождали и порождают колебания любого материального теля, и общее количество их все возрастает. В нашей Метагалактике таких волн должно накопиться довольно много. За время ее существования происходили ведь и вспышки сверхновых звезд, и многие другие грандиозные космические катастрофы, порождающие особенно большое излучение гравитационной энергии.
— Но ведь эта энергия рассеяна, наверно, на огромном пространстве? — замечает Михаил Богданович.
— Да, на огромном, но не на бесконечном, — соглашается Илья. — Во всяком случае, в пределах Метагалактики. К тому же эта энергия или соответствующая ей масса, как полагают некоторые ученые, равняется всей обычной материи, из которой состоят звезды, планеты, астероиды и межзвездный газ нашей Метагалактики.
— Ого! — восклицает Михаил Богданович, пораженный таким неожиданным для него соотношением. — Тогда, значит, она всюду?
— Да, всюду. А раз так, ее ниоткуда не нужно добывать, а следует лишь научиться генерировать. Вот я и попытался сконструировать такой генератор. Получилось, правда, не совсем то, на что я рассчитывал, но все-таки явление гравитационное, или вернее, антигравитационное. Я ведь рассчитывал, что измерительные приборы в моей установке под воздействием гравитационных волн покажут увеличение веса, а они зарегистрировали уменьшение его. Следовательно, действуют на них силы не гравитации, а антигравитации.
— Значит, ты сделал великое открытие, Илюша! Из-за чего же тогда разлад с отцом?
— Ах, дедушка, не так-то все это просто! — вздыхает Илья; — Дело ведь в том, что пока все это лишь мои предположения…
— Но ты же не вслепую, не наугад? Ты же именно в этой области и экспериментировал?
— Да, это так. Однако расхождения между результатами моего эксперимента и существующей теорией гравитации столь велики, что даже у меня возникает сомнение— антигравитация ли это?-Дело ведь в том, что многие крупные ученые вообще отрицают существование гравитационных волн. Но и те, кто их признает, усомнятся, конечно, в полученных мною результатах, пока я не повторю этого эксперимента в большем масштабе и не обосную его теоретически.
— Вот тут-то и должен помочь тебе отец! — возбужденно восклицает Михаил Богданович, энергично хлопая ладонью по столу. — Разве он отказывает тебе в этом?
— В том-то и дело… — уныло кивает головой Илья. — И если говорить по совести, в какой-то мере я его понимаю. Очень уж невероятен результат моего эксперимента. Похоже даже на шарлатанство…
— Да ты что?! — хватает Михаил Богданович внука за руку. — Неужели и Андрей Петрович так думает?
— Сам-то он этого не думает, но то, что именно так о результатах моего эксперимента могут подумать другие, вполне допускает. А повторить сейчас мой опыт в необходимых масштабах он не может. Для этого пришлось бы приостановить другие исследования, запланированные Академией наук. К тому же я ему не посторонний, а родной сын. Поставь он мой эксперимент в ущерб другим, представляешь, что начнут говорить о нем в институте?
— Да плевать ему на эти разговоры ради такого дела! — возмущается Михаил Богданович. — Вот уж не ожидал я этого от Андрея Петровича…
— Я бы тоже, может быть, на это плюнул, — соглашается Илья. — А он не может. Да и не очень, пожалуй, уверен, что мне действительно удалось открыть новое явление природы. А в его положении без такой уверенности нельзя идти на риск. И я очень тебя прошу, не рассказывай ты ему об этом нашем разговоре. Да и маму не расстраивай…
— Ах, Илюша, — вздыхает Михаил Богданович, — плохо ты свою маму знаешь. Она, наверно, давно уже догадалась, что между вами что-то произошло. Сам же говорил, что спрашивала тебя об этом.
Илья угрюмо молчит некоторое время, потом вдруг решает:
— Ну, тогда мне нужно помириться с отцом и успокоить ее. У мамы и своих неприятностей хватает. Похоже, что не ладится у нее что-то…
— Да, не нашла она себя. Отличная была гимнастка, а вот режиссера из нее не получается. Ну, а ты как же? Неужели будешь терпеливо ждать, когда проверку твоего эксперимента запланируют в отцовском институте?
— А я и не жду. Мы сами кое-что сооружаем в лаборатории университета, в котором я учился когда-то. И знаешь, кто мне в этом помогает? Лева Энглин!
6
С клоунами у Ирины Михайловны действительно дело не ладится. Она умеет ценить находки тех, кто их ищет, негодует на тех, кто не брезгует штампами, однако сама ничего оригинального подсказать своим подопечным не может. Но труднее всего, оказывается, связать их разрозненные номера хотя бы в какое-нибудь подобие единого действия. И хотя главный режиссер иногда ее хвалит, сама она относится к себе более строго. Дай Анатолий Георгиевич делает это, видимо, из чисто педагогических соображений, дабы подбодрить ее, не дать окончательно потерять веру в себя.
В последнее время Ирина Михайловна стала даже подумывать об уходе из цирка, хотя по-прежнему искренне любила его и с удовольствием вспоминала те годы, когда работала вольтижеркой в группе воздушных гимнастов. Она и сейчас с восхищением и почти с нескрываемой завистью наблюдает репетиции Зарницыных. Особенно нравится ей красавица Маша. Таких совершенных пропорций Ирина Михайловна не видела еще ни у одной гимнастки. Ей кажется даже, что столь совершенное существо может создать только художник, поставивший своей целью изобразить идеальное человеческое тело, предназначенное для парения в воздухе.
Очень артистичны и Машины братья, Сергей и Алеша. Но в них не ощущается такой грации и непосредственности, как у Маши. Да и работают они хотя и очень точно, но без души, без той радости, которую сама она испытывала всякий раз, совершая под куполом цирка пассажи и пируэты, в которых законы физики сливались с законами пластики.
А какого труда стоила ей непринужденность и свобода движений в воздухе! Сколько неудач и страхов пришлось преодолеть! Лишь для того, чтобы научиться падать в сетку, ушел почти год, ибо это было сложно и небезопасно. Упав на бок, можно сломать руку, падение на живот грозило переломом позвоночника. Повредить позвоночник легко и в том случае, если после сальто-мортале упадешь на голову. Даже падение на ноги, при отсутствии необходимого опыта, может оказаться плачевным. Безопаснее всего падать на спину, но научиться этому не так-то просто.
Ее учитель, старый цирковой артист, говорил ей в те трудные годы учебы: «Падая, береги не только свои кости. Главное — помни все время, что на тебя смотрят сотни глаз и ты должна радовать их красотой и ловкостью своего тела. Никогда не забывай об этом и старайся не плюхаться в сетку, подобно мешку с овсом».
Она никогда не забудет своего требовательного учителя. Это он научил ее математически точному расчету взаимодействия с партнерами, позволяющему после заднего сальто-мортале прийти в руки ловитору. Много труда понадобилось ей, чтобы постичь все эти тонкости и научиться летать так же свободно, как и ходить по земле, не думая, что нужно для этого делать.
«Тренируйся до тех пор, пока воздух не станет для тебя таким же привычным и надежным, как земля» — постоянно поучал Ирину ее наставник.
Наблюдая теперь за репетициями Зарницыных, Ирина Михайловна все чаще замечает, что лишь Маша проводит их с увлечением. А братья работают неохотно, будто отбывают повинность.
Вот и сейчас с огорчением всматривается Ирина в их лениво раскачивающиеся красивые тела, и ей без слов понятен укоризненный взгляд их сестры.
Увлеченная наблюдением за работой Зарницыных, Ирина Михайловна не замечает, как подходит к ней главный режиссер.
— А что, если бы вам, Ирина Михайловна, — весело говорит Анатолий Георгиевич, — заняться режиссурой воздушных гимнастов? Вижу, они вам больше по душе, чем клоуны.
— Вы это серьезно?
— Настолько серьезно, что даже с директором это согласовал, — улыбается главный режиссер.
— Тогда, если можно, для начала одних только Зарницыных? — умоляюще смотрит на Анатолия Георгиевича Ирина Михайловна.
— Сегодня же займитесь именно Зарницыными. Что-то они мне не нравятся.
— Спасибо, Анатолий Георгиевич! Они меня тоже беспокоят.
Радостная выходит Ирина Михайловна с манежа в фойе, привычно оглядываясь по сторонам.
Все для нее будто преобразилось теперь в этом огромном и не очень уютном в дневную пору здании. Тот, кто видел цирк лишь по вечерам, когда он залит ярким светом и заполнен людьми, тому днем, при слабом освещении, все тут покажется будничным и неуютным. Но сама Ирина Михайловна никогда не ощущала этого. Цирк для нее всегда был почти храмом.
Даже в те утренние часы, когда ареной завладевали сначала хищники, а потом лошади, она любила ходить по округлым коридорам-фойе, прислушиваясь к глухому щелканью шамбарьера дрессировщика, грозному рычанию зверей, ржанию коней. А когда после репетиции кто-нибудь из униформистов степенно прогуливал по фойе разгоряченных лошадей, Ирина Михайловна любила потрепать конские гривы, с удовольствием вдыхая острый запах пота взмыленных животных.
Вечерами же, во время представлений, ей доставляло большое удовольствие наблюдать за публикой, такой многообразной, какой не бывает, наверно, ни в одном театре. И у Ирины Михайловны всегда замирало сердце, когда вся эта масса людей, заполняющих огромную вогнутую чашу зрительного зала, единодушно ахала вдруг, пораженная ловкостью, а иногда и невероятностью совершенного трюка.
И именно это долгое импульсивное «ах-х!..», а не бурные аплодисменты, почти всегда потрясало ее до слез. Восклицание это вырывалось против их воли даже у самых сдержанных зрителей, умеющих владеть собой, скрывающих или стесняющихся публичного проявления своих чувств. Она замечала также, что звучало это «ах» не всегда и не часто. Ирина Михайловна видела работу многих отличных иллюзионистов, оснащенных совершеннейшей аппаратурой. На них смотрели, разинув рот, пожимали плечами, разводили руками и всегда награждали бурными аплодисментами. Может быть, кто-то даже и ахал. Но причиной такого единодушного, неудержимого «ах» всегда было совершенство человеческого тела, его почти фантастические возможности.
Хотя у Ирины Михайловны и не ладилась работа с клоунами, она должна была признать, что такой же успех имели иногда и их остроумные трюки.
Раздумывая теперь над всем этим, она проходит несколько раз по фойе и уже собирается вернуться на манеж, как вдруг сталкивается с Машей Зарницыной.
— Вот вы-то мне как раз и нужны! — обрадованно восклицает Ирина Михайловна. — Надеюсь, вы никуда не торопитесь? Ну, тогда давайте потолкуем. Скажите мне, Маша, что такое происходит с вашими братьями? Они считают, что все уже постигли, или просто ленятся? Я это не из праздного любопытства спрашиваю — меня только что назначили вашим режиссером.
— Я очень этому рада, Ирина Михайловна! — крепко пожимает руку своему новому режиссеру Маша. — Вашей работой на трапеции я, еще будучи девчонкой, восхищалась… и даже завидовала. Честное слово!
— Ах, Маша, не надо об этом! Все это, к сожалению, в прошлом…
— Я знаю, вы сорвались… — взволнованно и торопливо продолжает Маша, — но ведь можно же снова…
— Нет, Маша, для меня это исключено, — грустно улыбаясь, перебивает ее Ирина Михайловна. — Да теперь и Поздно уже, не те годы…
Ирине Михайловне неприятен этот разговор, и она хочет прервать его, но, посмотрев в восторженные глаза девушки, видимо действительно помнившей ее выступления в группе воздушных гимнастов, решает поговорить с ней откровеннее, расположить ее к себе.
— Надеюсь, вы понимаете, Маша, как нелегко мне было выслушать приговор врачей. Да и сейчас… Может быть, не нужно было их слушать, а последовать примеру Раисы Немчинской. Она, как вы знаете, упала во время репетиции. В результате — осколочный перелом локтевого сустава и три перелома таза. А потом восемь месяцев больницы и вполне обоснованные сомнения врачей в возможности возвращения ее к прежней профессии. И все-таки она вернулась в цирк и стала одной из лучших воздушных гимнасток. А я не смогла… Не хватило силы воли. Никогда себе этого не прощу…
— Но в цирк вы все-таки вернулись, а вот мои мальчики хотят уйти…
— Быть этого не может! Они же отличные артисты, с чего это вдруг взбрела им в голову такая мысль? Да они просто шутят.
— Нет, не шутят, — печально качает головой Маша. — Это серьезно. Они и мне этого пока еще не говорили, но я знаю — уйдут… Из-за меня только и работают пока, понимают, что без них развалится наш номер. А я без цирка просто не могу… Это они хорошо знают, потому и не решаются сказать мне о своем уходе.
— Ну что вы так разволновались, Машенька? — кладет руку на плечо девушки Ирина Михайловна. — Они же очень любят вас. И потом, зачем им уходить? Они хорошие гимнасты, а другой профессии не имеют.
— Они хотят учиться, — немного успокоившись, объясняет Маша. — Давно уже готовятся к этому. Как только я засну, сразу же за учебники и все шепчутся, проверяя знания друга друга. А я не сплю, притворяюсь только, почти все их разговоры слышу. В университет они хотят, и непременно на физико-математический.
— Господи, — вздыхает Ирина Михайловна, — просто с ума все мальчишки посходили из-за этой физики! Но ничего, пусть еще попробуют сначала сдать — знаете, какие конкурсы на эти факультеты?
— Они сдадут, — убежденно произносит Маша. — Я их знаю. Ах, если бы они с таким же рвением готовили наш новый номер, как готовятся к экзаменам в университет!
— Не печальтесь, Машенька, мы непременно что-нибудь придумаем, — ласково успокаивает ее Ирина Михайловна. — Постараемся чем-нибудь отвлечь их от физики.
— Ох, едва ли! Вы еще не знаете, что такое физика.
— Я-то не знаю! — смеется Ирина Михайловна. — Да у меня муж доктор физико-математических и сын почти кандидат тех же наук. Мало того — отец готовит новый номер с кибернетическим партнером.
7
Илья вот уже несколько дней ищет подходящего момента, чтобы с глазу на глаз поговорить с отцом, а когда наконец собирается начать такой разговор, неожиданно приходит дед с каким-то долговязым рыжеволосым парнем.
— Андрей Петрович, Илюша, познакомьтесь, пожалуйста. Это наш цирковой художник Юрий Елецкий.
Парень смущенно протягивает огромную руку и басит, заметно окая:
— Какой там художник — просто маляр. Малюю примитивные цирковые плакаты.
— Ну ладно, Юра, нечего кокетничать, — сердится на него Михаил Богданович. — Вы же знаете, что талантливы, ну и не напрашивайтесь на комплименты.
Елецкий краснеет и все больше теряется перед незнакомыми людьми, которых он считает к тому же знаменитыми физиками.
— Не слушайте вы, пожалуйста, Михаила Богдановича, наговаривает он на меня. Какой я талант? Митро Холло уверяет, что от моей живописи разит нафталином, а сам я — гибрид заурядного средневекового живописца с современным фотографом.
Андрей Петрович удивленно переглядывается с Ильей, ничего не понимая, а Михаил Богданович поясняет:
— К нам ходит творить абстрактную живопись еще один художник — Митрофан Холопов, подписывающий свои шедевры — Митро Холло. А славится этот Холло среди молодых художников не столько мастерством, сколько теоретическим обоснованием абстракционизма в живописи. Я-то лично просто авантюристом его считаю, а вот он, — сердито кивает Михаил Богданович на Елецкого, — робеет перед ним, стесняется почему-то своей реалистической манеры.
— Зачем же робеть? — возражает Юрий. — Робеть мы перед ним не робеем, но в споре он нас сильнее, потому что мы его Репиным, а он нас Эйнштейном.
Андрей Петрович, все еще не понимая, с какой целью привел Михаил Богданович этого парня, ссылается на неотложные дела и уходит в свой кабинет. А заинтригованный Илья с любопытством присматривается к Елецкому.
— А мы вот что давайте сделаем — чаю выпьем, — неожиданно предлагает он. — Или вы что-нибудь более крепкое предпочитаете? — вскидывает он глаза на молодого художника.
— Да нет, зачем же более крепкое, — смущенно басит художник. — Чай — это самое подходящее для меня. Я волжанин, люблю чай.
— Ну так мы тогда это в один миг! Ты займи чем-нибудь гостя, дедушка, а я все сейчас организую.
И он уходит на кухню, а Михаил Богданович продолжает, слегка повысив голос, чтобы его мог слышать Илья.
— Этот Митро Холло в споре с молодыми художничками, отстаивающими реализм, буквально за пояс их затыкает. Их аргументация Репиным да Суриковым и в самом деле выглядит какой-то очень уж старомодной в сравнении с его теориями, оснащенными псевдонаучной терминологией.
— Зачем же псевдо, — снова возражает Елецкий. — Терминология самая настоящая, действительно научная. Я, собственно, зачем и пришел к вам, Илья Андреевич, — обращается он к Илье, вернувшемуся из кухни, — чтобы вы помогли нам разобраться, какое отношение к живописи имеет теория относительности Эйнштейна. Митрофан Холопов в каком-то подвале дискуссию устраивает по этому вопросу. Там будут главным образом те, кто именует себя ультраабстракционистами. От нас же, реалистов, только Антон Мушкин да я. Соотношение примерно два к десяти. Я бы и не пошел, но Антон отчаянный спорщик — ни за что не хочет от этой встречи отказываться. Он ведь не столько художник, сколько искусствовед.
— Я знаю этого паренька, — замечает Михаил Богданович, расставляя на столе чайную посуду. — Очень тщедушный на вид, но чертовски азартный. Лезет в драку, невзирая на численное превосходство противника. Абстракционисты эти к нам в цирк в последнее время повадились. Узрели там какую-то динамическую натуру, позволяющую им манипулировать со временем… Как это они называют, Юра?
— Вводить время внутрь пространственного изображения, — уточняет Елецкий, доставая записную книжку. — Разрешите, я вам процитирую, как они это трактуют? Специально записал на всякий случай.
Он торопливо листает страницы и, найдя нужную, читает:
— «Практика изображения в одной картине двух различных аспектов одного и того же объекта, объединение, например, профиля и полного фаса в портрете, или изображения того, что видит один глаз, смотря прямо, а другой— сбоку, означает введение времени внутрь пространственного изображения». Видите, как это у них закручено? Антон Мушкин утверждает, правда, будто вся эта премудрость позаимствована Холоповым из статьи английского историка искусств Арнольда Хаузера.
— А Холопов ни за что не хочет признаться, — г добавляет Михаил Богданович, — что- спекулирует чужими идеями, а Антона Мушкина с его сторонниками прямо-таки заплевал. Надо же еще, чтобы фамилия у него была такая — Мушкин. Они его иначе, как Букашкин, и не называют. В общем, Илюша, должен ты им, Юре и Антону, помочь — пойти на эту дискуссию и разоблачить спекуляцию наших доморощенных абстракционистов теорией относительности Эйнштейна.
— Но ведь я не специалист по эстетике, — смущенно пожимает плечами Илья. — Может быть, вы кого-нибудь другого?
— А им и не нужен специалист по эстетике, — прерывает внука Михаил Богданович. — По этой части Антон Мушкин и сам с ним справится. Но в физике они его сильней. Этот Митро Холло на физико-математическом учился и вот щеголяет теперь сногсшибательной научной терминологией. Дурит людям головы теорией относительности.
Илья хотя и очень сочувствует Юрию и Антону, но не сразу соглашается принять их предложение.
— Следует, пожалуй, раскрыть тебе один секрет, объясняющий особый накал их споров, — продолжает Михаил Богданович неожиданно интимным тоном. — Вы только не обижайтесь на меня за это, Юра. Это я для пользы дела, — обращается он к Елецкому.
Молодой художник краснеет и делает Михаилу Богдановичу какие-то знаки, но старый клоун даже не смотрит на него.
— Главная-то причина тут в Маше, в замечательной нашей гимнастке и милейшей девушке. И дело, конечно, не в том, что именно ее рисуют вторгшиеся к нам абстракционисты «методом введения времени внутрь пространственного изображения», просто все они влюблены в нее. В том числе и Митрофан Холопов с Юрой Елецким. Более того тебе скажу — серьезнее всех влюблен в нее Юра.
— Ну, что вы, право, Михаил Богданович!.. — смущенно улыбается совершенно пунцовый художник.
— Помолчите, Юра! — сердито машет на него Михаил Богданович. — Для того чтобы выиграть бой в берлоге этого Холло, Илье нужно знать все. Дискуссия эта затеяна ими специально ведь для Маши, а Юрий с Антоном приглашены туда лишь для посрамления. Неужели вы не понимаете этого?
Потом он поворачивается к внуку и спрашивает:
— Ну так как же, Илья, готов ты помочь им одержать победу?
Илья протягивает руку Юрию и произносит всего лишь одно слово:
— Когда?
— Завтра вечером.
— Бросаю все дела и сегодня же начинаю готовиться к этой баталии!
Ирина Михайловна возвращается домой в заметно приподнятом настроении.
— Что это вид у тебя сегодня такой веселый? удивляется Михаил Богданович.
— А потому, что от клоунов твоих наконец-то избавилась, — смеется Ирина. — Буду теперь заниматься с воздушными гимнастами. Как тебе нравятся Зарницыны?
— Талантливые, но без огонька. Чего-то у них не хватает. Если бы не Маша, не иметь бы им успеха.
— Согласна с тобой. Зато Маша просто прелесть! Из нее со временем большая артистка выйдет.
— Это о какой Маше вы говорите? — с любопытством спрашивает Илья. — Не о той ли самой?
— О той, — подтверждает Михаил Богданович. — Ты очень давно в цирке не был, а тебе непременно надо на нее посмотреть.
— А вот завтра и посмотрю.
— Не знаю, как она будет выглядеть там, в подземелье, — с сомнением покачивает головой Михаил Богданович. — Ее в цирке, в воздушном полете нужно увидеть.
— О чем это вы? — удивленно смотрит на них ничего не понимающая Ирина Михайловна.
— О завтрашней баталии в берлоге абстракционистов, — смеется Михаил Богданович. — Живописцы во главе с Митрофаном Холоповым будут там кисти ломать в честь нашей Маши.
— Ох этот Митро Холло! — вздыхает Ирина Михайловна. — А противником его будет опять один бесстрашный Антон Мушкин?
— На сей раз еще и твой сын Илья.
8
Подвал Холло оказывается почти на самой окраине /Москвы. Михаил Богданович с Ильей едут туда сначала на метро, затем на троллейбусе и, наконец, на трамвае. Дорогой старый клоун внушает внуку:
— Ты там у них не очень-то стесняйся в выражениях. Я совершенно убежден, что это не столько бездарности, сколько авантюристы. А Юра Елецкий просто феноменально талантлив. Видел бы ты, как он Машу рисует! Не только на нее не глядя, но и на бумагу даже. Буквально с закрытыми глазами. И ведь что досадно — стесняется он этого удивительного своего мастерства. Неловко ему, видишь ли, перед этими мазилами-абстракционистами за свое умение рисовать нормальные человеческие тела и лица. Просто чудовищно!
Михаил Богданович в ярости. В переполненном трамвае на него уже с опаской начинают поглядывать окружающие, а Илья то и дело толкает его в бок:
— Хватит тебе, дед! Ну, что ты так разошелся!
Я ведь и сам понимаю, как важно развенчать этих абстракционистов. Жаль только, что я лишь физику знаю, а надо бы еще и живопись.
— Какую живопись? Да они вообще никакой живописи не признают. Не смей и заикаться там об этом. Все дело только испортишь. На смех они тебя поднимут, сочтут за дикаря. Их надо бить только теорией относительности, квантовой механикой и еще какими-нибудь новейшими теориями. Всех этих премудростей многие из них наверняка не понимают, но уважают. И не потому, что это последнее слово науки, а потому, что модно.
Они выходят из трамвая почти на конечной остановке и долго расспрашивают у какого-то старичка, как пройти на нужную им улицу. Потом идут кривыми переулками, то и дело сбиваясь с пути. А вокруг сплошная тьма. Лишь кое-где сквозь толстые наледи на окнах сочится тусклый, ничего не освещающий свет. Под редкими уличными фонарями лежат бесформенные грязно-желтые пятна, лениво перекатываясь с боку на бок в такт покачиванию фонарей.
— Картинка в типично абстрактном стиле, — усмехается Михаил Богданович.
— Ты еще способен шутить, дед, — мрачно отзывается Илья, — а мне все время кажется, что нас вот-вот огреют чем-нибудь весьма материальным по голове.
— От этих ультрановых представителей живописи и ваяния всего можно ожидать, — охотно соглашается с ним Михаил Богданович и вдруг резко шарахается в сторону — перед ними вырастает какая-то высоченная фигура.
— Да вы не бойтесь, это я — Юрий Елецкий, — слышат они знакомый голос. — Специально поджидаю вас тут, чтобы проводить.
— Ну и напугали же вы меня! — смеется Михаил Богданович. — Я уж и голову в плечи вобрал, ожидая удара. А как там эти гангстеры кисти — собрались уже?
— Все в сборе.
— А Маша?
— И Маша.
— Да как же она решилась прийти сюда, в эту преисподнюю? — удивляется Илья.
— Она храбрая, — не без гордости за Машу произносит Юрий. — К тому же она с братьями.
— Как, и братья ее тоже тут? — удивляется теперь уже Михаил Богданович.
— Они еще больше Маши сегодняшней дискуссией заинтересованы.
— С чего это вдруг?
— Влюблены в физику.
— Этого только не хватало! — всплескивает руками Михаил Богданович. — Они же отличные гимнасты — зачем им физика? Не эти ли «ультра» им головы вскружили?
— Нет, тут дело серьезное, — убежденно заявляет Елецкий. — Вы сами знаете, что они все время что-нибудь изобретают. Но для того, чтобы изобретать, нужно иметь представление о физике. Вот и увлеклись ею. Ломают сейчас голову над тем, чтобы избавиться от лонжей и предохранительных сеток.
— Любопытно, как же они собираются это сделать? — спрашивает Илья.
— С помощью какой-то системы мощных электромагнитов. Пойдемте, однако, пора уже. Это здесь вот, за углом. Осторожнее только — тут сам черт может голову сломать.
— И чего их занесло в такую дыру? — спрашивает Юрия Михаил Богданович, спотыкаясь обо что-то. — Не было разве какого-нибудь подвала поближе?
— Не знаю. Может быть, и не было, только они могли и нарочно подобрать именно этот. Вот сюда, пожалуйста. Вниз по ступенькам.
— В самом деле, значит, подвал, — ворчит Михаил Богданович. — Я думал, он у них условный.
— Подвал-то как раз безусловный, условное все остальное. Дайте-ка руку, Михаил Богданович, я помогу вам спуститься.
— Да вы за кого меня принимаете, Юра? Забыли разве, что я старый клоун-акробат. А эти «ультра» могли бы тут хоть какую-нибудь паршивую лампочку повесить.
К удивлению Елецкого, Илья спускается по шатким ступенькам раньше всех и широко распахивает двери перед дедом.
В помещении, похожем на предбанник, полумрак, но из внутренней, неплотно прикрытой двери лучится яркий свет. Слышатся оживленные голоса.
— Ну, слава те господи! — облегченно вздыхая, шутливо крестится Михаил Богданович. — Преисподняя, кажись, позади.
Они входят в просторное, хорошо освещенное помещение. Стены его увешаны какими-то, напоминающими образцы модных обоев, картинами. Но Илье не это бросается в глаза, а единственная девушка в светло-сером платье, видимо специально посаженная в центре подвала. Илья сразу же догадывается, что это Маша, но он не замечает в ней ничего особенного, даже красоты ее, о которой столько наслышался. Поражает его лишь ее взгляд, устремленный на братьев. В нем настороженность и тревога.
А в том, что стройные молодые люди, сидящие на подоконнике, ее братья, у Ильи не возникает никаких сомнений. Без труда узнает он в невысоком худощавом и очень бледном парне Антона Мушкина. Все остальные расположились на полу полукольцом вокруг Маши. В комнате, кроме ее кресла, вообще нет больше ничего, на чем можно было бы сидеть.
Почти все абстракционисты бородаты. Многие острижены под машинку. Вихраст только один Митро Холло, здоровенный чернобородый детина. На нем клетчатая байковая рубаха с расстегнутым воротом, узкие брюки, типа «техасских».
«Мог бы одеться и пооригинальнее», — невольно усмехаясь, думает о нем Илья. Он не ожидал от главаря этих «ультра» такой дешевки.
— Ну что ж, синьоры, — развязно произносит вожак местных абстракционистов, поднимаясь с пола, — начнем, пожалуй. Кворум у нас полный. Больше даже, чем предполагалось. Сто один процент.
Никто ни с кем не здоровается, никто никого не знакомит, только Маша легонько кивает Михаилу Богдановичу, бросив украдкой любопытный взгляд на Илью. Вся остальная братия Митро Холло продолжает сидеть на полу.
— Ну-с, кто хочет слова? Вот вы, например, мсье Букашкин? — обращается Холло к Мушкину. — Почему бы вам не попробовать покритиковать нас с позиции дряхлеющего реализма.
— А что, собственно, критиковать? — с деланным равнодушием спрашивает Антон. — Что-то я не вижу перед собой произведений искусства.
И он демонстративно осматривает стены, делая вид, что не замечает развешанных на них картин.
— Протрите-ка глаза, детка!.. — басит кто-то с пола.
— Спокойствие, господа, — жестом священнослужителя простирает руки Холло. — Разве вы не понимаете, что это всего лишь примитивный полемический прием? Товарищ Букашкин отлично видит, что перед ним портрет прелестной гимнастки, сработанный в стиле абстрактного восприятия вещества и пространства.
— Вы, конечно, не случайно назвали эту мазню портретами гимнастки, а не портретами Маши, — усмехается Антон. — Ибо Маша — это нечто конкретное, и настолько конкретное, что вы просто не в состоянии его изобразить из-за отсутствия элементарного мастерства. А гимнастка — это, по-вашему, уже абстракция. Тут вы в своей стихии, ибо любой штрих на любом фоне можете объявить «пространством, непрерывностью и временем», как это сделал художник Паризо, изобразивший на желтом фоне коричневые палочки.
Опять кто-то из бородачей подает грубую реплику, но Холло грозно шипит на него. Он совершенно уверен в своей победе над Мушкиным и не торопится расправляться с ним.
— Я умышленно привожу вам примеры «живописи», сработанной в вашей излюбленной манере, в духе пространственно-временного континуума, — с завидным хладнокровием продолжает развивать свою мысль Антон.
— Ну и что же? — нагло таращит глаза Холло. — Что вы хотите этим сказать? Да ничего, видимо, кроме собственного невежества. Вы ведь все еще мыслите категориями прошлого века и смотрите на мир глазами человека, знакомого лишь с геометрией Эвклида, и понятия, наверно, не имеете о геометрии Лобачевского — Римана.
Илью так. и подмывает вступить в бой, но он сдерживает себя, давая возможность парировать первые удары Холло Антону, которого он уже успел оценить как достойного своего соратника. По всему чувствуется, что бой будет жарким, нужно, значит, беречь силы.
— Мы уже знакомы с вашей манерой спекулировать отдельными положениями теории относительности, — спокойно возражает своему оппоненту Антон. — Вам кажется, будто Эйнштейн опрокидывает все прежние представления о времени и пространстве. И этого вам достаточно, чтобы попытаться расправиться с реалистическим искусством, изображающим события в определенный момент времени и в реальном пространстве.
— А вы не занимайтесь демагогией! — выкрикивает кто-то из «ультра». — Что же, по-вашему, теория относительности ничем не отличается от механики Ньютона? Не отрицает ее разве?
— Да учились ли вы хоть в средней-то школе? — не выдержав, восклицает старший брат Маши, Сергей Зарницын. — Должны знать тогда, что теория относительности Эйнштейна вовсе не отрицает физики Ньютона. Она лишь исследует более сложные явления.
— Подкрепи же и ты его чем-нибудь, — толкает внука локтем в бок Михаил Богданович.
Но прежде, чем Илья успевает раскрыть рот, в бой вступает второй брат Маши, Алеша:
— И вообще — читал ли кто-нибудь из вас Эйнштейна?
— А сами-то вы читали? — хихикает какой-то бородач. — Неужто хватало силенок?
— Представьте себе — кое-что читал. И потому знаю, что теория относительности не разрушает прежней физики, но позволяет глубже вникнуть в суть…
— Вот и мы за то же! — прерывает его Холло. — За оценку старых понятий с более современных позиций. Старые понятия не учитывали ведь вращения Земли и изменения в связи с этим течения времени.
— А каковы же, однако, эти изменения? — нарушает наконец молчание Илья.
— Какие бы ни были, но они есть, — неопределенно отвечает Холло.
— А надо бы знать, какие именно, — вставляет замечание и Михаил Богданович.
Все «ультра», как по команде, поворачиваются к своему идеологу, а он угрюмо молчит.
— Ведь вы, Холопов, на физико-математическом учились когда-то, могли бы и знать, — укоризненно качает головой Михаил Богданович.
— Да он это знает, конечно, — понимающе усмехается Антон Мушкин. — Ему просто невыгодно называть цифры.
— А цифры таковы, — спокойно продолжает Илья. — Земля наша, как вам должно быть известно, вращается вокруг своей оси со скоростью ноль целых четыреста шестьдесят три тысячных километра в секунду. А по орбите вокруг Солнца движется она со скоростью тридцати километров в секунду. И даже скорость обращения Солнца со всеми ее планетами вокруг центра Галактики не превышает двухсот сорока километров в секунду. Ну, а течение времени, как вам должно, быть известно, начинает заметно сказываться лишь при скоростях, близких к тремстам тысячам километров в секунду.
Бородачи смущенно ежатся, но Митро Холло все еще не теряет надежды одержать победу.
— Ну, а то, что по Эйнштейну пространство искривлено, — опрашивает он, — вы тоже будете отрицать?
— И не собираюсь, — спокойно покачивает головой Илья. — Установленная Эйнштейном связь между тяготением и геометрией мира подтверждена ведь экспериментально.
— Из этого не следует, однако, что вы имеете право уродовать человеческие тела и корежить натюрморты! — выкрикивает Антон Мушкин.
— Почему же, если факт искривления пространства подтвержден экспериментально? — усмехается заметно воспрянувший духом Митро Холло. — В наше время только метафизики изображают пространство прямыми линиями.
— А вы знаете, каково реальное искривление этих прямых линий в природе? — спрашивает Илья. — В настоящее время совершенно точно установлено, что световые лучи, испускаемые звездами, проходя мимо Солнца, искривляются лишь на ноль целых восемьдесят семь сотых угловой секунды. К тому же эта кривизна сказывается только при длине луча, равной примерно ста пятидесяти миллионам километрам. А каковы размеры вашей натуры?
Кое-кто из «ультра» смущенно хихикает. Они заметно обескуражены и уже без прежнего почтения поглядывают на своего вдохновителя.
— В стане врагов явное смятение, — шепчет Илье Михаил Богданович. — Пора наносить им решающий удар.
— Давайте поговорим теперь начистоту, товарищ Холопов, — как физик с физиком. Разве же вы не понимаете, что для того, чтобы иметь основание применять в живописи эйнштейновскую трактовку пространства-времени, нужно, чтобы натура живописца либо сам живописец двигались со скоростью света?
— А это явный абсурд, — запальчиво восклицает Сергей Зарницын.
— Но, допустим, однако, возможность такого движения художника к его натуре или наоборот — натуры к художнику, — спокойно продолжает свое рассуждение Илья. — Что же тогда произойдет? А произойдет то, что и объект произведения и его творец, сокращаясь в направлении своего движения, просто перестанут существовать друг для друга как протяженные тела. И будет все это в строгом соответствии с законами той самой теории относительности, на которую вы так опрометчиво ссылаетесь.
Теперь смеются уже все абстракционисты. Растерянно улыбается и сам Холло.
9
Маша плохо спит эту ночь. Ей снятся изуродованные человеческие тела, скомканные пространства, чудовищные галактики, излучающие диковинно искривленные лучи. Лишь изредка мелькают нормальные человеческие лица и среди них строгий профиль Ильи Нестерова. У абстракционистов она видела Илью впервые, и он запомнился ей. И, как ни странно, во сне она разглядела его лучше, чем тогда в подвале. Он очень похож на свою мать, Ирину Михайловну. Такой же энергичный профиль и красивые глаза. А густые брови — это у него, видимо, от деда, Михаила Богдановича.
Проснувшись, Маша думает, что уже утро, но из-под дверей комнаты братьев сочится электрический свет, — значит, еще ночь и они сидят за своими книгами или шепчутся, обмениваясь впечатлениями от схватки с абстракционистами.
Надо бы пойти, заставить их лечь спать, но у нее нет сил подняться с дивана. Она чувствует себя такой усталой, будто весь день провела на изнурительной репетиции. Да и просыпается она только на несколько мгновений и тут же снова засыпает. Лишь пробудившись в третий раз и снова увидев свет под дверью братьев, она поднимается наконец и идет к ним, полагая, что они давно уже спят, забыв выключить электричество.
Она бесшумно открывает дверь, чтобы не разбудить их, и видит братьев сидящими за столом в пижамах и с такими перепуганными лицами, будто она застала их на месте преступления.
— Ну, куда это годится, мальчишки! — строго говорит Маша. — Уж утро скоро!
— Что ты, Маша, какое утро — всего час ночи и мы как раз собирались лечь.
Она недоверчиво смотрит на часы и укоризненно качает головой.
— Не час, а второй час. И впереди, сами знаете, какой день. Но раз уж вы не спите, давайте поговорим серьезно.
Маша хмурится и неестественно долго завязывает пояс халата. Братья угрюмо молчат.
— Я ведь все знаю, — продолжает она наконец, садясь между ними и положив им руки на плечи. — Особенно почувствовала это на дискуссии с абстракционистами. Но и раньше знала, чем вы бредите, что у вас на уме. Надо, значит, решать, как нам быть дальше. А так больше нельзя…
— О чем ты, Маша? — робко спрашивает Алеша.
— Вы же сами знаете, о чем. И не будем больше притворяться друг перед другом. Раз вы не можете без вашей физики, надо бросать цирк и поступать в университет.
— Да что ты, Маша!.. — восклицают оба брата разом.
Но она закрывает им рты ладонями своих еще теплых после постели рук.
— Только не оправдывайтесь, ради бога, и не жалейте меня. Ужасно не люблю этого. Я же хорошо знаю, о чем вы сейчас думаете. Вспоминаете, наверное, как мы остались без матери, — отца-то вы вообще не помните, — как я заменила вам ее, как… ну, да, в общем, я все понимаю и незачем все это…
— Ты прости нас, Маша, — виновато произносит старший брат. — Нам действительно давно нужно было поговорить. Мы как раз только что снова все взвешивали, и ты сама должна понять, как все это нам нелегко.
— Да что тут нелегкого-то? — деланно смеется Маша, прекрасно понимая, как им в самом деле нелегко.
— Ты сама же предложила поговорить серьезно. Вот и давай… Зачем, ты думаешь, мы на физико-математический? Помнишь, как всегда увлекались мы изобретательством?
— Еще бы! — усмехается Маша. — С тех пор еще помню, когда вы мальчишками были. Только я думала, что вы этим уже переболели.
— А усовершенствование нашей аппаратуры?
— Ну, это другое дело. Это уже серьезно. Но ничего не получилось ведь пока.
— А почему? — взволнованно хватает Машу за руку Алеша. — Задумали очень серьезно, а знаний для этого… Ну, в общем, ты сама должна понимать.
— Так зачем же вы тогда на физико-математический? — удивляется Маша. — Вам бы в какой-нибудь технический, на конструкторское отделение.
— Ну что ты равняешь технический с физико-математическим! — почти с негодованием восклицает Алеша. — Разве в технике возможно такое, как в физике? Техника лишь опирается на науку, а физика двигает ее вперед, совершает в ней революцию. Да и мы не собираемся только усовершенствованием цирковой аппаратуры заниматься.
— Ну, тогда как знаете… — уныло произносит Маша.
— Но ты не думай, что мы тебя бросим, — пытается утешить ее Алеша. — Мы пока только на заочный…
— Нет, мальчики, я с вами все равно уже больше не смогу, раз у вас все мысли за пределами цирка, — печально качает головой Маша.
— Объясни, почему? — хмурится Сергей.
— Я же объяснила: потому, что вы уже не со мной. Потому, что работаете без души, как автоматы. И ждете не дождетесь, когда кончится репетиция, чтобы засесть за учебники. А в цирке надо репетировать и репетировать, шлифовать и шлифовать каждое свое движение. Ирина Михайловна мне вчера сказала, что воздушным гимнастам нужно тренироваться до тех пор, пока воздух не станет для них таким же надежным, как и земля. А это значит, что тренироваться надо все время, каждый свободный час, каждую минуту. Но ведь вы так уже не сможете… И не делайте, пожалуйста, протестующих жестов! Привычные прежде слова: «Внимание! Время! Пошел! Швунг! Сальто!», — наверное, звучат теперь для вас, как удары бича…
— Ну что ты, Маша! — делает протестующий жест Алеша. — Мы по-прежнему любим.
— Ничего вы больше здесь не любите! — уже не сдерживая досады вырывает у него руку Маша. — Но я вас не виню, давайте только договоримся, что работать со мной вы будете лишь до осени, а потом уйдете в университет. А я тем временем подготовлю новый номер. Мне обещает помочь в этом Ирина Михайловна. А теперь идемте спать!
И она уходит, притворяясь совершенно спокойной, а потом плачет всю ночь, спрятав голову под подушку.
Назад: ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Дальше: Примечания

