Часть вторая
Дальнейший ход кампании
Генерал Барклай, оставив на среднем течении Двины под командой генерала Витгенштейна около 25 000 человек для прикрытия дороги на Петербург, с разрешения императора выступил 14 июля из Дриссы, где, следовательно, задержался всего лишь 6 дней, и направился к Витебску. Мешкать, конечно, не приходилось, так как, в сущности говоря, французы уже давно могли туда подойти. Только продолжительная остановка их в Вильно дала возможность выполнить это фланговое движение для выхода на Московскую дорогу. Барклай надеялся, что там он, во всяком случае, сможет соединиться с Багратионом; ему была обещана позиция более сильная, чем у Дриссы. Во всяком случае, он выигрывал дорогу на Москву и мог по справедливости благодарить бога прежде всего уже за то, что ему удалось выбраться из дрисской мышеловки. Значительное ослабление армии вследствие выделения корпуса Витгенштейна было, конечно, большим минусом, тем более что силы и так были неравны, и это с каждым днем становилось все более ясным. Однако можно было рассчитывать, что французы оставят против Витгенштейна лишь соответствующие силы; к тому же было совершенно немыслимо оставить без всякого прикрытия дорогу к столице, в которой находилось правительство, потому что при огромном превосходстве сил французов представлялось вполне возможным, что Наполеон пошлет значительные силы на Петербург, и, несмотря на удаленность от операционной линии на Москву, все же в конечном счете Петербург сможет быть захвачен. Выделение же значительного русского корпуса для прикрытия этой дороги делало такой проект почти невыполнимым, так как к этому корпусу впоследствии могли бы присоединиться резервы, ополчение и пр., а французам пришлось бы направить туда значительно бóльшие силы, чтобы иметь возможность достичь Петербурга со сколько-нибудь соответственными видами. Следовательно, выделяя корпус Витгенштейна, Барклай действовал вполне разумно.
Тем не менее это ставило армию в Витебске в чрезвычайно опасное положение, так как можно было предвидеть с достаточной уверенностью, что Багратион туда не подойдет, а расчет на сильную позицию, если бы даже таковая действительно была создана, сам по себе являлся недостаточным. К этому надлежит добавить, что движение к Витебску являлось подлинным фланговым маршем протяжением в 24 мили, что одно уже представляло значительные трудности, так как французы снова пришли в движение и выдвинули свой центр в Глубокое. Марш был в достаточной мере защищен Двиною, но под самым Витебском надо было переправиться на левый берег, а это легко могло оказаться невыполнимым. Русской армии и на этот раз повезло, и, пожалуй, одной из величайших ошибок, допущенных Наполеоном, было то, что он не извлек крупного преимущества из ошибочного отхода русских к Дриссе.
Марш к Витебску был выполнен в 10 дней, следовательно, без какой-либо излишней поспешности, так как кавалерийские части выяснили, что французы еще не взяли направления на Витебск.
Прибыв в Витебск, Барклай прошел через город и развернул армию на левом берегу Двины, имея перед фронтом небольшой ручей, впадающий в Двину под Витебском, а город на правом фланге. Это расположение было так намечено, чтобы путь отступления, т. е. дорога на Москву через Поречье, представлял продолжение левого фланга, в тылу же на расстоянии одной мили находилась Двина, которая здесь протекает в довольно глубокой долине. Более отвратительное поле сражения трудно себе представить. На следующий день после своего прибытия генерал Барклай продвинул вперед к Островну в качестве авангарда корпус генерала Толстого-Остермана. 25 июля Мюрат атаковал последнего и нанес ему чувствительное поражение, так что 26-го пришлось выслать вперед для усиления Толстого-Остермана еще одну дивизию под командой генерала Коновницына. Все эти силы отступили на расстояние нескольких миль от Витебска. В тот же день подошел наконец в Витебск последний корпус генерала Дохтурова с общим арьергардом под командой генерала Палена, и 27-го рано утром Пален был выдвинут вперед навстречу неприятелю на смену оттесненному авангарду.
Трудно понять, почему генерал Барклай выполнял свой марш к Витебску столь медленно. Тогда говорили, что это имело целью дать время обозам уйти вперед; эта причина, а также, быть может, смутная идея соразмерять свой марш с маршем неприятеля и не очищать территории в большем размере, чем это оказывается необходимым, могли явиться оправданием такого образа действия. Барклай чуть было не поплатился за такое несвоевременное хладнокровие.
Под Витебском действительно намеревались дожидаться Багратиона, который, как предполагали, находился в направлении на Оршу, и в случае необходимости имелось в виду даже принять здесь сражение. Эта мысль являлась в высшей степени нелепой, и мы назвали бы ее безумной, если бы спокойный Барклай был способен на нечто подобное. Русская армия, не считая казаков, насчитывала приблизительно 75 000 человек. Двести тысяч неприятеля могли каждую минуту подойти и атаковать ее. По самой скромной оценке силы противника достигали 150 000. Если бы позиция русских оказалась обойденной с левого фланга, а это можно было наперед предсказать с математической точностью, то для них почти не оставалось никакого отступления, и армия не только была бы отброшена от дороги на Москву, но и оказалась бы под угрозой полной гибели.
Барклай занимал эту позицию уже пятый день, и все полагали, что он твердо решил принять здесь сражение, которое, как некоторые утверждали, он желал дать еще в Вильно, и только у Дриссы считал его крайне несвоевременным. Автор был в полном отчаянии от этой мысли. Корпус генерала Палена, при котором он состоял, от самого Полоцка составлял арьергард, но ему почти не пришлось встретиться с неприятелем, так как главные силы его двигались по левому берегу Двины. 26 июля после большого перехода этот корпус прибыл ночью в Витебск и должен был выступить на рассвете по дороге на Сенно, причем его состав был доведен до 14 батальонов, 32 эскадронов и 40 орудий.
Генерал Пален занял со своим корпусом позицию приблизительно в 2 милях от Витебска с правым крылом, опирающимся на Двину; фронт был прикрыт небольшим ручьем. Не совсем удачно расположил он всю свою кавалерию на правом фланге, руководствуясь тем, что здесь между краем долины, довольно густо заросшим деревьями и кустарником, и рекой находилась небольшая равнина, а по общепринятым взглядам кавалерии подобает находиться на равнине. Пространство это, однако, было настолько узко, что ее пришлось разместить в шахматном порядке в три или четыре линии, вследствие чего она в бою понесла большие потери от неприятельского артиллерийского огня.
Высоты были заняты пехотой и артиллерией. Однако все четырнадцать батальонов были в очень слабом составе и в общей сложности состояли лишь из 3000–4000 человек; при этом желательно было занять не слишком узкий фронт, чтобы сколько-нибудь прикрыть дорогу; это было особенно необходимо, так как в тылу проходила глубокая долина Лучесы; в результате пришлось принять очень неглубокое построение, хотя и в две линии, но с большими интервалами между батальонами. На левом фланге не было какого-либо опорного пункта, что было вполне естественно, так как при столь коротком фронте нелегко найти опору для обоих флангов; поэтому при полном отсутствии резервов и неглубоком построении всякий охват нашего левого фланга представлял большую опасность. Многочисленные участки леса и кустарника, находившиеся как на самой позиции, так и вокруг нее, препятствовали обзору и этим еще более ухудшали положение. При таких условиях сопротивление не могло быть особенно упорным, и если оно все же длилось от 5 часов утра до 3 часов пополудни, то это нужно приписать лишь крайне вялому натиску французов.
Это обстоятельство кажется совершенно непонятным, так как сам Наполеон прибыл в авангард и лично руководил боем. Но, как теперь нам стало известно, он предполагал, что русская армия продолжает удерживать свою позицию под Витебском, и готовился к большому сражению.
Граф Пален отступил за Лучесу на ту самую позицию, которую перед тем занимала русская армия и которую генерал Барклай покинул в тот же день.
Когда французская армия серьезно придвинулась вплотную, Барклай начал испытывать некоторую тревогу относительно положения, в котором он собирался дать сражение, и потому в последнюю минуту изменил свое решение.
Нам еще не раз предстоит встретиться с подобным образом действий со стороны Барклая. В данном случае это явилось истинным счастьем, и мы вправе сказать, что русская армия здесь вторично была спасена.
Автор чувствовал себя вполне счастливым и готов был на коленях благодарить бога за то, что он отклонил наш путь от разверзшейся бездны.
Бой, данный графом Паленом, произвел на автора крайне отрицательное впечатление. Расположение, занятое графом, совершенно не соответствовало тем правилам и взглядам, которые автор усвоил себе относительно употребления войск в бою. Хотя местность на высотах за краем долины являлась не вполне открытой, но все же она не представляла собой густого леса. Для небольших кавалерийских частей, состоявших из двух-трех эскадронов или полка, повсюду представилась возможность проявить свою деятельность; поэтому следовало бы кавалерию поставить позади пехоты. Построение благодаря этому приобрело бы большую глубину, и из всей массы конницы можно было бы взять два-три полка на левый фланг для наблюдения, а другие два полка – для поддержки пехоты. При таком построении различные роды оружия оказали бы друг другу взаимную поддержку, а на высотах мы были бы вдвое сильнее. Ведь все зависело от положения дел на этих высотах, так как над узкой равниной между ними и рекой, едва достигавшей 600 шагов в ширину, можно было господствовать одним лишь артиллерийским огнем; да и вообще неприятель не мог продвигаться в промежутке между нашей позицией и рекой.
Так как автор находился при графе Палене еще всего одну неделю, то, естественно, он не успел приобрести на него большого влияния, а граф Пален занял свою первоначальную позицию, не подумав о том, чтобы с кем-нибудь поговорить об этом. После того как войска уже таким образом расположились, в дальнейшем ничего путного получиться и не могло; кроме того, в самом бою активное участие в нем иностранца, не владеющего языком страны, почти невозможно. Прибывают донесения на русском языке, по поводу этих донесений идет перекрестный разговор, приказания отдаются на русском же языке, и, таким образом, руководство всем боем проходит на глазах иностранного офицера, причем он не может понять ни одного слова из всего сказанного. Может ли он потребовать от командира корпуса или хотя бы от другого хорошо осведомленного офицера перевода всех донесений, соображений и распоряжений! Не успеешь оглянуться, как утрачиваешь понимание общей связи событий, и если иностранец не является крупной персоной, то он теряет всякую возможность проявить себя. Таким образом, первый бой, в котором автор мог бы по занимаемой им должности оказать известное влияние на способ использования имевшихся сил, получил оформление, совершенно противоречившее его убеждениям, причем он сам чувствовал себя настолько бесполезным, что предпочел бы находиться в строю в роли младшего офицера. Поэтому он очень обрадовался, когда вместе с подкреплениями, подошедшими 27 июля, уже после боя, к корпусу Палена прибыл и старший в чине офицер генерального штаба. С этого времени автор, по крайней мере, не чувствовал себя ответственным за успех тех распоряжений, на содержание которых он не мог оказать никакого влияния.
27-го Барклай выступил тремя колоннами на Смоленск, куда направился и Багратион после тщетной попытки пробиться через Могилев. Марш на Смоленск совершен был главными силами по дороге на Поречье, следовательно, довольно кружным путем; один лишь Дохтуров двигался по прямой дороге на Рудню. Совершенно непонятно, почему Наполеон не продвинул вперед свое правое крыло, чтобы перехватить у русских этот путь. Правда, он не мог бы этим преградить русским дорогу на Москву, так как отступающий всегда может кружным путем вновь опередить противника, и если он не взял совершенно ложного направления, то в обширной стране его нелегко отрезать. Однако для русских представляло все же немалый, хотя и побочный интерес попасть в Смоленск, чтобы скорее соединиться с Багратионом; в Смоленске можно было продержаться несколько дней; там находились значительные запасы и кое-какие подкрепления, поэтому для Наполеона, безусловно, представляло интерес отбросить русских от этого города. Однако он преследовал русских только до Рудни и сделал в Витебске вторичную остановку, во время которой подтянул к себе остальные части своего правого крыла, имевшие задачу действовать против Багратиона и по возможности его отрезать. Таким образом, русские, занимавшие ранее растянутую линию фронта, выиграли время для того, чтобы соединиться у Смоленска, причем ни одна часть не была отрезана. Итак, ошибочное движение их к Дриссе пошло им на пользу. Переход до Смоленска был выполнен без малейших затруднений, и арьергардам всех трех колонн, хотя они находились ежедневно на виду у неприятеля, не пришлось выдержать ни одного серьезного боя.
Итак, результатом похода до сих пор было то, что русские очистили полосу своей территории глубиной в 60 миль и пожертвовали всеми находившимися там довольно значительными складами. Людей же и орудий они потеряли сравнительно немного: около 10 000 человек и 20 орудий. Теперь у них была большая армия в 120 000 человек в центре и две небольшие армии, приблизительно по 30 000 человек каждая, на флангах. Кроме того, вступали в дело Рига и Бобруйск; Бобруйская крепость была поддержана наблюдательным корпусом Гертеля, стоявшим под Мозырем.
Между тем французы в первые же недели их наступления понесли огромные потери больными и отставшими и терпели такие лишения, что нетрудно было заранее предвидеть в ближайшем будущем полное их истощение. Это не укрылось от русских. Генерал Шувалов, посланный из Свенцян в главную квартиру французского императора с политическим поручением, вернулся в Видзы в полном изумлении от того состояния, в котором он нашел большую дорогу, по которой следовали французские войска; она вся была усеяна трупами лошадей и была полна заболевшими и отставшими. Всех захватываемых пленных особенно подробно расспрашивали относительно получаемого продовольствия; выяснилось при этом, что уже под Витебском лошади французской армии получали один лишь зеленый корм, а людям вместо хлеба выдавалась мука, которую им приходилось класть в суп. Единственное исключение в этой картине продовольственного неблагополучия представляла гвардия. Отсюда делали вывод о значительном численном ослаблении неприятельской армии; и если огромная фактическая убыль все же значительно недооценивалась, то эта ошибка уравновешивалась тем, что первоначально определяли численность неприятельских сил ниже, чем она была в действительности.
При открытии военных действий численность французских сил, включая сюда и союзников, определяли в 350 000 человек; теперь мы знаем, что она превышала 470 000. Когда русские находились под Смоленском, им было известно, что около 150 000 человек было оставлено под Ригой, против Витгенштейна, под Бобруйском и против Тормасова. Следовательно, русские полагали, что главная армия уменьшилась до 200 000 человек, затем исключили гарнизоны, оставленные на важных этапах и в разных городах, а также больных, убитых, раненых и отставших, общее числе которых предполагалось всего лишь в 50 000 человек. В итоге сила главной армии французов определялась русскими всего в 150 000. Правда, и в этом случае на стороне французов сохранялось превосходство сил, но не настолько большое, чтобы мысль о возможности победы над ними была совершенно исключена.
Подсчеты русских не вполне совпадали с действительностью, так как центр Наполеона тогда, т. е. в начале августа, достигал еще 180 000 человек.
Впрочем, такая ошибка простительна во время войны, где каждый день приходилось совершать марши и когда не было времени собирать в достаточном количестве необходимые данные.
Когда русский император Александр покинул армию, то выполняемые им функции по верховному командованию отпали, и тем самым Барклай обратился в самостоятельного командующего первой западной армией. Однако император формально не передавал генералу Барклаю верховного командования над обеими армиями, опасаясь обидеть князя Багратиона. Правда, Барклай был старшим генерал-аншефом (генералом-от-инфантерии), и этого обстоятельства в крайнем случае было бы достаточно для того, чтобы иметь некоторый авторитет перед другими генералами; однако для такого ответственного поста, как командование армиями, значение одного старшинства в чине никогда не считалось достаточным, и во всех государствах признавалось необходимым специальное полномочие монарха. Так как Багратион был лишь немногим моложе Барклая, а боевая слава обоих была приблизительно одинаковая, то император, конечно, предвидел, что определенно подчеркнутое подчинение его Барклаю будет обидным. Как собственно обстояло дело с главнокомандованием, никто в точности не знал, да и теперь, я полагаю, историку нелегко ясно и определенно высказаться по этому вопросу, если он не признает, что император остановился на полумере; надо полагать, что он рекомендовал князю Багратиону входить в соглашение с Барклаем по всем вопросам вплоть до изменений в группировке. Автору неизвестно, имелось ли уже тогда намерение поставить во главе обеих армий князя Кутузова, одного, в войсках стали говорить об этом назначении лишь незадолго перед тем, как оно состоялось, и притом как о мере, ставшей необходимой вследствие нерешительности Барклая. По всей вероятности, император захотел посмотреть, как поведет дело Барклай, и тем самым оставить себе открытым путь для назначения другого главнокомандующего.
Когда Барклай прибыл в Смоленск, то Багратион заявил, что весьма охотно будет служить под его начальством; армия радовалась такому единению, но, по правде говоря, оно было недолговечным, потому что скоро выявилось различие во взглядах, и на этой почве возникли недоразумения.
Но до соединения с Багратионом Барклай мог действовать вполне по собственному усмотрению. Он все время сознавал себя обязанным дать сражение, так как непрерывное отступление вызывало в армии явное недоумение. Впечатление создавалось тем более отрицательное, что приходили известия о блестящих победах на второстепенных фронтах. Засада, устроенная Платовым у Мира 10 июля, привела к весьма блестящему результату; бой Багратиона под Могилевом 21 июля изображался как победоносный прорыв; блестящий захват в плен бригады Кленгеля в Кобрине Тормасовым 26 июля произвел сильное впечатление, о победе Витгенштейна, одержанной им 31 июля под Клястицами, много говорили, умалчивая о неудаче, которая на следующий день постигла его авангард под начальством генерала Кульнева. В первую минуту после получения всех этих сведений моральное состояние и уверенность войск повышались; но когда затем убеждались, что все эти успехи не приостанавливают отступления, то эти чувства быстро переходили в полное недоверие, недовольство и апатию. Раньше никто не думал и не мог себе представить, что возможно отступить до Смоленска, не попытавшись даже принять серьезное сражение. Между тем необходимость предварительного соединения с Багратионом являлась достаточным и слишком определенным основанием, которое должен был бы понять любой офицер русской армии.
Таким образом, для отхода до Смоленска у Барклая имелось достаточное оправдание, но с тем большей уверенностью все ожидали здесь сражения; то, что русская армия была еще слишком слаба, что, отступая, она все более и более усиливалась, – все это принадлежало к числу тех соображений, которые никому не приходили в голову. Сам Барклай не отдавал себе в этом ясного отчета, им более руководил естественный страх перед бесповоротным решением и тяжкой ответственностью, чем ясное убеждение. В глубине души он чувствовал себя более склонным к воздержанию от решительных действий, чем к торопливости.
Его штаб, а именно генерал Ермолов и полковник Толь, мыслили, как и вся армия: довольно отступать. Превосходство сил, какое еще сохранялось у противника, могло быть уравновешено русской храбростью и русской тактикой. Особенно была сильна вера во внезапный переход в наступление, который должен сотворить чудо.
Так ведь написано во всех книгах. Багратиона, пользовавшегося славой хорошего рубаки и, как это всегда бывает с людьми такого рода, смотревшего на неудовлетворительные до сих пор результаты похода со скептическим покачиванием головы, легко было склонить на сторону этой идеи. Итак, полковник Толь пустил в ход все свое красноречие для того, чтобы убедить Барклая, что настало время нанести врагу решительный удар. Французская армия, как говорили они, теперь уже не обладает таким большим превосходством сил над русской.
Первый момент после соединения армий – якобы наилучший для внезапного перехода в наступление. Смоленск – весьма важный пункт, город, которым русские особенно дорожат и из-за которого стоит рискнуть кое-чем.
Французская армия разбросана по квартирам на широком пространстве, а это дает твердые основания рассчитывать на то, что удастся заставить ее принять бой до полного сосредоточения; тем самым может быть устранена невыгода, возможно, еще имеющегося численного превосходства противника.
Наступление дает огромное преимущество, а русский солдат гораздо более пригоден для атаки, чем для обороны. Последнее свойство, как известно, приписывают себе решительно все армии.
Наконец Барклай дал себя убедить, и 8 августа он двинул всю армию к Рудне, в районе которой рассчитывали встретить центр неприятельской армии.
Однако уже на первом переходе распространилось известие, что главные силы неприятеля находятся на дороге в Поречье, а при таких условиях удар по воздуху в направлении Рудни являлся чрезвычайно опасным предприятием, так как он мог привести к потере пути отступления. Хотя это известие не было достоверным и представляло скорее плод различных соображений и догадок и хотя такое сосредоточение французской армии было явно неправдоподобно, так как дорога на Поречье отнюдь не лежала в том направлении, которого до сих пор держался противник, угрожая все время русской армии своим правым флангом, однако невозможно было уговорить Барклая предпочесть неизвестное известному и помешать ему самому пойти с первой армией по дороге на Поречье, задержав на дороге в Рудню вторую армию.
В русской армии сожалели об отказе от наступательных действий, так как генерал Платов на второй день наступления, раньше чем пришел приказ приостановить его, внезапно напал на передовые части авангарда Мюрата под командой генерала Себастиани и захватил обоз этого генерала и 500 человек пленных; всеми это рассматривалось как удачный почин, суливший наилучший успех всему предприятию в целом. Багратион также был чрезвычайно недоволен отменой первоначального решения, и с этого времени стали постоянно возникать разногласия и споры между обоими генералами.
Хотя это наступление русских едва ли привело бы к действительной их победе, т. е. к такому сражению, в результате которого французы были бы вынуждены, по меньшей мере, отказаться от дальнейшего продвижения или даже отойти назад на значительное расстояние, но все же оно могло развиться в отчаянную схватку. Действительно, при столь широкой разбросанности расположения французской армии быстрый натиск привел бы к отступлению тех частей, которые оказались бы под ударом. А если бы все три колонны русской армии держались в такой близости друг от друга, что могли бы еще в тот же день выполнять отданные утром приказания главнокомандующего, то открывалась возможность охватывающей и весьма успешной атаки тех корпусов, которые непосредственно оказались бы перед русскими войсками; неприятель мог бы понести весьма чувствительный урон, не говоря уже о менее значительных потерях соседних частей, связанных с их поспешным и более или менее беспорядочным передвижением. Все предприятие в целом дало бы в конечном результате несколько блестящих стычек, значительное число пленных и, быть может, захват нескольких орудий; неприятель был бы отброшен на несколько переходов, и, что важнее всего, русская армия выиграла бы в моральном отношении, а французская – проиграла бы. Но добившись всех этих плюсов, все же, несомненно, пришлось бы или принять сражение со всей французской армией, или продолжить свое отступление. Если бы в основе добровольного отхода к центру Европейской России лежала какая-то система, то дальнейшее отступление было бы возобновлено без колебаний, и на весь этот эпизод пришлось бы смотреть лишь как на крупную вылазку из крепости. Но мы не видим и следа подобного подхода к отступлению со стороны тех лиц, которые руководили военными действиями; не подлежит ни малейшему сомнению, что после первых же успехов наступления они сочли бы своей обязанностью и далее сражаться с сосредоточившимися силами неприятеля, чтобы не подать вида, что русские потерпели неудачу; таким образом, тотчас же после достигнутых первых успехов русским, по всей вероятности, пришлось бы дать оборонительное сражение, исход которого не подлежит никакому сомнению, хотя бы из-за соотношения сил той и другой стороны. Это, надо полагать, и рисовалось Барклаю как исход всего этого предприятия, а такой финал, конечно, не являлся соблазнительным, в особенности при наличии угрозы обхода.
Такой нам представлялась операция в то время; мы и теперь не имеем каких-либо оснований менять свои взгляды. Полководец, который ясно держал бы в своем сознании план глубокого отступления внутрь страны, который был бы проникнут убеждением, что на войне часто следует действовать, не имея достоверных данных, а опираясь лишь на вероятность, и который имел бы достаточно мужества, чтобы кое-что оставить на долю удачи, такой полководец 9 августа дерзко продолжал бы начатое движение и в течение нескольких дней испытывал бы свое счастье в наступлении. Но такой генерал, как Барклай, который ждал спасения только от одержания полной победы, который считал себя обязанным искать таковую в правильном и осторожно подготовленном сражении, который тем более прислушивался к внешним объективным доводам, чем больше в нем замолкали внутренние субъективные, – такой генерал, конечно, не мог не найти во всех обстоятельствах вполне достаточных оснований для того, чтобы отказаться от намеченного предприятия. Мнение полковника Толя и тех офицеров генерального штаба, которые особенно горячо настаивали на продолжении наступательной операции, сводилось к тому, что внезапность наступления и неожиданное нападение на разбросанную неприятельскую армию уже сами по себе вырывают победу и опрокидывают врага. Подобные взгляды, выраженные в такой формулировке, представляют великое зло в военном искусстве, так как они обладают своего рола силой терминологического доказательства, а по существу не содержат в себе никакой определенной мысли. Весь исторический опыт свидетельствует, что подобными стратегическими внезапными нападениями редко достигается подлинная победа, выигрывается лишь известное пространство территории и создаются выгодные предпосылки для сражения. Ведь для того, чтобы одержать настоящую победу, необходимо встретить значительную часть неприятельской армии и вынудить ее принять сражение, и притом в таких условиях, чтобы иметь возможность охватить ее и таким образом добиться наибольшего успеха. Нужно помнить, что одно простое отталкивание противника по прямой линии, которое могло бы сойти за победу, когда оно захватывает всю неприятельскую армию, не является таковой, когда оно направлено лишь против одной ее части. Неприятельские корпуса редко принимают такой удар; большинство их форсированным маршем стремится достигнуть расположенного позади сборного пункта, и за исключением случаев, когда географические условия особенно благоприятствуют этому, редко удается где-либо нанести противнику подлинно крепкий удар. Правда, неприятельская армия таким неожиданным нападением приводится в менее выгодное по сравнению с предшествовавшим положение, но отнюдь не в состояние армии разбитой, и если наступающая армия ранее не располагала достаточными силами, чтобы дать настоящее сражение, то едва ли она окажется в состоянии дать его и вследствие полученных преимуществ. Что выбор хорошей позиции, знакомство с местностью и устройство укреплений дают обороняющемуся в сражении значительные выгоды, когда-нибудь будет считаться вполне естественным и раз и навсегда решенным, но для этого надо ясно и твердо установить понятия и каждое из них поставить на свое место. Но еще теперь и в еще большей мере в 1812 г. наступательная форма войны почиталась подлинным волшебным средством, так как наступавшие и продвигавшиеся вперед французы являлись победителями. Тот, кто основательно продумает этот вопрос, должен будет себе сказать, что наступление является на войне слабейшей формой, а оборона сильнейшей, но что первая преследует положительные и, следовательно, более крупные и решительные цели, вторая же – лишь отрицательные, благодаря чему устанавливается равновесие между ними и одновременное существование обеих форм становится возможным. От этого отступления, уж слишком углубившегося в теорию, вернемся к генералу Барклаю.
Кампания в целом, как она впоследствии сложилась, являлась единственным способом достижения столь полного успеха, но в этой кампании намеченная наступательная операция не представляла какой-либо существенной части, и если ей было суждено завершиться проигранным сражением, то полный отказ от нее надо только приветствовать. Во всяком случае можно было уже предвидеть, что через 4 недели победа станет возможной и даже вероятной, а выиграть еще четыре недели времени до Москвы было возможно.
Тем временем окружавшие Барклая опять принялись за работу, чтобы побудить его предпринять новое наступление; и действительно, простояв 4 дня на дороге в Поречье, он снова совершил 13-го и 14-го два перехода по направлению к Рудне, но на этот раз было уже слишком поздно. Первая попытка атаковать французов вынудила их покинуть квартиры, в которых они расположились на отдых, и они снова двинулись вперед, 14-го перешли через Днепр близ Расасны и пошли на Смоленск. Это побудило сперва Багратиона, а за ним и Барклая двинуться к Смоленску, так как 15-го дивизия Неверовского, выдвинутая навстречу французам к Красному, после крайне неудачного боя укрылась в Смоленске.
Этот город, один из наиболее значительных в России, насчитывал 20 000 жителей, имел старинную крепостную стену вроде той, какая окружает Кельн, и несколько плохих полуразрушенных земляных укреплений бастионного типа. Местоположение Смоленска настолько неблагоприятно для устройства здесь крепости, что потребовались бы крупные расходы на превращение его в такой пункт, который стоило бы вооружить и обеспечить гарнизоном. Дело в том, что город расположен на скате высокого гребня левого берега реки; вследствие этого с правого берега реки очень ясно просматривается весь город и все линии укреплений, спускающиеся к реке, хотя правая сторона и не выше левой; такое положение является противоположным хорошо укрытому от взоров расположению и представляет собой наихудшую форму нахождения под господствующими высотами. Поэтому вполне ошибочно было бы утверждение, что русским ничего не стоило бы превратить Смоленск в крепость. Превратить его в укрепленный пункт, который мог бы продержаться одну и самое большее две недели, это, пожалуй, было возможно; но, очевидно, неразумно было бы ради столь краткого сопротивления затрачивать гарнизон в 6000–8000 человек и от 60 до 80 орудий, множество снарядов и другого снаряжения.
В том виде, в каком находился тогда Смоленск, защищать его можно было только живой силой, но при этом штурмующий противник был бы вынужден понести огромные потери людьми.
Для русских Смоленск имел то значение, что в данное время в нем находились их продовольственные склады; поэтому, пока они намеревались оставаться в данном районе, было вполне естественно, что они сражались за обладание им. Ввиду этого Багратион поспешил туда 16-го, чтобы занять город свежим корпусом.
В эти минуты Барклай до некоторой степени потерял голову. Из-за постоянно возникавших проектов наступления было упущено время для подготовки хорошей позиции, на которой можно было бы принять оборонительное сражение; теперь, когда русские вновь были вынуждены к обороне, никто не отдавал себе ясного отчета, где и как следует расположиться. По существу, отступление немедленно должно было бы продолжаться, но Барклай бледнел от одной мысли о том, что скажут русские, если он, несмотря на соединение с Багратионом, покинет без боя район Смоленска, этого священного для русских города.
В сущности, окрестности Смоленска совсем непригодны для оборонительной позиции, так как направление реки в этом месте совпадает с направлением операционной линии; к тому же дорога на Москву проходит близ Смоленска, а именно на расстоянии одного часа ходьбы выше этого города, вдоль самого берега реки. Таким образом, если бы русские попытались одновременно преградить наступление неприятеля и сохранить путь отступления, отходящий в перпендикулярном направлении к фронту, то пришлось бы расположиться на обоих берегах Днепра, т. е. иметь город либо впереди фронта, либо на самой линии фронта, либо позади. Это была бы весьма невыгодная позиция, потому что для уступающей противнику в силах армии поддержание связи по немногим мостам и через довольно обширный город не является целесообразным. Если бы было решено расположиться лишь на одном берегу Днепра, то путь отступления непременно попадал бы под известную угрозу. Во всяком случае, занять позицию на левом берегу было невозможно, так как в таком случае на расстоянии полумили позади нее оказался бы Днепр, который, как известно, выше Смоленска поворачивает под углом почти в 90 градусов; к тому же вся французская армия уже находилась на левом берегу Днепра. Все это затрудняло решение, которое предстояло принять Барклаю. Поэтому он решил сделать прежде всего то, что было самым неотложным, а именно отправить 16-го форсированным маршем Багратиона в Смоленск, куда последний уже 15-го послал вперед корпус Раевского, а самому с первой западной армией следовать туда же. 15-го генерал Раевский соединился в Смоленске с отошедшей дивизией Неверовского, и у него, таким образом, образовался гарнизон в 16 000 человек, что в достаточной мере обеспечивало город; уже 16-го была отбита предпринятая с налета атака Мюрата и Нея; однако Барклай понял теперь, что крайне необходимо обеспечить себе путь отступления; с этой целью он предложил Багратиону отойти утром 17-го на Валутину гору, расположенную на Московской дороге в одной миле от Смоленска, в пункте, где направление дороги и течение реки начинают расходиться в разные стороны и где прекращается то невыгодное для обороны совпадение их, о котором мы говорили выше. Таким образом, это был ближайший к Смоленску пункт, у которого можно было занять позицию. Однако этот пункт был слишком удален от города, чтобы обладание им и одновременно с этим удержание города могли составить одно тактическое целое.
Исходя из этого Барклай решил занять Смоленск корпусом первой западной армии и выжидать, что же французы предпримут дальше. Такое решение было неплохим, так как французы были настолько добры, что переправились со всей своей огромной армией на левый берег Днепра. Теперь обе армии были отделены друг от друга Смоленском и долиной Днепра, а путь отступления Барклая, хотя и являлся как бы продолжением его левого фланга, но все же был прикрыт расположением Багратиона. В таком положении Барклай мог спокойно выжидать, пока французы возьмут Смоленск или начнут подготовку переправы через Днепр. Французы оказались настолько любезными, что начали с первого, и, таким образом, 17-го произошел второй бой за обладание Смоленском, куда сверх корпуса Дохтурова Барклай направил еще три с половиной дивизии свежих войск; таким образом, русские ввели в бой до 30 000 человек. Обе армии являлись свидетелями этого сражения, не имея возможности принять в нем участие. Дохтуров вел оборонительные бои преимущественно в предместьях, так как ни стены, ни укрепления не имели необходимых банкетов и аппарелей. Поэтому он потерял большое число людей; однако, по существу дела, потери французов были еще значительнее. Наконец русские из предместий города, подавленные численным превосходством, были отброшены в город. Хотя теперь с обороной города было почти покончено, но наступил вечер, а 17-го французы все еще не овладели Смоленском, так как несколько попыток разбить артиллерийским огнем стену не приводили к немедленному успеху. Итак, Барклай достиг своей цели, правда, чисто местного характера: он не покинул Смоленска без боя.
В сущности говоря, оборона Смоленска представляла собой странное явление. Она не могла превратиться в генеральное сражение, потому что, естественно, что после потери Смоленска русские, отославшие назад одну треть своих сил с Багратионом, не стали бы ввязываться в новое дело; а если бы русские и не потеряли Смоленска, то здесь они никоим образом не могли перейти в наступление на французскую армию, так как это было бы противно разуму допустить, чтобы французы позволили постепенно подвергать себя истреблению, штурмуя стены этого города и тем самым подготовляя себе поражение. Следовательно, здесь мог произойти лишь частный бой, который не мог внести изменения в общее положение обеих сторон, выражавшееся в наступлении французов и отступлении русских. Преимущества, которыми располагал здесь Барклай, заключались, во-первых, в том, что это был бой, который никоим образом не мог привести к общему поражению, что вообще легко может иметь место, когда целиком ввязываются в серьезный бой с противником, обладающим значительным превосходством сил.
Потеряв Смоленск, Барклай мог закончить на этом операцию и продолжать свое отступление. Второе преимущество Барклая заключалось в том, что русские в предместьях располагали лучшими укрытиями, чем их противник, а стены города вполне обеспечивали отступление. Чисто военный успех заключался и в том, что французы уложили под Смоленском очень много людей (20 000 человек), в то время как потери русских были несколько меньшими, а обстановка позволяла русским легче пополнить эту убыль, чем французам. Когда глубокое отступление внутрь страны должно создать выгодные предпосылки для обороны, то весьма существенно оказывать при отходе постоянное сопротивление с целью истощения сил неприятеля. В этом смысле бой под Смоленском является положительным явлением в кампании, хотя по своей природе он не мог привести к резкому повороту событий. Что касается Барклая, то при его отношениях к русским этот бой имел особое значение; это обстоятельство являлось главным мотивом его действий, о чем мы уже говорили выше.
17-го вечером возник вопрос, продолжать ли далее оборону Смоленска 18-го. Донесения генерала Дохтурова, по-видимому, не говорили в пользу такого решения. Город отчасти уже был уничтожен пожаром, который еще продолжался; старые крепостные сооружения не были приспособлены для обороны; оба корпуса, сражавшиеся в нем, значительно пострадали, понеся огромные потери, доходившие до 10 000 человек, т. е. одной трети их состава; если бы французы произвели успешный штурм, то можно было опасаться, что защитники потеряют и вторую треть людей и притом в гораздо большем числе, чем противник, так как эти потери выразятся преимущественно в захваченных в городе пленных. Таким образом, те условия и выгоды обороны, которые имелись 17-го, уже отпали, и Барклай решил не терять больше сил, покинуть левобережную часть города, отойти в предместье, находящееся на правом берегу реки, и разрушить мост; это и было выполнено в ночь с 17 на 18 августа.
Одновременно с этим решением генералу Барклаю следовало бы принять и другое: 18-го числа отступить и соединиться с Багратионом на Московской дороге. Однако это решение было отложено до 18-го, а 18-го сочли чересчур рискованным выполнить первый переход, который являлся подлинным фланговым маршем среди бела дня на глазах у неприятеля, тем более что он уже делал некоторые попытки переправиться через Днепр; эти попытки, однако, были отбиты. Итак, Барклай решил оставаться в занимаемом расположении еще 18 августа и лишь с наступлением темноты отходить двумя колоннами по кружной дороге, причем вначале он предполагал отступать по дороге на Поречье (Петербургский тракт), а затем повернуть вправо на Московскую дорогу и выйти на нее у Лубина, в 2 милях от Смоленска. Отряд в несколько тысяч человек под командой генерал-майора Тучкова должен был отходить непосредственно по Московской дороге вплоть до установления соприкосновения с тыловыми частями арьергарда Багратиона. Сам Багратион 18-го оставил свою позицию на Валутиной горе и двинулся ни Дорогобуж. Генерал Корф должен был оставаться у Смоленска с сильным арьергардом и прикрывать движение.
Решение дождаться вечера было неизбежно, так как уже упустили возможность использовать предыдущую ночь. Но диспозиция была составлена неудачно.
Так как большая дорога на Москву была совершенно свободна и генерал-майор Тучков мог по ней пройти с отрядом, составленным из всех родов оружия, то нельзя понять, почему генерал Барклай не послал по ней два корпуса, приказав трем остальным двигаться кружным путем, чтобы сократить длину колонны. Эти два корпуса имели бы полную возможность оказать достаточно продолжительное сопротивление на многочисленных рубежах, перпендикулярно пересекающих эту дорогу, с тем, чтобы другая колонна успела пройти по кружному пути. Нам кажется, что в данном случае полковник Толь несколько запутался в ухищрениях искусства генерального штаба. Впоследствии, однако, приходилось слышать много похвал искусно организованному кружному движению русской армии.
До сих пор в связи с боем под Смоленском мы обсуждали лишь мотивы, которыми руководствовались русские. Однако мы не можем не остановиться хотя бы вкратце на тех мотивах, которыми руководствовались французы. Сознаемся, что в данном случае мы имеем дело с самым непостижимым явлением во всей кампании. Когда Барклай 7-го пытался перейти в наступление, то Наполеон с 180 000 солдат находился между Двиной и Днепром, и лишь Даву только что переправился с 30 000 человек через Днепр у Расасны. Поэтому для первого было естественнее и легче двинуться на Смоленск по дороге, ведущей туда из Витебска, чем по дороге из Минска. Но ведь Смоленск, очевидно, не мог являться для Наполеона объектом операции; таким объектом являлась русская армия, которую с самого начала кампании он тщетно пытался принудить к сражению. Она находилась непосредственно против него; почему же он не сосредоточил свои войска так, чтобы прямо двинуться ей навстречу? Далее надо заметить, что дорога, идущая из Минска через Смоленск на Москву, по которой пошел Наполеон, переходит под Смоленском на правый берег Днепра; таким образом, Наполеону все равно пришлось бы вернуться на этот берег. Если бы он двинулся прямо на Барклая, последнему едва ли удалось бы отойти к Смоленску. Во всяком случае он не мог бы задержаться близ этого города, так как французская армия, находясь на правом берегу Днепра, гораздо сильнее угрожала Московской дороге, чем при переходе ее на левый берег, где Смоленск и река на известном участке прикрывают эту дорогу. При таких условиях Смоленск был бы взят без боя, французы не потеряли бы 20 000 человек и сам город, вероятно, уцелел бы, так как русские еще не перешли к систематическим поджогам оставляемых городов. После же того, как Наполеон подошел к Смоленску, снова является непонятным, зачем ему понадобилось брать этот город штурмом. Если бы значительный корпус переправился выше по течению через Днепр и французская армия сделала бы вид, что следует за ним и грозит захватить Московскую дорогу, то Барклай поспешил бы опередить этот маневр, а Смоленск и в этом случае был бы взят без боя. Если в данном случае не имелось возможности простой угрозой маневра добиться тех же результатов, какие дал бы сам маневр, т. е. заставить отступить противника при помощи одного маневрирования, то это означало бы, что стратегического маневрирования вообще не существует. Мы решительно не в состоянии объяснить себе поведение французского полководца и не можем найти каких-либо оснований, толкнувших его на выбор ошибочного направления, за исключением затруднений в сосредоточении и продовольствии французской армии, вызываемых местными условиями, и бо́льших удобств движения по большим дорогам. Подойдя же к Смоленску, Наполеон хотел ошеломить противника эффектным ударом. По нашему мнению, Наполеон здесь допустил третью и крупнейшую ошибку в этом походе.
Мы оставляем теперь окрестности Смоленска и заметим лишь о бое у Валутиной горы, что генерал Барклай отличился в нем теми качествами, которые составляли лучшее, что в нем было, и которые в известной степени объясняли его призвание на столь высокий командный пост, а именно: спокойствие, стойкость и личная храбрость. Как только он увидел, что французы сильно наседают на большой дороге на генерал-майора Тучкова, то, чтобы выиграть время для колонн, следовавших кружными путями, он лично отправился к этому арьергарду, подтянул к нему ближайшие части из соседней колонны и снова дал в очень выгодных местных условиях большой и чрезвычайно кровопролитный частный бой, в котором французы потеряли, по крайней мере, столько же, сколько и русские, оценивавшие свои потери в 10 000 человек. Бой этот был неизбежен для Барклая, но он не являлся неизбежным злом, так как давать неприятелю связанные с крупными потерями бои было на руку противнику. Этот бой оказался бы действительным злом лишь в том случае, если бы его особая цель – прикрытие с флангового марша – не была достигнута и если хотя бы часть армии Барклая оказалась отрезанной.
Русские потеряли в этих боях в общем около 30 000 человек; так как до сражения у Бородино они пополнили свои силы приблизительно 20 000 человек, то их боевые силы уменьшились в итоге всего на 10 000 человек. Французы же имели под Смоленском 182 000 человек, а под Бородино 130 000. Их убыль составляла, следовательно, 52 000 человек, из которых 16 000 были откомандированы, а именно дивизия Пино, двинутая на Витебск, – 10 000 человек, и дивизия Лаборда, оставленная в Смоленске, – 6000 человек. Отсюда вытекает, что потери французов в боях, а также больными и отставшими достигали 36 000 человек.
Таким образом, силы обеих армий все более приближались к точке равновесия.
Бои под Смоленском, как мы видели, приняли форму и оборот, вполне отвечавшие для русских смыслу кампании 1812 г., однако даны они были большей частью из побочных соображений и без отчетливого понимания перспектив этой кампании. Продолжение отступления по прямой дороге, последовавшее затем, происходило исключительно под давлением обстоятельств. Барклай в своем сознании отнюдь не был доволен результатами напряженных усилий, сделанных под Смоленском, хотя и вынужден был делать вид, что рассматривает их как полупобеду; жутко было на его душе; тяжким бременем лежало на его совести сознание, что он приближается к Москве, не попытавшись хорошо подготовленным генеральным сражением остановить или отбросить вторгнувшегося неприятеля. Генеральный штаб ощущал эту потребность в решительном сражении в еще большей степени. Итак, было решено на первой же выгодной позиции, какая встретится на Московской дороге, дать нормальное оборонительное сражение. Первая подходящая позиция нашлась у селения Усвяты, за речкой Уша, в одной миле не доходя до Дорогобужа, куда армия прибыла 21-го. Полковник Толь, который обычно находился в одном переходе впереди для осмотра позиций, на следующий день открыл здесь удобное поле сражения, которое, казалось, обещало наилучшие результаты. Автор этого труда, который как раз в этот период несколько дней находился при Толе, имел возможность близко познакомиться с его мыслями по этому вопросу. Действительно, позиция была чрезвычайно выгодная, но ее нельзя было назвать очень сильной. Она упиралась правым флангом в Днепр, а перед ее фронтом протекала небольшая речка Уша. Последняя незначительна, и долина ее неглубока; все же эта речка образует известное препятствие для наступающего, причем плоский скат долины был весьма благоприятен для действия огня русской артиллерии. Местность перед фронтом в общем была открытая и удобная для обозрения; в тылу она имела отчасти закрытый характер, что давало возможность скрыть от противника свое расположение. Эту позицию должна была занять первая западная армия, вторая же под командой Багратиона должна была расположиться в резервном порядке на расстоянии часа ходьбы назад к Дорогобужу, вследствие чего она оказалась бы стоящей уступом за левым крылом первой армии. Посредством такого скрытого расположения армии Багратиона Толь рассчитывал не только обеспечить левый фланг, который не примыкал к какому-либо препятствию, но и получить возможность перейти в неожиданное для противника наступление. По-видимому, это была излюбленная идея полковника Толя, так как мы встречаем тот же прием в Бородинском сражении, в котором соответственным образом на уступе был расположен усиленный ополченскими дружинами корпус генерала Тучкова; но это повторение было выполнено в меньшем масштабе, так как, во-первых, генерал Тучков не располагал такими силами по сравнению с теми, какие были у Багратиона, и, во-вторых, последний должен был располагаться гораздо глубже. Автор всегда считал такое расположение весьма целесообразным, он полагал также, что прикрытие флангов там, где естественные препятствия такового не предоставляют, достигается лишь при помощи отодвинутых назад сравнительно сильных резервов, действие которых, таким образом, приобретает более или менее наступательный характер. Поэтому автор проявлял особый интерес к идеям полковника Толя, полагая, что если не сегодня-завтра предстоит сражаться, то лучше сражаться здесь, чем в каком-либо другом месте.
Но генерал Багратион был чрезвычайно недоволен этой позицией: маленький холм, находившийся по другую сторону Уши впереди правого фланга, был признан господствующим над позицией пунктом, и это признавалось основным недостатком данного плана. Полковник Толь, человек чрезвычайно упорный и не слишком вежливый, не захотел сразу же отказаться от своей идеи и стал возражать, что в высшей степени раздражило князя Багратиона, который закончил разговор довольно обычным в России заявлением: «Господин полковник! Ваше поведение заслуживает того, чтобы вас послали с ружьем за спиной». В России подобное выражение является не только фразой; как известно, там может состояться в законном порядке своего рода разжалование, причем самый знатный генерал, по крайней мере формально, может быть сделан рядовым. К этой угрозе никак нельзя было отнестись с пренебрежением. Барклай смог бы заступиться за своего генерал-квартирмейстера, лишь выступив в качестве главнокомандующего, и категорическим приказанием заставить князя Багратиона замолчать и повиноваться, но он был далек от этого. Проявить такую авторитетность, пожалуй, было для него и практически невозможно вследствие сложившихся взаимоотношений; к тому же он не обладал достаточно властным характером для такого выступления. Не подлежит также сомнению, что по мере приближения Наполеона решимость дать сражение в нем ослабевала. Итак, оба генерала решили отказаться от позиции, которую так расхваливал полковник Толь, и 24-го занять другую, на одну милю позади, у Дорогобужа, которую князь Багратион признавал гораздо более выгодной.
По мнению автора, эта позиция была отвратительна: перед фронтом ее не было никакого препятствия для подступа к ней, а обзор отсутствовал полностью; довольно обширный, извилистый и всхолмленный Дорогобуж находился позади правого крыла; часть войска, а именно корпус Багговута, располагалась по другую сторону Днепра на еще более невыгодной позиции. Автор от этой перемены был в отчаянии, а Толь пришел в состояние тихого бешенства. По счастью, и это решение оказалось недолговечным; в ночь с 24-го на 25-е армия снова двинулась дальше. Так прошли еще четыре перехода, а именно до 29 августа; постоянно высказывали намерение принять на следующей позиции бой и всякий раз отказывались от него, как только приходили на эту позицию.
Ближайшее подкрепление, которого следовало ожидать, резерв под командой генерала Милорадовича, должно было состоять из 20 000 человек, но в действительности достигало лишь 15 000. На него рассчитывали еще на стоянке в сел. Усвяты, но действительно прибыло оно лишь в Вязьме.
Наконец 29-го, в одном переходе от Гжатска, Барклаю показалось, что он нашел позицию, которая, будучи усилена сооружением ряда намеченных укреплений, допускала принятие боя. Он тотчас приказал усилить ее несколькими укреплениями. Но в этот самый день прибыл Кутузов в качестве верховного главнокомандующего. Барклай вернулся к командованию первой западной армией, а Кутузов пока приказал продолжать отступление.
Об этой перемене в командовании стали говорить лишь за несколько дней до прибытия Кутузова; это доказывает, что назначение Кутузова не было предрешено при отъезде императора из армии; Кутузов в таком случае прибыл бы раньше. В армии полагали, что нерешительность Барклая, мешавшая ему дать генеральное сражение, и недоверие к нему, распространившееся за последнее время в армии, где на него стали смотреть как на иностранца, побудили в конце концов императора поставить во главе всего ведения военных действий того из коренных русских людей, кто пользовался наилучшей боевой репутацией.
Если принять во внимание момент этого назначения, то можно предположить, что решающее значение для смены Барклая имел отказ от уже начатого наступления под Смоленском. Это имело место 7 и 8 августа, а три недели спустя прибыл Кутузов. Надо полагать, что в это время в Петербург поступило много неблагоприятных донесений о Барклае; главным орудием в данном случае, вероятно, послужил великий князь Константин, который под Смоленском еще находился при армии и полностью примкнул к сторонникам идеи наступления. Эти донесения могли поступить в Петербург в середине августа, и этим объясняется то, что при некоторой поспешности Кутузов смог прибыть в армию спустя две недели.
В армии по этому поводу была великая радость. До сих пор, по мнению русских, дела шли очень плохо; таким образом, всякая перемена позволяла надеяться на улучшение. Между тем относительно боевой репутации Кутузова в русской армии не имелось единодушного мнения: наряду с партией, считавшей его выдающимся полководцем, существовала другая, отрицавшая его военные таланты; все, однако, сходились на том, что дельный русский человек, ученик Суворова, лучше, чем иностранец, а в то время это становилось особенно необходимым. Барклай не был иностранцем: сын лифляндского пастора, он и родился в Лифляндии; Барклай с ранней молодости служил в русской армии, и, следовательно, в нем ничего не было иностранного, кроме его фамилии и, правда, также акцента, так как по-русски он говорил плохо и всегда предпочитал немецкий язык русскому. В существовавших тогда условиях этого одного уже было достаточно, чтобы его считали иностранцем. То обстоятельство, что подполковник Вольцоген, который находился лишь около 5 лет в России, состоял при особе Барклая, не будучи его адъютантом и не служа в квартирмейстерском штабе, заставляло смотреть на него как на интимного советника Барклая и в самом Барклае видеть как бы иностранца. К Вольцогену же, человеку серьезному и не обладавшему той вкрадчивостью, которая в чести у русских, относились с подлинной ненавистью. Автор этих записок слышал, как один офицер, вернувшийся из главной квартиры Барклая, изливал свое озлобление, причем сказал: «Вольцоген сидит в углу комнаты, как жирный, ядовитый паук-крестовик».
Так как, по мнению русских, все шло из рук вон плохо, то считали возможным все приписывать предательским советам этого иностранца; никто не сомневался в том, что Барклай действует исключительно под влиянием его тайных нашептываний. Пожалуй, главный импульс такому настроению давали то отвращение и недоверие, которые питали к подполковнику Вольцогену полковник Толь и генерал Ермолов; они полагали, что он порой выступал против их взглядов и что он много напортил своими дурными советами. В частности, Вольцоген принимал участие в решении отказаться от начатого наступления у Смоленска, так как он именно особенно высказывал предположение, будто Наполеон находится на дороге в Поречье. На самом деле Вольцогену оказывали слишком много чести, приписывая Барклаю такое к нему доверие. Барклай был довольно бесстрастный человек и притом мало восприимчивый в идейном отношении; таких людей обычно покорить нельзя; к тому же надо сказать, что Вольцоген вовсе не был доволен ни Барклаем, ни той ролью, которую он при нем играл; он мирился со своим положением только потому, что надеялся все же в отдельных случаях принести пользу и предотвратить худшее. Во всяком случае, его намерения не заслуживали такого недоверия. Только чисто восточная подозрительность могла заставить людей без всякого разумного основания, из-за одной лишь фамилии, смотреть на офицера, являвшегося флигель-адъютантом императора и пользовавшегося его доверием, как на предателя. Это недоверие к иностранцам впервые пробудилось по отношению к Барклаю и Вольцогену, и оно мало-помалу более грубыми, необразованными элементами армии распространилось на всех прочих иностранцев, которых, как известно, всегда было очень много в русской армии. Некоторые русские, которые непосредственно не приписывали дурных поступков иностранцам, все же считали, что их присутствие может прогневить русских богов и что иностранцы приносят несчастье. Впрочем, это было глухое, лишь намечающееся настроение в армии, o котором автор здесь упоминает потому, что оно очень характерно, и притом подчеркивает, какими глазами русские до этого времени смотрели на события этой кампании. Отдельному иностранному офицеру не ставили это в строку, так как окружавшие его люди всегда наглядно убеждались, что этот офицер, конечно, преисполнен самыми честными намерениями; так, например, автор может похвалиться прекрасным приемом, который ему почти всегда оказывался, и самым дружественным отношением к себе его русских товарищей.
Итак, прибытие Кутузова вновь пробудило в войсках чувство доверия; злой демон в лице чужестранца изгнан заклятием чисто русского человека, нового Суворова в несколько уменьшенном масштабе; теперь уже не сомневались, что в ближайшее время будет дано настоящее сражение, в котором видели кульминационный пункт французского наступления.
Однако, если Барклай, спотыкаясь, как человек, потерявший равновесие и не могущий остановиться, дошел от Витебска до Вязьмы, отступая перед Наполеоном, то и Кутузову не сразу в первые же дни удалось стать на твердые ноги. Он прошел через Гжатск, который, как и Вязьма, был подожжен, и 3 сентября занял под Бородино позицию, показавшуюся ему достаточно хорошей, чтобы принять на ней сражение. На этой позиции войска тотчас же возвели укрепления. В сущности, Бородинская позиция была выбрана теми же глазами, которые выбирали все позиции для Барклая, т. е. глазами полковника Толя, и, конечно, она не принадлежала к числу лучших из тех многочисленных позиций, которые этот офицер находил пригодными для поля сражения.
Кутузов был старше Барклая на 15 лет; он приближался к семидесятому году жизни и не обладал той физической и духовной дееспособностью, которую нередко можно еще встретить у военных в этом возрасте. В этом отношении он, следовательно, уступал Барклаю, но по природным дарованиям, безусловно, его превосходил. В молодости Кутузов был хорошим рубакой и отличался при этом большой духовной изощренностью и рассудительностью, а также склонностью к хитрости. Этих качеств уже достаточно, чтобы стать хорошим генералом. Но он проиграл Наполеону несчастное Аустерлицкое сражение и никогда этого не мог забыть. Теперь ему пришлось стать во главе всех боевых сил, руководить на беспредельных пространствах несколькими сотнями тысяч против нескольких сотен тысяч противника и при крайнем напряжении национальных сил русского государства спасти или погубить в целом это государство. Это были такие задачи, которые его умственный взор не привык охватывать и для разрешения которых он все же не обладал достаточными природными дарованиями. Император чувствовал это, а потому у него снова возникла мысль самому управлять всем этим огромным целым, но на этот раз из Петербурга и не с таким беспомощным человеком, как Пфуль.
Но в центре, во главе обеих западных армий, все же самостоятельным полководцем должен был выступить Кутузов, а это во всяком случае представляло одну из самых блестящих ролей, какие можно встретить в истории: вести 120 000 русских против 130 000 французов, полководцем которых являлся сам Наполеон.
По нашему мнению, Кутузов проявил себя лично в этой роли далеко не блестяще и даже значительно ниже того уровня, какого можно было от него ожидать, судя по тому, как он действовал раньше.
Однако автор недостаточно близко стоял к этому полководцу, чтобы с полной убежденностью говорить о его личной деятельности. Во время Бородинского сражения он его видел всего одно мгновение, и наряду с этим личным впечатлением он имеет главным образом в виду то мнение, которое непосредственно после сражения сложилось в армии. Роль Кутузова в отдельных моментах этого великого сражения равняется почти нулю. Казалось, что он лишен внутреннего оживления, ясного взгляда на обстановку, способности энергично вмешаться в дело и оказывать самостоятельное воздействие. Он предоставлял полную свободу частным начальникам и отдельным боевым действиям. Кутузов, по-видимому, представлял лишь абстрактный авторитет. Автор признает, что в данном случае он может ошибаться и что его суждение не является результатом непосредственного внимательного наблюдения, однако в последующие годы он никогда не находил повода изменить мнение, составленное им о генерале Кутузове, и это, конечно, могло его лишь в этом мнении утвердить. Таким образом, если говорить о непосредственно персональной деятельности, Кутузов представлял меньшую величину, чем Барклай, что главным образом приходится приписать преклонному возрасту. И все же в целом Кутузов представлял гораздо бóльшую ценность, чем Барклай. Хитрость и рассудительность обычно не покидают человека даже в глубокой старости; и князь Кутузов сохранил эти качества, с помощью которых он значительно лучше охватывал как ту обстановку, в которой сам находился, так и положение своего противника, чем то мог сделать Барклай с его ограниченным умственным кругозором.
Благоприятный исход кампании в начале ее мог быть предугадан лишь при наличии широких взглядов, ясности разума и глубокого знания дела. Тогда это могло быть доступно лишь человеку с редким величием духа, но сейчас конечный успех уже настолько приблизился к умственному взору, что хитрый разум мог легко его уловить. Наполеон попал в скверную историю, и обстановка начала сама собою складываться в пользу русских; счастливый исход должен был получиться сам собою без больших усилий. Кутузов, наверное, не дал бы Бородинского сражения, в котором, по-видимому, не ожидал одержать победу, если бы голоса двора, армии и всей России не принудили его к тому. Надо полагать, что он смотрел на это сражение как на неизбежное зло. Он знал русских и умел с ними обращаться. С неслыханной смелостью смотрел он на себя как на победителя, возвещал повсюду близкую гибель неприятельской армии, до самого конца делал вид, что собирается для защиты Москвы дать второе сражение и изливался в безмерной похвальбе; этим он льстил тщеславию войска и народа; при помощи прокламаций и возбуждения религиозного чувства он старался воздействовать на сознание народа. Таким путем создалось доверие нового рода, правда, искусственно внушенное, но все же имевшее в своей основе истину, а именно плохое положение французской армии. Таким образом, это легкомыслие и базарные выкрики хитрого старика были полезнее для дела, чем честность Барклая. Последний совершенно отчаялся бы в счастливом исходе войны; он еще в октябре отчаивался в нем, когда у большинства снова возродилась надежда; сам он не сумел бы найти никаких средств улучшить положение дел, а его мнительность помешала бы использовать даже те средства, которые могли ему предложить другие; так, например, он высказался против перехода на Калужскую дорогу; в печальных, всегда озабоченных чертах его лица каждый солдат мог прочитать мысль об отчаянном положении армии и государства, и не исключено, что настроение этого полководца передалось бы армии, двору, всему народу; словом, простой, честный и дельный сам по себе, но ограниченный Барклай, не способный проникнуть в самую глубь обстановки столь гигантского масштаба, был бы подавлен моральными возможностями французской победы, в то время как легкомысленный Кутузов противопоставил им дерзкое чело и целый поток хвастливых речей. Он сумел счастливо использовать тот огромный прорыв, который уже обнаружился во французской армаде.
Когда Кутузов принял верховное командование, генерал Ермолов являлся начальником штаба первой западной армии, а полковник Толь – ее генерал-квартирмейстером, а так как командующий этой армией до этого времени выполнял и роль главнокомандующего, то функции их в известной степени распространялись на обе армии; по крайней мере, распоряжения, касавшиеся обеих армий, исходили от этих лиц. Как только Барклай вернулся к своим прежним обязанностям командующего первой западной армией, то Ермолов и Толь также должны были ограничить круг своей деятельности только этой армией. Что касается генерала Ермолова, то так это и произошло, так как одновременно с князем Кутузовым в армию прибыл генерал-от-кавалерии граф Беннигсен с тем, чтобы занять место начальника штаба обеих армий. Надо полагать, что Беннигсен выхлопотал себе это назначение в Петербурге, так как понимал, что ни одной из двух армий в командование ему не дадут, а он хотел получить возможность при случае протиснуться на первое место, если бы здоровье старика Кутузова не выдержало. Мало-помалу он приобрел некоторое влияние; впрочем, старый князь не особенно поощрял Беннигсена, которому, по-видимому, не доверял. В армии это удивительное назначение произвело почти комическое впечатление. Но генерал-квартирмейстера князь с собою не привез, и полковник Толь по-прежнему продолжал занимать эту должность; автору неизвестно, состоялось ли его назначение генерал-квартирмейстером при главнокомандующем или же он являлся только исполняющим его обязанности.
На полковнике Толе, как и раньше, лежал выбор позиций и принятие соответственных тактических мер. Таким образом, выбор позиции под Бородино и использование на ней войск также представляются в основном его делом.
Прежде чем говорить об этом сражении, мы хотим высказать несколько соображений по поводу отступления русской армии в направлении на Москву.
Русская армия отступала не к Петербургу, а внутрь страны, так как там она могла в большей мере усилиться, в то время как следующему за ней противнику приходилось постоянно быть в готовности к обороне во всех направлениях. Пока неприятель еще располагал значительным превосходством сил, надо было заботиться о прикрытии Москвы, как позаботились о прикрытии Петербурга путем выделения корпуса Витгенштейна при уходе армии с дороги на Петербург. Чтобы не ослаблять себя выделением нового заслона, представлялось, конечно, вполне естественным держать главную армию в направлении на Москву. Если бы можно было предвидеть, с какой быстротой будет таять французская армия, то можно было бы наметить другой план, а именно: от Смоленска уже не держаться направления на Москву, а избрать какую-нибудь другую дорогу внутрь страны, например на Калугу и Тулу, так как можно было себе сказать, что, как только исчезнет решительный перевес сил главной французской армии над русской, французы уже не будут иметь возможности выделить и направить в Москву значительные силы; еще в меньшей степени, располагая единственной коммуникационной линией, французы могли бы решиться двинуть свои главные силы на Москву мимо русской армии. Вспомнив, что под Бородино против 120 000 русских стояло всего лишь 130 000 французов, никто не сможет усомниться в том, что при ином направлении отступления русских, например на Калугу, Москва осталась бы совершенно в стороне от военных действий. Однако, когда отходили от Дриссы сначала на Витебск, а затем на Смоленск, то никому и в голову не могло прийти, что силы французов так быстро растают. Потому вполне естественна была мысль о необходимости держаться направления на Москву, чтобы возможно дольше оставить в безопасности этот важный город.
Под Смоленском соотношение сил обеих главных армий составляло 180 000 к 120 000, а так как при оценке сил противника легко ошибиться на какие-нибудь 20 000, то русские могли предполагать, что против них стоят 200 000 человек. Поэтому нельзя поставить в упрек русским генералам, что в подобных условиях они еще не решились обратиться к маневрированию, т. е. к косвенной обороне Москвы. Но даже если бы такое решение было принято в Смоленске, то, пожалуй, это было бы уже слишком поздно; ведь если вообще изменение направления для сколько-нибудь крупной армии является делом значительно более трудным, чем то обычно предполагают, то в столь редко населенной стране, как Россия, это изменение представило бы вдвое больше трудностей для такой огромной массы войск, к тому же теснимой превосходными силами неприятеля. Приходилось все время располагать биваком, сосредоточившись в одном пункте, и, следовательно, получать все продовольствие исключительно из магазинов. Эти склады были устроены вдоль Московской дороги, и их, следовательно, надо было сперва перенести; все боевые припасы, запасные части, подкрепления и т. п., находившиеся на этой дороге или в пути к ней, пришлось бы перебрасывать в сторону, на новое направление. Имелось ли еще на это время после прибытия армии к Смоленску, представляется по меньшей мере крайне сомнительным.
Отсюда следует, что упрек, который некоторые писатели делают задним числом русским генералам, отчего они из Смоленска не пошли на Калугу, представляется недостаточно продуманным. Если бы русские захотели избрать это направление, то такое решение нужно было принять гораздо раньше; но принятие его раньше было невозможно, даже если бы и возникла подобная мысль, так как такая косвенная оборона Москвы лишь впоследствии стала представляться совершенно естественной, раньше же она явилась бы таким теоретическим дерзновением, которого нельзя требовать от заурядного генерала, к тому же не облеченного широкими полномочиями.
Один из этих писателей (Бутурлин) высказал сожаление, что Барклаю не был известен тот принцип, согласно которому на войне фланговая позиция всегда наилучшим образом прикрывает данный объект. Во все времена у молодых людей имелись под руками готовые принципы. Когда прикрывают какой-либо пункт фланговой позицией, то все зависит от соотношения сил сторон, от пространственных условий и даже от моральных предпосылок, т. е. приблизительно от всех данных, имеющих значение на войне. Таким образом, этот принцип, прежде чем получить признание, должен быть совершенно иначе обусловлен; придерживаясь подобных принципов, конечно, вполне естественно всесторонне критиковать имевшие место явления и находить, что все чрезвычайно легко и просто делается, между тем как в действительности всевозможные препятствия ограничивают очень тесными рамками возможности выполнения.
Впрочем, ни Барклай, ни его генеральный штаб в то время и не помышляли о таком уклонении в сторону, хотя огромные размеры русского государства и представляли для него прекрасные возможности. Русское государство так велико, что позволяет играть в «кошки-мышки» с неприятельской армией; на этом и должна базироваться в основном идея его обороны против превосходных сил неприятеля. Отступление в глубь страны завлекает туда же неприятельскую армию, оставляя в ее тылу обширные пространства, которые она занять не в состоянии. А затем уже не встретится никаких препятствий к тому, чтобы отступление, которое прежде шло от границы внутрь страны, начать в обратном направлении, из внутренних областей к границе, и, таким образом, вновь дойти до нее совместно с ослабленной неприятельской армией.
Фланговый марш на Калужскую дорогу и отход в направлении этой дороги представляют нечто в этом роде, с той лишь разницей, что впоследствии дела приняли еще более благоприятный оборот. Однако об этом отступлении под острым углом раньше никто не думал, и эта идея получила впервые развитие лишь после Бородинского сражения. Вначале среди русских генералов и в их штабах об этой идее не было даже разговора, и я не припоминаю, чтобы и в армии кто-либо из офицеров высказывал ее. В тот же момент, когда насущная потребность уже могла натолкнуть на эту мысль, а именно, когда начали отдавать себе отчет в недостаточности сил для защиты Москвы, было уже слишком поздно; мы уже говорили, что к соответственной организации тыла еще не было приступлено.
Обратимся теперь к сражению; под Бородино. Это сражение принадлежит к числу тех, в которых, собственно говоря, мало что требует объяснения, так как его результаты вполне отвечают создавшейся обстановке. В самом деле, 120 000 русских, из которых 30 000 казаков и ополченцев, противостояли на весьма посредственной позиции 130 000 французов с Наполеоном во главе. Чего же другого можно было ожидать? При равной храбрости войск обеих сторон в бою на очень узком пространстве следовало ожидать только того, что произошло в действительности, а именно медленного опускания чаши весов к невыгоде русских. Мы никогда не могли понять, почему люди так жадно добивались какого-то объяснения Бородинского сражения. Одни недоумевали, почему Кутузов отошел, раз он был победителем, другие – почему Наполеон не разгромил полностью русских.
Россия чрезвычайно бедна позициями. Там, где еще имеются большие болота, местность настолько покрыта лесами, что трудно найти достаточное пространство для расположения сколько-нибудь значительной массы войск; там, где леса вырублены, как между Смоленском и Москвой, местность плоская, без определенно выраженного рельефа, нет глубоко врезанных долин, поля не огорожены, а следовательно, всюду легко проходимы, селения имеют деревянные постройки, а потому мало пригодны для обороны. К этому надо добавить, что и в этих местах широкий обзор встречается лишь изредка, так как повсюду разбросаны небольшие перелески. В общем выбор позиций очень стеснен. Поэтому, если полководец, как то было с Кутузовым, должен, не теряя времени, дать сражение и найти на протяжении двух-трех переходов подходящую местность, то, конечно, ему приходится мириться со многим.
Таким образом, полковник Толь не был в состоянии найти лучшей позиции, чем под Бородино. Последняя являлась, впрочем, парадной в том смысле, в котором этот термин применяется к лошадям, которые на первый взгляд обещают больше, чем могут дать. Правый фланг примыкал к Москве-реке, не имеющей здесь бродов, фронт был прикрыт речкой Колочой, протекающей по довольно глубокой долине; все это создало первое неплохое впечатление и сразу же подкупило генерал-квартирмейстера. Но дорога, ведущая из Смоленска в Москву, проходит, к сожалению, не перпендикулярно к Колоче, а некоторое время тянется параллельно с ней, а затем пересекает речку и сворачивает под тупым углом в сторону от нее у деревушки Горки. Вот почему, если расположиться параллельно речке, придется иметь путь отступления отходящим в косом направлении и тем самым с самого начала подвергнуть опасности левый фланг. Такое построение было тем более недопустимо, что на расстоянии полумили от большой дороги проходит другая дорога на Москву через селение Ельню, ведущая непосредственно в тыл этой позиции. Всякое расположение в таком пункте, где, как здесь, дорога сворачивает под резким углом, чрезвычайно невыгодно. Одно лишь продвижение вперед противника уже наполовину осуществляет обход, и путь отступления оказывается сразу под сильной угрозой, что в значительной мере парализует сопротивление. Правда, наступающий находится в одинаковых условиях, но так как он больше подготовлен к движению вперед и маневрированию, а обороняющийся – в меньшей степени, то выгода от такой аномалии, как общее правило, остается на стороне наступающего. Таким образом, излом дороги составлял большую угрозу для левого фланга, и нельзя было подвергать его еще большей опасности, построившись неперпендикулярно к пути отступления. В результате получилось, что правый фланг находился на прекрасной позиции параллельно Колоче, вправо от Московской дороги, но центр пришлось отнести назад от речки, а левый фланг загнулся глаголем. Благодаря этому все расположение получило форму выгнутой дуги, а наступление французов, следовательно, получило охватывающую форму, и огонь всего французского фронта действовал концентрически, что имело чрезвычайно важное значение при огромных массах артиллерии и очень стесненном пространстве. Местность на левом фланге не давала особых выгод. Несколько пологих холмов высотой до 20 футов составляли вместе с многочисленными оврагами и полосами низкорослого леса такое запутанное целое, что трудно было разобрать, которая из двух сторон могла извлечь из него наибольшую выгоду. При этом лучшая сторона позиции – правое крыло – не могла помочь делу. Положение в целом слишком привлекало французов к левому флангу, и правый фланг не мог отвлечь на себя их силы. Таким образом, занятие этой части позиции являлось лишь бесполезным распылением сил; гораздо лучше было бы, если бы правое крыло заканчивалось у Колочи в районе Горок, а остальное пространство до Москвы-реки только наблюдалось бы или занималось демонстративно.
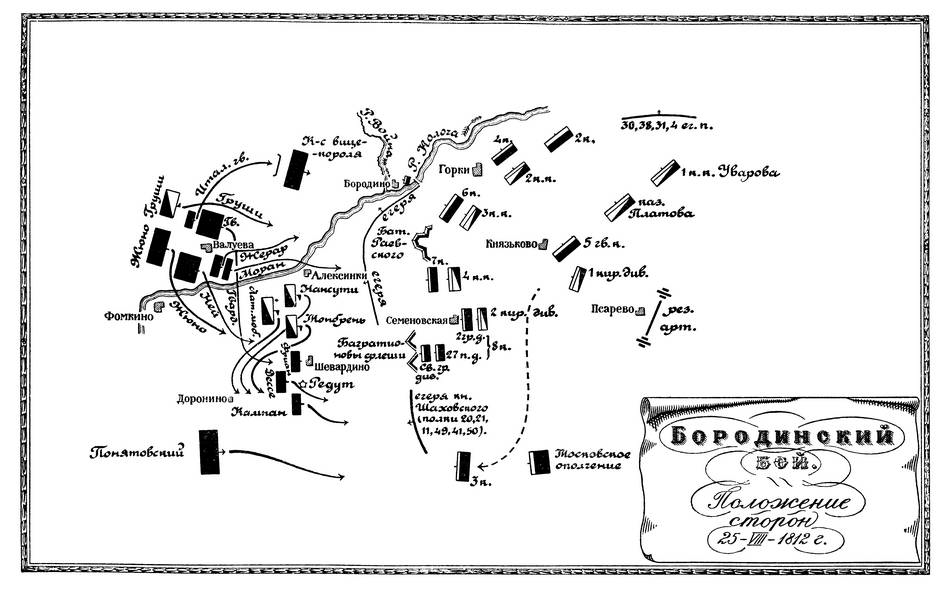
Бородинский бой. Положение сторон 25.VIII.1812 г.
Как выше было сказано, левое крыло было загнуто назад и оставалось открытым: поэтому оно было укреплено, а корпус генерала Тучкова был усилен московским ополчением. Таким образом, масса в 15 000 человек была поставлена на старой Московской дороге, настолько далеко позади и так скрытно, что она сама могла ударить в правый фланг и в тыл неприятелю, который стал бы обходить левый фланг русских. По мысли это мероприятие, как мы полагаем, было весьма удачно, но оно не достигло цели, так как ни силы, ни расстояния не находились в надлежащем отношении к целому, что мы ниже обсудим подробнее. Укрепления, наскоро сооруженные, находились частью на левом крыле, частью перед центром, а одно из них, как передовая позиция, находилось в нескольких тысячах шагов впереди левого крыла. Сооружение этих укреплений началось лишь после подхода армии. Вырытые в песчаном грунте, они сзади были открыты, не имели никаких искусственных препятствий, а потому могли рассматриваться лишь как отдельные пункты несколько повышенной обороноспособности. Ни одно из этих укреплений не могло выдержать серьезного штурма, а потому большинство из них по два и даже три раза переходили из рук в руки. Все же надо сказать, что укрепления внесли свою долю в сильное и мужественное сопротивление, оказанное русскими; на левом фланге они явились единственным местным преимуществом, имевшимся у русских.
Вначале, т. е. ранее, чем русские начали использовать другим способом свое правое крыло, они располагали на фронте приблизительно пятью пехотными корпусами, расположившимися в две линии, позади стояла кавалерия также в две линии; два корпуса в составе 4000 кирасир находились позади в качестве резерва, и, кроме того, на левом фланге находились в засаде 15 000 человек под командой генерала Тучкова, которых, следовательно, также можно рассматривать как резерв. Итак, можно сказать, что русские стояли в две линии с третьей и четвертой линиями кавалерии позади, и сверх того в качестве резерва оставалась треть всех сил. Если мы вспомним, что передняя линия русских занимала по фронту около 8000 шагов, что пять корпусов, составлявших две первые линии, насчитывали приблизительно 40 000 человек, т. е. по 20 000 человек в каждой линии, и если учтем к тому же большое число орудий (по 6 на каждую тысячу человек), то мы должны будем признать, что построение первых линий было очень плотным. Если к этому добавить, что корпуса Багговута и Остермана, оказавшиеся без дела на правом крыле, впоследствии были взяты оттуда и использованы на поддержку других пунктов и, следовательно, также играли роль резерва, то мы увидим, что русская армия дралась в этот день в беспримерном по тесноте и глубине построении. Столь же тесно, а следовательно, примерно также глубоко построилась и французская армия; если ее охватывающий фронт был несколько длиннее русского, то это с лихвой покрывалось большим числом ее бойцов. Такова наиболее характерная черта этого сражения.
1. Этим объясняется сильное и упорное сопротивление русских. Сражение началось в 6 часов утра и продолжалось до 4 часов пополудни, и за эти 10 часов русские на левом крыле, где они уступили больше всего пространства, потеряли всего лишь от 1500 до 2000 шагов. Лишь корпус Тучкова, вступивший в бой отдельно от других, должен был отступить на большее расстояние. Далее, за этот десятичасовой бой массы русского войска не утратили порядка. Очевидно, что и то и другое явилось следствием их густого построения, так как только при наличии известного простора кавалерия может быстро использовать и расширить до крупных размеров успехи, достигнутые пехотой и артиллерией. В результате вмешательства конницы возникнет частичное бегство, а с ним и известная утрата порядка и большая потеря пространства.
2. Этим же объясняются и огромные потери людьми. Согласно подсчету Бутурлина, русская армия потеряла за оба дня сражения в общем 50 000 человек, в числе которых было очень мало пленных. Русские в то время определяли свои потери лишь в 30 000, что нам представляется более правдоподобным. Но и эти потери, составляющие четвертую часть всей армии, являются совершенно необычайными.
Полковник Толь являлся решительным сторонником глубокого построения, т. е. занятия короткого фронта и сохранения сильных резервов. Автор также в этом построении видит лучшее средство обеспечить переход от обороны к наступлению с целью вырвать из рук атакующего преимущество инициативы, с которой тесно связано и преимущество внезапности. Автор не раз беседовал на эту тему с полковником Толем, и он не сомневается, что русская армия под Бородино построилась, главным образом, по указаниям этого офицера. Но мы не можем одобрить то использование этого принципа, которое полковник Толь в данном случае допустил. По нашему мнению, поле сражения должно было бы иметь большую пространственную глубину, т. е. кавалерию и резервы следовало отодвинуть глубже назад. На наш взгляд, уже ушли в прошлое те времена, когда на сражение можно было смотреть как на единый акт, в котором победа одерживается одним ударом путем искусного согласования всех частей огромной машины. Возможно, что такого времени никогда и не было, однако теоретические представления большей частью цепко держались за эту идею. Долгое время в основе этого представления лежали внезапность и косой боевой порядок, при помощи которых Фридрих Великий одержал свои победы при Лейтене и Росбахе. Но если мы примем во внимание: 1) как медленно протекают обычно все большие сражения, особенно в сравнении с временем, требуемым теперь на тактическое построение, 2) что, следовательно, взаимное истребление и истощение обеих сторон в огневом бою должны непременно предшествовать решению, 3) что, таким образом, решающий маневр относится на позднейшее время, то у нас не останется ни малейшего сомнения, что резерв, поставленный далеко позади, всегда еще может поспеть к решению, хотя бы он даже и не находился на поле сражения, а скорее рассматривался как двигающийся на подкрепление корпус. А при этом получаются следующие выгоды:
1) этот резерв совсем не страдает от огня;
2) он может быть легко полностью скрыт от неприятеля;
3) он может быть удобнее использован для охватывающего маневра.
Здесь мы не можем развить эту мысль с необходимой полнотой, мы лишь несколько уточним ее, указав, что для крупных масс, сохраняемых в резерве, мы имеем в виду удаление на расстояние от 3000–4000 до 5000 шагов, причем, конечно, не станем отрицать, что условия местности имеют существенное значение и часто могут сделать невозможным столь глубокое расположение.
Между тем на бородинской позиции полковник Толь в полной мере отдал должное принципу глубокого построения в отношении количества войск, размещенных в затылок друг другу, но совершенно не учитывал другой элемент – глубину в пространстве.
Кавалерия построилась в 300–400 шагах позади пехоты, а от нее до общего резерва оставалось едва 1000 шагов. В результате кавалерия и резервы жестоко страдали от неприятельского огня, не будучи чем-либо заняты. А если вспомнить, какое огромное количество артиллерии имелось в армии, и если учесть, что русская артиллерия вследствие многочисленности своих маленьких зарядных ящиков занимает больше места, чем какая-либо другая, то можно себе представить, как все было набито и наставлено друг на друге; автор до сих пор хранит в памяти яркое впечатление о загроможденности бородинской позиции.
Если бы кавалерия держалась на удалении в 1000 шагов позади пехоты, то она могла бы в той же степени и даже более удачно противодействовать всякому крупному успеху французов. Гвардия же и генерал Тучков, отодвинутые за кавалерию на такое же расстояние, не имели бы потерь от неприятельского огня, раньше чем сами пустили бы в ход свое оружие. Они тем самым могли бы быть использованы более неожиданно и с большим во всех отношениях успехом.
Автор так долго остановился на этой стороне Бородинского сражения потому, во-первых, что он считает этот вопрос в наше время крайне важным, так как он в той или другой форме возникает почти во всех сражениях, особенно в сражениях оборонительных, и, во-вторых, потому, что в Бородинском сражении эта сторона выступает ярче, чем другие черты его, не представляющие, с нашей точки зрения, ничего нового. К ним, однако, мы и переходим теперь.
Наполеон, сосредоточив все свои силы (130 000 человек), продвигается к позиции русских под Бородино, не доходя до этой позиции, переводит большую часть своих войск через Колоту и, как это само собою напрашивается, решает атаковать главным образом левый фланг, причем на корпус Понятовского возлагается его охват.
6-го происходит предварительный бой за передовую укрепленную позицию, которая находилась перед фронтом Багратиона (Шевардино). В конечном счете русские оказали упорное сопротивление и, избегая вводить в это побочное дело слишком много сил, вынуждены были к вечеру уступить этот пункт французам.
7-го в 6 часов утра началось собственно сражение. Евгений, имея около 40 000 человек, находился на левом берегу Колочи и должен был атаковать русский центр. Даву и Ней с такими же приблизительно силами стояли на правом берегу Колоти и должны были атаковать левый фланг русских. Жюно, гвардия и часть кавалерийского резерва, в свою очередь, составляли массу в 40 000 человек, которые группировались как резерв позади Даву и Нея, а Понятовский со своим корпусом в 10 000 человек должен был продвигаться вперед по старой Московской дороге и охватить левый фланг русских. Продвижение Понятовского по старой Московской дороге заставило генерала Тучкова вступить в дело раньше, чем рассчитывали русские; однако бой здесь начал принимать серьезный характер лишь между 8 и 9 часами утра, когда на других участках он велся уже несколько часов; так как задача Понятовского заключалась в том, чтобы охватить левый фланг русских, а ввязавшись в бой с Тучковым, он не смог ее выполнить, то можно сказать, что корпус Тучкова все же выполнил роль резерва. У Понятовского было только 10 000 человек, Тучков располагал 15 000, из которых, правда, только половину представляли регулярные войска. В этих условиях Понятовский не смог справиться со своим противником и был позднее поддержан 10 000 человек под командой Жюно, после чего корпус смертельно раненого Тучкова был вынужден очистить поле сражения и отойти на расстояние около 1/4 мили; занятое им новое расположение возбуждало тревогу за участь левого фланга русской армии и за путь ее отступления.
В центре и на левом крыле бой начался около 6 часов утра и в продолжение нескольких часов поддерживался сильным артиллерийским огнем и ружейным огнем русских егерских полков, которых при каждой дивизии было по два и которые большей частью выдвигались перед первой линией корпуса и образовывали стрелковую цепь; последняя, прикрываясь имевшимися довольно значительными местными препятствиями, энергично вела бой. Около 8 часов утра находившаяся по ту сторону Колочи деревня Бородино, которую защищал один егерский полк, была уже потеряна, и бой продолжался за обладание расположенными в центре укреплениями. Со стороны русских было принято решение организовать наступательный маневр против левого фланга французов.
Дело в том, что на правом фланге русских генерал Платов с двумя тысячами казаков занялся розыском брода через Колочу, переправился через нее и был крайне изумлен, не найдя почти вовсе неприятеля там, где предполагалось все его левое крыло. Он наблюдал левый фланг вице-короля, двигавшийся по направлению к Бородино. У него создалось впечатление, что здесь представляется особенно выгодный случай для нанесения противнику флангового удара и т. д. Мы говорим и так далее потому, что в большинстве случаев люди хорошо не знают, какая, собственно, цель должна быть достигнута такой фланговой атакой. Нападение на оставшуюся, по-видимому, без прикрытия артиллерию, находящуюся в резерве, захват разъезжающих взад и вперед зарядных ящиков часто рисуются в их представлении как действие, несравненно более значительное, чем оно является в действительности. Словом, Платов отправил к Кутузову принца Гессен-Филиппштадтского, сопровождавшего его в качестве добровольца, чтобы сообщить главнокомандующему о сделанном им открытии и предложить двинуть значительную кавалерийскую массу через брод, чтобы ударить в слабый пункт противника.
Принц Гессенский – молодой, неопытный офицер, который, пожалуй, больше самого Платова был увлечен этой идеей, обратился к полковнику Толю и так живо изобразил ему это дело, что оно в первую минуту действительно представилось чем-то значительным. Толя удалось привлечь на сторону этой идеи; он тотчас поехал к князю Кутузову, который расположился у небольшой деревни Горки. Автор, состоявший тогда в должности обер-квартирмейстера при первом кавалерийском корпусе (Уварова), находился в свите своего генерала как раз у Кутузова, когда подъехал полковник Толь. Последний только что вернулся с левого фланга и сделал доклад Кутузову, что все обстоит превосходно и что князь Багратион отбил все атаки. (В первые два часа боя иначе и быть не могло.) В этот же момент пришло донесение, что Мюрат взят в плен в центральном укреплении, временно очищенном русскими и затем снова занятом ими. Это вызвало взрыв энтузиазма, многие высказывались за то, чтобы немедленно сообщить это известие войскам; некоторые более хладнокровные генералы полагали, что ввиду полной невероятности этого известия следовало бы подождать подтверждения; впрочем, этому рассказу верили в течение целого получаса, хотя Мюрат так и не прибыл, что объяснили тяжкой раной, полученной им. Теперь вам стало известно, что то был не король Неаполитанский, а генерал Бонами, получивший тяжкую рану и оставленный французами при отступлении.
Среди общего энтузиазма и под радостным впечатлением благоприятного оборота, который принимало сражение, полковник Толь доложил Кутузову предложение принца Гессенского; сразу было видно, что Толь, чересчур увлеченный общим настроением, поверил, что сильная диверсия кавалерийского корпуса на левом фланге противника даст новый могучий импульс всему делу и, пожалуй, приведет к успешному решению сражения. Итак, он предложил воспользоваться для этого предприятия первым кавалерийским корпусом силой в 2500 коней легкой гвардейской кавалерии, остававшимся пока совершенно праздно позади правого крыла. Кутузов, выслушивавший все донесения и речи с совершенно рассеянным видом и лишь время от времени отвечавший: «Хорошо, сделайте так», и на это предложение сказал: «Ну, что же возьмите его!» Принц Гессенский предложил провести корпус через брод к решительному пункту. Итак, генералу Уварову было поручено последовать за принцем и по прибытии на место ударить французской армии во фланг и в тыл. Эта инструкция, конечно, являлась обычной, да и нельзя было дать более подробных указаний, но на основании нашего знакомства с тем, как совершаются дела на войне, мы все же не можем признать ее вполне удовлетворительной: в ней недоставало категоричности, подчеркивающей значение данного маневра.
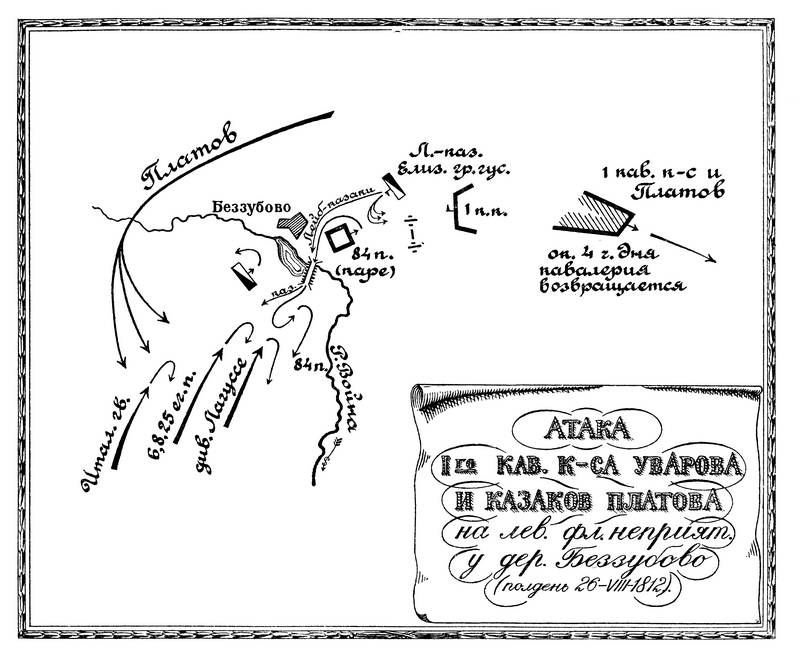
Атака 1-го кав. корпуса Уварова и казаков Платова на левом фланге неприятеля у дер. Беззубово (полдень 26.VIII.1812)
Если, несмотря на превосходство сил противника, еще можно было решиться выпустить из рук и вывести из состава боевого порядка корпус в 2500 коней, то надо было по возможности удостовериться в том, что полезное его применение обеспечено. Генерал Уваров, конечно, должен был атаковать более слабую или равную по силе конницу противника; это вытекало из общей задачи, данной ему; но ведь можно было предвидеть, что он наткнется и на неприятельскую пехоту, а при стремлении произвести серьезное действие – и на значительную массу пехоты с артиллерией. А ведь хорошо известно, что происходит, когда один род оружия должен сражаться с двумя родами оружия. Правда, у генерала Уварова было 12 орудий конной артиллерии, но что это значило при массе артиллерии, введенной в дело в этом сражении. Итак, мы хотим сказать, что надлежало вменить в обязанность генералу Уварову атаковать решительно все, что бы ему ни встретилось на пути, и при этом поставить себе задачей не столько победоносный бой, сколько привлечение на себя значительной массы неприятельских войск, дабы помешать их участию в наступлении противника; при этих условиях, если бы даже бой для самого генерала Уварова сложился невыгодно, то все же он имел оправдание. Подобное поручение всегда бывает тяжким, а честное выполнение его требует большей самоотверженности и воодушевления. Но нельзя ожидать, чтобы генерал, не получивший категорического приказа, стал бы действовать в таком направлении; напротив, следуя общему правилу, он скорее будет стремиться к удачному бою и избегать столкновения в невыгодных условиях.
Решение относительно этой диверсии было принято между 8 и 9 часами утра. Сражение находилось еще в первой стадии своего развития. Не было никакой возможности предвидеть в какой-либо мере его конечный исход; еще предстоял длинный день в 12 часов, а при настойчивости и силе характера противника можно было до последнего мгновения ожидать от него все новых и новых усилий. Имелось полное основание сказать: «Не хвались днем, пока не наступит вечер». Диверсия, произведенная 2500 коней, никоим образом не могла бы изменить общее течение такого сражения, в котором принимает участие армия в составе 130 000 человек; самое большее – она могла вызвать частичную и переходящую задержку в выполнении плана противника, может быть, в большей или меньшей степени поразить его. Если бы это ошеломление наступило в тот момент, когда и без того решение уже назрело и когда при всеобщем утомлении обеих сторон каждый новый толчок сам по себе становится все более эффективным, то можно было бы надеяться достигнуть чего-нибудь этой диверсией. Но ранним утром неприятель, очевидно, имея достаточно времени для противодействия значительными силами этому разрозненному наступлению, смог бы наголову разбить генерала Уварова и затем вернуться к выполнению своего основного плана.
Ниже мы поговорим о тех наступательных действиях, которые русские, безусловно, могли применить в этом оборонительном для них сражении, а теперь последуем за генералом Уваровым в его предприятии.
Он переправился через Колочу вброд выше Старого; затем свернул налево и взял направление на Бородино, причем ему, однако, пришлось заметно принять вправо из-за нескольких болотистых ручьев, впадающих в Колочу. Было между 11 и 12 часами утра, когда он прибыл к ручью, протекающему мимо Бородино и впадающему в Колочу. Слева от него была деревня Бородино, в которой прочно засели войска вице-короля, впереди его протекал по узкой, но топкой луговине вышеупомянутый ручей. По сию сторону ручья стояли несколько полков неприятельской кавалерии и густая масса пехоты, состоявшая из полка или батальона в сильном составе. Французская кавалерия тотчас же отступила через плотину, которая пересекает ручей приблизительно в 2000 шагов от Бородино; пехота же имела смелость остаться на этой стороне ручья и построиться в каре тылом к плотине. Генерал Уваров велел атаковать это каре.
Напрасно автор указывал на то, что сперва следует это каре обстрелять конной батареей; русские офицеры полагали, что тогда противник отступит и его не удастся захватить в плен. Итак, лейб-гусарский полк был выдвинут и брошен на каре. Он произвел три безуспешные атаки. Итальянцы сохранили спокойствие и порядок и хладнокровно открыли огонь; гусары, как это обычно имеет место при таком поведении пехоты, приблизившись на 30 шагов к каре, поворачивали обратно и уходили из-под обстрела. Генерал Уваров приостановил эти неудачные попытки и приказал батарее сняться с передков; при первом же выстреле неприятель начал отходить через дефиле. На этом и закончилось все дело.
Само селение Бородино атаковать кавалерией было невозможно; через ручей можно было перейти только по плотине. По ту сторону видно было, как в холмистой местности, поросшей кустарником, от 4000 до 5000 человек пехоты построены несколькими массами, за которыми находилась неприятельская кавалерия. В селении Бородино виднелось несколько сильных колонн, а за центром французской армии, позади боевого фронта, совершенно спокойно стояли большие массы войска – по-видимому, гвардия. Генерал Платов со своими 2000 казаков находился на расстоянии четверти часа от Уварова и разведывал переправу через топкий ручей.
К моменту прибытия генерала Уварова в указанный ему район прошло еще несколько часов ожесточеннейшего боя; русские начали рассматривать обстановку иными глазами, чем утром между 8 и 9 часами. Они заметили, что исполин только теперь всей своей тяжестью обрушился на них и что в конце концов им его не осилить. Корпуса Багговута и Остермана, стоявшие без дела на правом крыле, уже были брошены на поддержку левого фланга и центра; гвардия также направила часть своих сил в бой. Таким образом, русские резервы начали сильно таять, между тем как французская гвардия силою приблизительно в 20 000 человек неподвижно стояла густыми колоннами, как черная грозовая туча. Таким образом, русские не могли помышлять о каких-либо других наступательных действиях, кроме порученных генералу Уварову.
На этого генерала теперь были боязливо обращены все взоры, и один за другим приезжали адъютант, офицер генерального штаба и флигель-адъютант императора, чтобы посмотреть, нельзя ли что-нибудь здесь предпринять. Если мы не ошибаемся, то на одно мгновение появился здесь сам полковник Толь, более определенно припоминаем мы генерал-лейтенанта графа Ожаровского. Все возвращались в полном убеждении, что Уваров ничего сделать не может. Во-первых, нелегко было кавалерии переправиться под неприятельским огнем через ручей, а во-вторых, по ту сторону виднелось столько войск, образовавших свободные резервы, что отряду в 2500 коней было невозможно достигнуть такого успеха, который воздействовал бы на ход всего сражения.
Автор благодарит бога, что в этих обстоятельствах его роль сводилась к нулю и он даже не смог участвовать в разговорах, которые генерал Уваров вел по-русски с присылаемыми к нему офицерами. Автор с самого начала был убежден, что вся эта диверсия не будет иметь никакого успеха, а сейчас ясно сознавал, что если что-нибудь и могло получиться из подобного предприятия, то для этого во главе его должен был бы стоять какой-нибудь молодой сорвиголова, которому еще надо завоевывать себе репутацию, а отнюдь не генерал Уваров.
Пока тянулись эти совещания, прошло еще несколько часов. Внезапно на той стороне ручья на левом фланге французов в растущей там заросли поднялась сильная стрельба, и вскоре пришло известие, что Платов нашел наконец переправу и со своими казаками находится на той стороне в перелеске. Действительно, мы увидели, как эти бойцы, удивительные тем, что они проявляют то неслыханную храбрость, то неслыханную трусость, там среди заросли юлили между массами неприятельской пехоты, не производя серьезной сомкнутой атаки. Со стороны получалось представление, будто они вели с ними перестрелку.
Неприятельские части, находившиеся напротив нас, боясь оказаться защемленными в болоте, отошли несколько в сторону. Тут лейб-гвардии казачий полк, находившийся в корпусе Уварова, не мог дольше выдержать; как ракета с длинным хвостом, понеслись казаки к плотине, молниеносно оказались на другой стороне и присоединились в лесу к своим собратьям.
Бесспорно, в это мгновение Уваров мог бы за ними последовать, но ему не хотелось быть прижатым к теснине в том случае, если бы он был отброшен, или же быть вынужденным к беспорядочному отступлению врассыпную, как то иногда случается с казаками. Так как он уже отделался от всех посланцев Кутузова, Беннигсена и Барклая, то он и решил ничего не предпринимать в ожидании новых распоряжений. Ждать пришлось недолго. Вскоре вернулись гвардейские казаки, понесшие значительные потери убитыми и ранеными. В таком положении мы наблюдали все сражение, и во мне навсегда запечатлелась та картина усталости и истощения, которую оно постепенно приняло. Массы пехоты так растаяли, что представляли, пожалуй, менее одной трети первоначального числа бойцов; остальные были либо убиты, либо ранены, либо отводили раненых и собирались позади; словом, повсюду на фронте образовались большие пробелы. Огромная артиллерия, введенная с обеих сторон в бой, – до 2000 орудий – теперь давала о себе знать лишь отдельными выстрелами, но даже эти выстрелы, казалось, не давали прежнего могучего, громоподобного тона, а звучали глухо и хрипло. Почти повсюду кавалерия замещала пехоту, заняв ее место в боевом порядке; эта кавалерия и совершала свои атаки усталой рысью, продвигаясь взад и вперед по полю и отбивая друг у друга окопы.
Около 3 часов пополудни видно было, что сражение находится при последнем дыхании и что, следовательно, как в большинстве случаев, окончательное решение всего вопроса зависит от того, кто еще сохранил в руках последний козырь, сильнейший резерв. Ни этого, ни подлинного положения обеих сторон мы обозреть не могли; отдельные известия, доходившие до нас, не внушали особой тревоги. Это очень удивляло автора, так как центр, очевидно, уже несколько подался назад в местах стыков с крыльями, исходя из чего можно было судить и о положения левого крыла.
Около 3 часов Уваров получил от Кутузова приказание вернуться назад и снова занять прежнее место на позиции; итак, мы отошли назад и между 4 и 5 часами прибыли на наше прежнее место позади Горок, где и построились.
Весь ход сражения был чрезвычайно прост. Ввиду того что Тучков помешал охвату левого крыла, французы стали напирать перпендикулярно на центр и левый фланг всей тяжестью своих масс. После первого же часа сражения на подкрепление левого фланга был послан Багговут, несколько позднее центр был поддержан Остерманом, а отдельные гвардейские части были направлены на усиление фронта. Так тянулось сражение до 4 часов пополудни в ужасном огневом бою, причем попеременно при атаках той или другой стороны фронт передвигался то немного вперед, то немного назад. Превосходство французов как в численности, так и в тактике сказалось в том, что за эти десять часов русским пришлось постепенно уступить некоторое пространство, оставить укрепления и занять новое расположение, причем их боевой порядок еще более уплотнился, а левый фланг откинулся еще дальше назад, так что теперь он тянулся параллельно пути отступления и не дальше 200 шагов от него; старая же Московская дорога находилась почти целиком в руках французов.
В армии все еще полагали, что результат сражения является сомнительным. Шел разговор о том, что следует удержать за собой поле сражения, которое, собственно, еще не было утрачено, и этим упорством добиться победы, так как французы также обнаруживают признаки большого истощения. Но по существу вопрос был уже окончательно решен, и хитрый Кутузов не сомневался больше в том, как ему надлежит поступить. Превосходство сил французов, заметное и до сражения, еще возросло в результате сражения, так как потери русских были, безусловно, больше потерь французов; за время десятичасового боя чаши весов далеко не оставались в состоянии полного равновесия, а заметно склонились в ущерб русским; нельзя было ожидать лучшего результата при возобновлении боя; позиция русских совершенно сдвинулась и ставила под угрозу путь отступления.
Следующим этапом неуспеха явилось бы полное поражение. Сейчас армия еще находилась в порядке и могла, не расстраиваясь, отойти. Кутузов решил отступить ночью, что, бесспорно, явилось единственным разумным выходом.
Со своей стороны Наполеон мог ожидать отступления Кутузова; если бы он в этом отношении ошибся и русские 8-го еще продолжали бы оставаться на поле сражения, то ему пришлось бы их вновь атаковать. Не подлежит ни малейшему сомнению, что он так бы и поступил. Другой вопрос, был ли в состоянии Наполеон, имея в распоряжении еще достаточно времени до конца дня и располагая значительной массой совершенно свежих войск, совершить в этот день еще одно большое усилие и довести свою победу до полного разгрома неприятеля? Конечно, это было бы более в духе того метода, которому он обязан столькими успехами на войне. Возможно, что новыми атаками всех родов оружия он добился бы новых успехов и достиг бы того предела, за которым кавалерийские массы при преследовании могли бы завершить разгром русской армии. Однако, если стать полностью на ту точку зрения, которую в этот момент должен был занимать Наполеон, а именно вспомнить, как огромно было его предприятие в целом, какие громадные силы он собрал для него и как эти силы против всякого ожидания быстро таяли, вызывая опасение, что их может оказаться недостаточно, то станет понятным, что с этого момента важнейшей задачей для него могло представляться сохранение своей армии до того времени, когда зайдет речь о мире. Победа была в его руках, Москву он мог рассчитывать и так занять; выдвигать более крупную цель, поставив на карту последние силы, казалось ему, не вызывалось требованиями ни необходимости, ни разума.
Пусть нам не приводят того довода, что вследствие обычного противопоставления интересов обоих полководцев один из них обязательно должен был сделать ошибку, а именно: раз новый бой не был в интересах Кутузова, то он непременно должен был быть в интересах его противника. Это противопоставление относится лишь к конечной цели, но не к средствам. Обе стороны могут быть одинаково заинтересованы в том, чтобы искать боя или избегать его. Если бы Наполеон имел твердую уверенность, что ему удастся окончательно разгромить русскую армию, он, конечно, затратил бы на это еще часть своих сил; но русские очень храбры, они еще сохраняли полный порядок, местность, являвшаяся довольно открытой для России, все же не представляла вполне благоприятных условий для действий кавалерии: дорога на Москву была настолько широка, что русские могли следовать по ней двумя колоннами, рядом с которыми еще оставалось место для движения их артиллерии, так что отступление могло быть совершено, собственно говоря, четырьмя колоннами по одной и той же дороге, что чрезвычайно облегчало и обеспечивало отход армии. Все эти обстоятельства указывали, что игра будет нелегкая и связанная с крупными потерями. Далее, не надо забывать, что никогда оба полководца не базируются на одинаковых данных, что каждый до них всегда знает свое положение лучше, чем положение другого, а потому их умозаключения никогда не могут быть тождественными.
Итак, мы признаем, что итог Бородинского сражения не вызывает в нас никакого удивления в отношении поведения обеих сторон; наоборот, мы находим его вполне соответствующим естественному ходу событий.
Теперь еще несколько слов о диспозиции обеих сторон.
Как мы выше уже изложили, даже, может быть, слишком подробно, обе стороны располагались чрезвычайно тесно. Намеченный обход корпусом Понятовского, поскольку этот корпус насчитывал всего только 10 000 человек, являлся, по существу, ничтожным мероприятием, которое не могло оказать серьезного воздействия и которому сам Наполеон, по-видимому, особого значения не придавал. В конечном счете это наступление являлось, собственно говоря, фронтальным ударом или нажимом на неприятельскую позицию; но поскольку эта позиция имела выгнутое очертание, то и нажим на нее являлся концентрическим; таким образом, осуществлялась лишь часть задач, обычно связываемых с производством обхода. Если Наполеон сохранял эту простоту замысла, то это доказывает, что он высоко расценивал ожидаемое сопротивление; простая форма, естественно, является наиболее осторожной, наименее рискованной и в то же время и менее решающей. Если бы он только сковывал русский центр, который, бесспорно, по условиям местности был бесконечно сильнее левого фланга, а этот левый фланг попытался бы обойти не 10 000 человек, а 50 000, то сражение было бы решено раньше и, надо полагать, с большими результатами. Конечно, такая форма наступления была рискованнее, так как Наполеону при этом пришлось бы отодвинуть массу своих войск значительно в сторону от пути отступления, и при неуспехе положение ухудшилось бы.
Кутузов по справедливости должен был бы себе сказать, что в бою против морально и материально превосходящего противника на позиции, не являющейся сильной, нет никакого разумного основания рассчитывать на победу. Поэтому ему следовало базироваться на прочих преимуществах обороны, а именно на знакомстве с местностью и на обладании ею, чтобы использовать внезапность, т. е. ему следовало увязать свое оборонительное построение со средствами перехода в энергичное наступление.
Раз это контрнаступление должно было воздействовать посредством внезапного, а следовательно, короткого удара, то при выгнутом очертании фронта повести его следовало на том фланге, где нужно было ожидать атаки противника. Таковым, несомненно, являлся левый фланг; одно из преимуществ позиции русских и заключалось в том, что это можно было предвидеть с полной уверенностью.
Итак, мы полагаем, что Кутузову следовало, несомненно, принять меры для обороны местности вправо от Московской дороги до самой Москвы-реки; эту оборону следовало даже возможно резче подчеркнуть и соорудить здесь много укреплений; впрочем, занимать этот участок надлежало лишь демонстративно, только лишь для того, чтобы иметь возможность отразить первый натиск; далее, ему следовало остальные войска правого крыла, корпус генерала Тучкова и часть кавалерии центра объединить в массу численностью в 50 000 человек и скрытно расположить ее на удалении добрых получаса ходьбы и даже большем позади левого фланга армии; местные условия – многочисленные заросли – благоприятствовали этому. Гвардия оставалась бы в прежнем своем положении, в качестве резерва обороняющейся части армии, а также для прикрытия в первый момент левого фланга на случай направления против него главных усилий неприятеля.
Когда же после первого вступления, т. е. по истечении первых часов боя, масса войск, предназначенная для наступательных действий, была бы двинута против правого крыла неприятельской армии, то успех ее в больших по сравнению с ее естественной силой размерах зависел бы от степени внезапности ее появления, а также и от других случайных обстоятельств; во всяком случае, ее естественная роль в сражении не отпала бы и не была бы умалена; таким образом, и в данном положении от соотношения сил обеих сторон зависело бы, кому идти вперед, а кому – отступать. Однако русские имели бы то преимущество, что они находились бы по отношению противника в охватывающем положении.
Впрочем, довольно об этом!
В ночь с 7 на 8 сентября русская армия отступила, и притом, как мы уже упоминали, она двигалась по одной дороге четырьмя колоннами рядом. Прошла она всего лишь одну милю, а именно только за Можайск; это может служить достаточным доказательством того, что она сохраняла порядок и боеспособность, необычные после проигранного сражения. Автор также может засвидетельствовать, что он не заметил ни малейшего следа разложения в армии, о котором говорит в общем весьма беспристрастный французский писатель Шамбре. Число пленных не превышало нескольких тысяч, а число потерянных орудий исчисляется от 20 до 30. Следовательно, трофеи были незначительные.
Отсюда отступление до Москвы продолжалось безостановочно, но небольшими переходами. Бородино находится в 15 милях от Москвы, и это расстояние было пройдено в 7 переходов, так что через Москву армия прошла 14 сентября.
Командование арьергардом было возложено на генерала Милорадовича; арьергард состоял из 10 000 человек пехоты и приблизительно такого же количества кавалерии. При арьергарде находился и генерал Уваров со своим корпусом. Французы серьезно не нажимали на русский арьергард. В авангарде шел Мюрат с огромной массой кавалерии. Обе стороны обычно сталкивались только после полудня, развертывались, начинали перестрелку, в течение нескольких часов велся артиллерийский огонь, после чего русские снова отходили на некоторое расстояние, и обе стороны становились биваком. Этот марш также носил характер известной усталости и стратегического бессилия.
Лишь один день является исключением: 10 сентября Милорадович находился на расстоянии всего полумили от армии, когда к вечеру, за час до захода солнца, перед ним появились французы в составе всех трех родов оружия. Милорадович не мог уклониться от боя, так как при этом армии пришлось бы покинуть свой лагерь. Местность была довольно благоприятная, и Милорадович решил довести дело до крайности. Русская пехота, расположившаяся в мелкой лесной заросли на гребне небольшой возвышенности, дала энергичный отпор и, даже потеряв гребень, продолжала обороняться у подножия его еще свыше часа, несмотря на свое невыгодное расположение. Атаки французов отнюдь не имели демонстративного характера, но все же и здесь носили на себе какую-то печать бессилия. Бой продолжался до 11 часов вечера, и Милорадович удержался непосредственно у границ поля сражения.
Направление от Можайска на Москву, которое Кутузов избрал, также ставится ему в укор. Ему будто бы следовало двигаться по дороге через Верею на Тулу. Но на этой дороге он не нашел бы ни единого куска хлеба; все, что необходимо для армии в ее тылу, все эти силы, движущиеся взад и вперед и обслуживающие ее жизнь, находились на Московской дороге. Дорога на Верею несколько уклонялась в сторону и имела более угрожаемое направление; сама дорога была не так удобна, связь с Москвой легко и скоро могла быть утрачена – все это представляло затруднения, требовавшие сугубого внимания от армии, только что потерпевшей поражение. К тому же этот отход на Калугу едва ли привел бы к осуществлению основной задачи. Оставалось до Москвы всего лишь 14 миль; Наполеон не затруднился бы отрядить туда корпус в 30 000 человек, что при наличных обстоятельствах он мог бы сделать без малейшего риска; Москва все равно оказалась бы потерянной, а недальновидные русские еще, пожалуй, обвинили бы Кутузова в том, что своим искусственным маршем он без нужды отдал Москву неприятелю. Итак, Кутузов остался на самом правильном пути отступления, что на его месте, вероятно, сделал бы всякий другой полководец.
Здесь мы хотим сделать несколько общих замечаний относительно отступления русской армии и преследования ее французами. Эти замечания могут способствовать уяснению общего результата этого похода.
Русские, начиная от Витебска и до самой Москвы, находили повсюду в более значительных провинциальных городах склады с хлебом, крупой, сухарями и мясом; кроме того, из внутренних областей к ним навстречу прибывали огромные транспорты с продовольствием, сапогами, кожей и другим снабжением. Поэтому в их распоряжении было всегда множество подвод, бесчисленное множество лошадей, которых без труда можно было прокормить, так как трава и овес росли в поле, а русские обозы и в мирное время обычно довольствуют своих упряжных лошадей на пастбищах, встречающихся повсюду. Это давало возможность русской армии располагаться лагерем на любом удобном для нее месте; главное, с чем приходилось считаться, это было наличие воды. Лето было исключительно жаркое и сухое; эта часть России не очень богата водой; более мелкие ручьи большей частью пересохли, а что в таких случаях представляют собой деревенские колодцы, всякий знает. В общем ощущался большой недостаток в воде, и полковник Толь почитал за счастье, когда он мог расположить армию лагерем у небольшого озера.
Так как за исключением остановки под Смоленском все отступление от Витебска до Москвы являлось, по существу, непрерывным движением, а начиная от Смоленска объект перехода почти всегда находился позади армии, то весь отход представлял крайне простое движение, почти без всяких признаков маневрирования, причем не приходилось особенно опасаться неприятельского маневрирования. Когда мы постоянно отступаем и все время отходим в прямом направлении, то неприятелю очень трудно нас обойти, оттеснить в сторону и т. д.; к тому же надо помнить, что в этой стране очень мало дорог и крупных местных рубежей, так что в целом приходится считаться лишь с очень немногими географическими комбинациями.
Вследствие такого всестороннего упрощения крупного отступательного марша значительно сберегаются силы людей и лошадей; это по опыту известно каждому солдату. Тут не было заранее указанных мест встречи с долгим ожиданием на них, не было каких-либо движений взад и вперед, не было переходов по кружным дорогам, никаких внезапных тревог, словом, почти или вовсе не было тактического блеска и затраты сил. Даже служба сторожевого охранения не доставляла особых забот армии, так как ее несли привычные к ней казаки.
Где имелось рядом несколько удобных дорог, шли несколькими колоннами; а где боковые дороги становились плохими, вся армия двигалась по весьма широкому большаку, так что армию разделять ради снабжения не было надобности. Выступали в подходящий час, устраивались получше, а в изобильном корме ни люди, ни лошади никогда недостатка не имели. Правда, в большинстве случаев люди были лишены хлеба и должны были довольствоваться весьма плохими сухарями, которые, впрочем, не приносили вреда здоровью и были столь же питательны, как и хлеб. К этому надо добавить кашу, мясо и водку в изобилии. Лошадей приходилось преимущественно держать на зеленом корме; но русские лошади привыкли питаться сеном, и автор здесь впервые убедился, что этот корм более питателен, чем мы привыкли думать. Сено же и притом наилучшего качества можно было найти повсюду. Русские дают лошадям по 15–20 фунтов сена в день; они пренебрегали спелыми овсяными снопами, лежавшими рядом в поле, считая их менее здоровым кормом.
Только кавалерия, находившаяся при арьергарде (а здесь находилась большая ее часть), была в менее благоприятных условиях, в особенности потому, что в ней почти никогда не приходилось расседлывать коней. Автор не припоминает такого случая, чтобы за все время отступления ему когда-либо пришлось увидеть полк легкой кавалерии с расседланными конями; в результате почти у всех лошадей спины были в ранах.
Из всего этого мы можем заключить, что в материальном отношении русская армия за все 10 недель своего отступления чувствовала себя превосходно. Поэтому она таяла лишь постольку, поскольку она несла потери в боях; убыль же больными и отставшими была незначительна. Это сказалось довольно ясно в конечном счете.
Барклай и Багратион после отхода Витгенштейна располагали первоначально, не считая казаков, 110 000 человек. Подкрепления, которые постепенно вливались в армию во время ее отступления, можно оценить приблизительно в 30 000 человек. Через Москву же она прошла в составе 70 000 человек. Все потери, таким образом, достигали 70 000, большая часть которых падает на бои.
Совершенно обратное наблюдалось у французов. Если русские благодаря особым обстоятельствам оказались в необычайно благоприятных материальных условиях, которые даже в других более крупных государствах с наибольшим процентом обработанной площади не были бы столь благоприятны, то в такой же мере французы оказались в необычайно невыгодном положении.
Продовольствие наступающей и преследующей армий представляет всегда большие трудности, так как к моменту образования продовольственного склада армия уже успевает вновь продвинуться на известное расстояние и для своевременного снабжения требуется огромный транспорт. Эти трудности растут с уменьшением населенности и количества посевов в стране. У продвигающегося вперед имеются только два выхода, которые могут облегчить его положение. Во-первых, время от времени ему может удаться захват продовольственных складов отступающего; во-вторых, не будучи вынужден, как последний, держать свои силы в совокупности крупными массами, он может их дробить и, следовательно, в большей мере довольствовать войска за счет средств местного населения.
В России оба эти выхода отпадали: первый – потому, что русские большей частью поджигали свои магазины и даже большинство сел и городов, которые они оставляли позади себя, второй – по причине малонаселенности страны и недостатка проселочных дорог. Для того чтобы не закрывать окончательно этот второй выход, Наполеон все время вел армию тремя колоннами, из которых колонны, шедшие справа и слева от большой дороги, по большей части состояли каждая из одного корпуса, т. е. составляли вместе от 30 000 до 40 000 человек. Из обстоятельного изложения некоторых французских писателей видно, что этим колоннам приходилось в походе преодолевать большие трудности, и они обычно заканчивали переход поздно ночью с огромной растратой излишних усилий.
Поэтому трудности продовольствия должны были очень рано сказаться во французской армии, и это было совершенно очевидно.
Большой недостаток в фураже терпела также кавалерия; то, что можно было найти на ближайших к дороге полях, было уже использовано русскими; фуражировки приходилось совершать на известном удалении, и корм был в этих условиях недостаточным.
Но главное затруднение составляла вода. Обычно уже русский арьергард находил все колодцы вычерпанными, а более мелкие ручьи – приведенными в состояние полной непригодности, поэтому ему приходилось довольствоваться более значительными речками и небольшими озерами, которые встречались не везде. Но так как русские имели возможность заблаговременно производить рекогносцировку и выбирать для расположения наиболее удобное место, то зло для них не было так велико, каким оно часто являлось для французского авангарда, который не мог выслать вперед рекогносцеров и, как общее правило, должен был располагаться там, где натыкался на русский арьергард. При этом не имелось специальных карт страны, кроме так называемой подорожной карты, которую французы воспроизвели в увеличенном масштабе и перевели на французский язык. Однако при малом масштабе русского оригинала далеко не все населенные места были нанесены на ней и в еще меньшей мере мелкие особенности местности.
В памяти автора еще ярко сохранилось впечатление об удручающем недостатке воды во время этой кампании; никогда в жизни ему не приходилось в такой мере страдать от жажды: приходилось черпать влагу из самых отвратительных луж, чтобы избавиться от этой жгучей муки; что же касается мытья, то часто целыми неделями о нем не было и речи. Можно себе представить, как от этого страдала кавалерия; французы же, как уже было сказано, должны были страдать от этого вдвое больше. Хорошо известно, в каком плачевном состоянии французская кавалерия прибыла в Москву.
У русского арьергарда вошло в обыкновение поджигать занятые им деревни при оставлении их. Жители обычно еще раньше разбегались; все, что можно было найти из продовольствия и фуража, тут же поедалось, так что единственно, что еще оставалось, – это деревянные строения, не представлявшие в этой местности особой ценности. В этих условиях не слишком заботились о сохранении их от слома или пожара, и одного этого уже было достаточно для разрушения большинства этих домов. То, что вначале было плодом небрежности и необдуманности, постепенно превратилось в правило, которое стало распространяться на небольшие и даже более крупные города.
Мосты также подвергались разрушению, у верстовых столбов уничтожали обозначение числа верст, что ликвидировало превосходное средство ориентировки. Французам часто нелегко было выяснить, на каком именно пункте дороги они находятся, так как местные жители встречались крайне редко.
Вследствие всех этих затруднений продвижение французов частью задерживалось, частью же чрезвычайно затруднялось и разрушительно действовало на силы людей и лошадей. Французам потребовалось 12 недель для того, чтобы от Ковно дойти до Москвы, что составляет всего только 115 миль; из выступивших из Ковно свыше 280 000 человек достигло Москвы не более 90 000 человек.
14 сентября русская армия прошла через Москву, а арьергард получил распоряжение следовать за нею в тот же день; одновременно генералу Милорадовичу было поручено заключить с Неаполитанским королем соглашение, по которому русской армии будет дано несколько часов времени для полного очищения города. В случае отказа Милорадович должен был пригрозить, что русские будут драться с полным ожесточением у застав города и на улицах его.
Генерал Милорадович послал парламентера к французскому авангарду для передачи пожелания переговорить с Неаполитанским королем, который, как было известно, командовал авангардом. Спустя несколько часов было получено уведомление, что к аванпостам прибыл генерал Себастиани. Это не понравилось генералу Милорадовичу. Тем не менее он доехал на место и имел с французским генералом довольно продолжительный разговор, присутствовать при котором не был допущен никто из нас, находившихся в свите. После этого они вместе проехали добрый конец пути по направлению к Москве, и по разговору, который они вели, автор понял, что предложение генерала Милорадовича не встретило никаких возражений. Высказанное им пожелание, чтобы Москву по возможности пощадили, генерал Себастиани с большой живостью перебил словами: «Генерал! Император во главе армии поставит свою гвардию, чтобы делать совершенно невозможным какие бы то ни было беспорядки и т. д.». Это заверение он повторил несколько раз. Автору эти слова показались знаменательными, так как в них выражалось величайшее желание вступить во владение Москвой в полной сохранности, а с другой стороны, слова генерала Милорадовича, вызвавшие этот ответ, не позволяли верить в умышленное сожжение Москвы русскими.
Было около 3 часов пополудни, когда мы вступили в Москву, а между 5 и 6 часами мы уже развернулись за пределами города.
Москва в достаточной мере имела вид покинутого города. Несколько сот человек из беднейших слоев населения вышли навстречу генералу Милорадовичу и просили его защитить город. На улицах то и дело попадались кучки этих людей, печальными взорами следивших за нашим прохождением. Впрочем, улицы были еще так запружены покидающими город подводами, что генералу Милорадовичу пришлось послать вперед несколько полков кавалерии, чтобы расчистить дорогу. Самое тягостное зрелище представляло множество раненых, которые длинными рядами лежали вдоль домов и тщетно надеялись, что их увезут. Все эти несчастные были обречены на смерть.
Из города мы направились по Рязанской дороге и построились на расстоянии приблизительно 1000 шагов от города.
Генерал Себастиани обещал, что передовые части французского авангарда вступят в город лишь через два часа после нашего ухода. Поэтому генерал Милорадович был крайне поражен, заметив, что два полка неприятельской легкой кавалерии стали развертываться перед нами, когда мы едва успели построиться за городом. Он немедленно послал парламентера с просьбой переговорить с Неаполитанским королем. Но и на этот раз король не показался, считая, может быть, это ниже своего достоинства, и Милорадовичу снова пришлось довольствоваться разговором с тем же генералом Себастиани. Он сделал ему самые энергичные представления по поводу слишком поспешного движения вслед за русскими французского авангарда, на что Себастиани легко мог ответить указанием, что наше прохождение через город, задержанное различными обстоятельствами, затянулось на более долгий срок, чем то могли предполагать французы. В результате этих переговоров обе стороны продолжали стоять близко одна против другой, не предпринимая никаких враждебных действий. С этого места мы могли видеть, как через заставы, расположенные в стороне от нас, из пустеющей Москвы непрерывной вереницей тянулись небольшие русские телеги, причем в эти первые часы французы их не тревожили; наоборот, казалось, что казаки все еще продолжают быть хозяевами этих частей города, тогда как французский авангард был занят исключительно русским арьергардом. Далее, мы отсюда наблюдали, как в крайних предместьях Москвы уже в нескольких местах подымались столбы дыма, являвшиеся, по мнению автора, следствием господствовавшего там беспорядка.
Во время второго свидания генерала Милорадовича с генералом Себастиани автор испытал горестное удовольствие: проезжая мимо развертывавшихся двух первых уланских полков, он внезапно услыхал команду на немецком языке и притом с чисто берлинским акцентом: действительно, это были два прусских полка, из которых один – бранденбургские уланы – стоял постоянно в Берлине. Он использовал этот случай, чтобы через одного из офицеров подать о себе весть своим близким.
При прохождении через Москву автор с волнением ждал разрешения вопроса, по какой дороге мы направимся. Генерал Уваров заболел, его кавалерийский корпус окончательно перешел к Милорадовичу, и автор находился в свите этого генерала в качестве одного из второстепенных офицеров генерального штаба; поэтому ему случайно осталось неизвестным решение о направлении отступления. Для него было приятной неожиданностью, когда он увидал, что, по крайней мере, отступали не в прямом направлении на Владимир, а свернули вправо на Рязань. Он это связал с теми разговорами, которые велись в главной квартире офицерами генерального штаба. После сражения под Бородино автор этих записок не раз слышал от полковника Толя, к которому он ездил по делам службы, что, по его мнению, отступление за Москвой надо вести уже не по прежнему направлению, а что следует свернуть на юг. Автор с величайшей горячностью согласился с этим и употребил при этом вошедшее у него в привычку образное выражение, что в России можно играть со своим противником в «кошки-мышки» и, таким образом, продолжая отступление, под конец можно вновь привести противника к границе. В этом образном выражении, которое автор употребил в оживленном кратком разговоре, отражается, главным образом, пространственный фактор и выгоды гигантских протяжений, не дающих возможности наступающему простым продвижением вперед прикрывать пройденное пространство и стратегически вступить во владение им.
Развивая дальше эту мысль, автор еще ранее пришел к убеждению, что обширная страна европейской культуры может быть завоевана лишь при помощи внутреннего раздора. Такое направление мысли не отвечало складу ума полковника Толя, и он главным образом напирал на большую урожайность южных областей, на более легкое пополнение армии и на значительное облегчение воздействия на стратегический фланг противника. При этом, однако, он выразил автору свое опасение, что ему не удастся провести эту мысль, так как генералитет очень отрицательно относится к ней.
Нередко на эту тему беседовали между собой и молодые офицеры генерального штаба. Таким образом, если этот вопрос и не был разработан до полной ясности, то, по крайней мере, был обсужден во всех подробностях.
Мы приводим здесь все эти обстоятельства, чтобы показать, что замысел перехода на Калужскую дорогу, по поводу которого впоследствии так шумели и который в теории военного искусства получил оценку высочайшего достижения, не возник внезапно в голове полководца или кого-либо из его советников наподобие того, как Минерва родилась из головы Юпитера. Вообще мы всегда были убеждены, что идеи на войне большей частью так просты и доступны, что нахождение этих идей отнюдь не составляет заслуги полководца. Умение выбрать из представленных пяти или шести идей именно ту, которая даст наилучший результат, может основываться только на проницательности, быстро охватывающей и оценивающей множество смутно воспринимаемых отношений и при помощи одной интуиции мгновенно принимающей решение, вот это свойство скорее может считаться основной добродетелью полководца, но это нечто совершенно отличное от изобретательского дарования.
Но главное – это трудность выполнения. На войне все просто, но самое простое в высшей степени трудно. Орудие войны походит на машину с огромным трением, которое нельзя, как в механике, отнести к нескольким точкам; это трение встречается повсюду и вступает в контакт с массой случайностей. Кроме того, война представляет собой деятельность в противодействующей среде. Движение, которое легко сделать в воздухе, становится крайне трудным в воде. Опасность и напряжение – вот те стихии, в которых на войне действует разум. Об этих стихиях ничего не знают кабинетные работники. Отсюда получается, что всегда не доходишь до той черты, которую себе наметил; даже для того, чтобы оказаться не ниже уровня посредственности, требуется недюжинная сила.
После этого признания мы полагаем, что нимало не преуменьшим заслуг командования русской армии утверждением, что мысль продолжать отступление не назад, а в сторону сама по себе не представляет еще большой заслуги, и она была переоценена писателями.
Чтобы каждую вещь поставить на принадлежащее ей место, мы должны еще добавить, что конечный успех кампании отнюдь не имел своим источником эту мысль и не был тесно связан с нею. Изменение направления отступления получало бы значение главным образом в том случае, если бы оно явилось одним из средств заставить неприятеля уйти из страны. Это, однако, не имело места в данном случае, так как состояние французов требовало, чтобы они, во всяком случае, покинули страну, раз им не удалось заключить мир. Насколько нам теперь известно положение дел, Наполеон не имел никакой возможности ни следовать за Кутузовым по направлению к Владимиру, если бы последний избрал его для отступления, ни зимовать в Москве. В любом случае он был вынужден идти назад, так как стратегически он был истощен и должен был использовать последние силы ослабевшего тела на то, чтобы дотащиться назад. Единственная цель этого замечания – точное указание причинной связи, так как все же этот переход представлял существенную заслугу уже потому, что в русской армии не знали в точности действительного состояния французской армии и считали ее все еще способной продолжать наступление. Кроме того, фланговая позиция Кутузова на Калужской дороге давала выгоду более легкого воздействия на путь отступления и, следовательно, в некоторой степени способствовала достижению благоприятного результата; однако она отнюдь не должна рассматриваться как решающий фактор.
Автору неизвестно, каким путем полковнику Толю удалось провести свой взгляд. Рассказ, передаваемый полковником Бутурлиным в своей истории 1812 г., в главных чертах, вероятно, соответствует действительности; однако нас трудно убедить в том, будто Кутузов уже при выборе Рязанский дороги имел намерение перейти впоследствии с этой дороги на Калужскую. Ведь из Москвы ему было бы гораздо удобнее это сделать; ведь его блестяще выполненный фланговый марш, как бы хорошо он ни был организован, должен был все же представляться рискованным.
Если полковник Толь еще до прибытия в Москву хотел свернуть в направлении Калуги, то при этом он думал исключительно о том, чтобы не подвергать опасности Москву, так как произвести поворот в самой Москве было всего легче. Кутузов выбрал Рязанскую дорогу, потому что она была средняя дорога и представляла своего рода равнодействующую мнений, высказанных на военном совете. Надо полагать, что полковник Толь склонил его к движению налево лишь позже, потому что вскоре оказалось, что это движение можно выполнить без труда. Именно в первые дни французы настолько были заняты захваченной Москвой, что продвигались вперед весьма медленно и притом только по Рязанской дороге. От казаков, рыскавших по всем дорогам, стало известно, что окрестности Подольска еще совершенно свободны; кроме того, дорога туда была до известной степени прикрыта протекающей в довольно глубокой долине рекой Пахрой. На третий день после того, как мы покинули Москву, т. е. 16 сентября, было принято решение относительно флангового марша, 17-го и 18-го он был выполнен, и мы вступили на Тульскую дорогу.
Надо полагать, что эта дорога и была первоначальной целью флангового марша, и лишь после того, как старый главнокомандующий увидел, что дела идут так хорошо, он дал себя убедить предпринять третий марш до старой Калужской дороги, так как на Тульской мы задержались целый день.
Весь этот переход был выполнен настолько удачно, что французы на несколько дней совершенно потеряли соприкосновение с нами.
Во время этого перехода мы видели, как Москва непрерывно горела, и хотя мы находились от нее в 7 милях, все же временами ветер доносил до нас пепел. Хотя русские уже были приучены к жертвам пожаров Смоленска и многих других городов, все же пожар Москвы поверг их в глубокую печаль и еще более усилил в них чувство негодования против врага, которому приписывали этот пожар как акт подлинного зверства, как следствие его ненависти, высокомерия и жестокости.
Здесь мы подходим к вопросу о причине пожара. Читатель уже мог заметить, что командование армии, по-видимому, проявляло скорее заботу о сохранении Москвы, чем намерение ее разрушить; так, по всей вероятности, оно и было. В первое мгновение в армии пожар рассматривался как великое несчастье, как подлинное бедствие. Растопчин, которого автор этих записок имел случай встретить в небольшом обществе приблизительно через неделю после начала пожара, отмахивался руками и ногами от начинавшей тогда только зарождаться мысли, будто он поджег Москву. Те беспорядки, которые видел автор на улицах Москвы при прохождении арьергарда, и то обстоятельство, что столбы дыма впервые стали подыматься над окраинами города, где еще хозяйничали казаки, привели его к убеждению, что пожар Москвы явился следствием этих беспорядков, а также сложившегося у казаков обычая сначала подвергать грабежу, а потом поджигать все населенные пункты, которые приходилось уступать неприятелю. Что не французы подожгли город, в этом автор был твердо уверен, так как он видел, как они дорожили сохранением его в неприкосновенности; что пожар Москвы был делом рук русских властей, это, казалось, не подтверждалось никакими данными, а горячие и решительные заверения того человека, который должен был бы являться главным виновником этого дела, по-видимому, не оставляли никаких сомнений. Если бы Растопчин действовал, имея в виду великую жертву, которую необходимо принести, он не стал бы так решительно отрекаться. Поэтому автор долго не мог поверить, чтобы поджог Москвы был сделан умышленно. Однако после всех тех показаний, которые стали теперь известны, и в особенности после малоубедительной оправдательной записки, опубликованной по распоряжению графа Растопчина, автор не только усомнился в правильности своего первоначального взгляда, но даже почти пришел к убеждению, что, несомненно, Растопчин велел поджечь Москву и притом под собственную ответственность, без ведома правительства. Возможно, что немилость, которой он подвергся, и его продолжительное пребывание вне России явились последствием такого самоуправства, которое русский самодержец редко прощает.
По всей вероятности, в намерения правительства входила лишь эвакуация города, отъезд казенных учреждений и более знатных жителей, если вообще у него еще было время вмешаться в это дело; а это было возможно лишь в том случае, если бы еще в момент оставления Смоленска был поставлен вопрос о возможной эвакуации Москвы. Во всяком случае, эта мера, если бы даже она была выполнена по единоличному распоряжению Растопчина, получила бы полное одобрение правительства. Правда, от этой меры до поджога города шаг уже не так велик. Невероятным является, чтобы правительство и, главное, император Александр желали и предписали бы этот поджог. Это слишком противоречит мягкому характеру императора и столь же мало подходит к министерству, стоявшему изолированно и не опиравшемуся на воодушевление и фанатизм большого народного собрания. Между тем ответственность, которую на себя брал Растопчин, была огромна, потому что, как бы мало приготовлений ни требовало такое дело, он все же нуждался в нескольких исполнителях, которые получали бы непосредственно от него соответствующие приказания. Таким образом, если он сам совершил это дело, то, очевидно, он находился в состоянии страстного возбуждения и озлобления, придавшего ему силу принять решение, выполнение которого представлялось для него опасным и которое не могло ему принести ни чьей-либо благодарности, ни почета.
Личность графа Растопчина не такова, чтобы можно было предположить, что движущей силой его поступка были экзальтированное чувство или грубым фанатизм. Он обладает характером и образованием ловкого светского человека, привитыми к ярко выраженной русской натуре. С Кутузовым он находился в открыто враждебных отношениях, причем Растопчин обвинял Кутузова в том, что он до последней минуты нагло лгал, уверяя его и весь свет, что попытается для спасения Москвы дать еще одно сражение.
Во всяком случае, одним из самых замечательных явлений истории является то, что деяние, оказавшее, по распространенному мнению, столь огромное влияние на судьбу России, подобно плоду преступной любви, не имеет отца и, по-видимому, так и останется навсегда невыясненным.
Безусловно, нельзя отрицать, что пожар Москвы был очень невыгоден для французов; если он еще сильнее отдалил Александра от мысли заключить мир и послужил средством для экзальтации народа, то в этом, пожалуй, заключалось главное зло, какое он причинил французам. С другой стороны, было бы переоценкой единичного фактора смотреть на пожар Москвы как на главную причину неудачи всего похода; обычно французы делают эту ошибку. Конечно, известные материальные ценности, которыми французы могли воспользоваться, погибли во время пожара, но более всего они нуждались в людях, а таковых не нашлось бы и в уцелевшей Москве.
Армия в 90 000 человек с истощенными людьми и окончательно заморенными лошадьми, загнанная острым клином на 120 миль в глубь России, имевшая справа неприятельскую армию в 110 000 человек и кругом себя вооруженный народ, армия, вынужденная строить фронт ко всем странам света, не располагающая продовольственными складами и достаточным запасом снарядов и патронов, имеющая единственный путь сообщений, проходящий по совершенно опустошенной местности, не находится в условиях, допускающих расположение на зимних квартирах. Но если Наполеон не имел полной уверенности в том, что будет в состоянии продержаться в Москве целую зиму, то ему следовало начать отступление до начала зимы, и в этом случае сохранение или гибель Москвы не могли иметь особого значения. Отступление Наполеона было неизбежно, и сам поход его оказался неудавшимся с той минуты, когда император Александр отказался заключить мир. На достижении этого мира были построены все расчеты; в этом отношении Наполеон, конечно, ни минуты не обманывался.
В конце нашего повествования мы поместим несколько соображений относительно наполеоновского плана кампании, и все то, что по этому поводу можно было бы сказать, мы пока откладываем.
В этот период в русской армии господствовало настроение печали и подавленности, причем на мир в ближайшем же будущем смотрели как на единственный возможный исход. Нельзя сказать, чтобы армия сама утратила мужество, наоборот, в ней сохранилось солдатское чувство гордости и превосходства; такое чувство всегда укрепляет армию независимо от того, является ли оно обоснованным или нет. Но доверие к общему руководству войной сохранялось лишь в ничтожной мере; большие потери, уже понесенные государством, казались подавляющими, а исключительной стойкости и энергии в наступившей беде от правительства, видимо, не ждали. Поэтому близкий мир рассматривался как вероятное и даже желательное явление. Что об этом действительно думал князь Кутузов, вероятно, никто достоверно не знал; внешне же он подчеркивал, что резко возражает против каких-либо мирных переговоров.
Отсюда видно, как мало было в армии подлинного понимания сложившейся обстановки в целом. Тем не менее мы были уже близки к кульминационному пункту наступления французов; уже приближался момент, когда поднятый ими, но непреодоленный груз всей своей тяжестью должен был обрушиться на них самих. Генерал Барклай, который занимал второе место в армии и в качестве военного министра, должен был ближе всего быть знаком с войной в целом, находясь в окрестностях Воронова в начале октября, т. е. приблизительно за две недели до отступления французов, сказал автору и нескольким офицерам, явившимся к нему по случаю нового назначения: «Благодарите бога, господа, что вас отсюда отзывают, ведь из всей этой истории никогда ничего путного не выйдет».
Мы держались другого мнения; правда, мы были иностранцы, а последним легче сохранить объективность. Всем сердцем мы принимали участие в судьбах этой войны, но все же переживали горе глубоко уязвленной, страждущей и угрожаемое в самом ее существовании России не так остро, как русские. Такие переживания всегда оказывают известное воздействие на способность суждения. Мы дрожали лишь при мысли о мире и трудности момента рассматривали лишь как великое средство к спасению. Однако мы остерегались громко высказываться, так как за такие речи на нас взглянули бы весьма косо.
В Петербурге совершенно правильно оценивали оборот, который принимала война, и, к чести императора, надо добавить, что такой взгляд сложился у него не в последнюю минуту, а в более ранний период развертывания событий.
Постоянные донесения, получаемые императором из армии о ежедневных потерях неприятеля, которые, впрочем, может быть, писались преимущественно с целью пролить бальзам на раны, а не из глубокого убеждения в их истинности, победа Витгенштейна под Клястицами, первое сражение под Полоцком, в котором победа осталась под сомнением, несмотря на превосходство сил французов, взятие в плен саксонцев в Кобрине, подход Молдавской армии и Штейнтеля к обоим крайним флангам, правда, не преднамеренный, но вызванный обстоятельствами глубокий отход внутри страны за Смоленск, – во всем этом правящие люди в Петербурге увидели занимающуюся зарю надежды. При удалении в 100 миль от кровавых полей сражения, от разоренных сел и городов, от горестного отступления собственной армии и торжествующего продвижения неприятельской суждения бывают спокойнее и самостоятельнее. С этой точки зрения на отъезд императора Александра из армии приходится смотреть как на счастье.
Итак, вернувшись в Петербург, одушевленный первыми благоприятными симптомами возможного успеха, подкрепленный советами нескольких крупных людей, среди которых, конечно, находился и господин фон Штейн, император по своем возвращении принял решение не внимать никаким мирным предложениям, повсюду возможно энергичнее торопить вооружение и руководить войной в целом из Петербурга.
Мы видели, что идея отвести назад центр и затем действовать на фланги неприятеля лежала в основе первоначального замысла этой кампании, правда, в недостаточном масштабе. А теперь обстоятельства сами собой сложились так, что центр противника находился глубоко внутри России, в то время как правое крыло французов оставалось еще у границы, а левое – на Двине. Оба главных подкрепления из кадровых войск – Молдавская армия и дивизия из Финляндии – были двинуты по вполне обоснованному для них направлению против флангов, поэтому вполне естественным (что нисколько не умаляет его заслуги) являлось решение императора вернуться к первоначальной идее и осуществить ее в более крупном масштабе. Итак, было решено двинуть в тыл великой французской армии две армии в южной Литве и две – в северной, а именно армии Чичагова, Сакена, Витгенштейна и Штейнгейля; им было поставлено задачей отбросить стоявшие против них более слабые силы неприятеля, а затем наступать на основную артерию сообщений главных сил с целью перервать эту стратегическую артерию и в то же время преградить путь отступления возвращающимся главным силам.
Это решение было принято в Петербурге в начале сентября, и тогда же были отданы соответственные распоряжения. В то время исход Бородинского сражения еще не был известен, однако, как видно, принятые мероприятия были рассчитаны скорее на случай проигрыша, чем выигрыша сражения, что являлось вполне разумным. До сих пор весь образ действий императора Александра являлся безупречным. Однако распоряжения для четырех армий были составлены чересчур подробно, что являлось непрактичным и свидетельствовало о недостатке военного опыта. Результаты ясно это доказали, так как ни одна из этих диспозиций не могла быть выполнена. Знаменательно и характерно для порядков русского управления: силы, которые должны были сосредоточиться в Риге и у Витгенштейна, не имели и половины той численности, которая учитывалась в Петербурге. В результате, когда теперь читаешь петербургские диспозиции и сопоставляешь их с тем, что произошло в действительности и могло иметь место, то они производят отчасти комическое впечатление. Полковник генерального штаба Мишо, который был назначен флигель-адъютантом императора и пользовался тогда большим авторитетом, вероятно, принимал в разработке этих диспозиций преимущественное участие. Он был очень образованный офицер, перешедший из Пьемонтской армии, но, по-видимому, не имел вполне ясного представления о ведении большой войны и во всяком случае не имел практики в подобной работе.
Тотчас после прохода через Москву генерал Милорадович покинул арьергард, командование которым перешло к генералу Раевскому; состав арьергарда тоже подвергся изменению, вследствие чего автор вернулся в распоряжение главной квартиры. Когда он прибыл в штаб и представился генералу Беннигсену, ему вручили приказ императора, согласно которому он назначался начальником штаба гарнизона Риги. Место это раньше занимал другой, перешедший из прусской службы офицер, подполковник фон Тидеман, убитый во время вылазки 22 августа. Император пожелал иметь в этой должности немецкого офицера и вспомнил об авторе. Приказ уже лежал несколько недель в главной квартире и в сумятице текущих дел остался бы совершенно позабытым, если бы один из младших офицеров по дружбе не сообщил о нем автору.
Назначение к генералу Эссену обещало автору более соответственный круг деятельности, чем работа в одной из дивизий или одном из кавалерийских корпусов главной армии, где вследствие недостаточного знания языка он при неимоверных усилиях являлся лишь посредственным работником. Поэтому трудности кампании ложились на него двойным бременем, и он с удовольствием принял свое назначение. 24 сентября после кое-каких мелких задержек выехал он, снабженный надлежащей подорожной (путевой паспорт) из Красной Пахры, чтобы следовать на почтовых через Серпухов, Тулу, Рязань, Ярославль и Новгород в Петербург, там снова снарядиться всем необходимым и затем отправиться в Ригу.
Но уже при переезде через Оку у Серпухова его задержали дружинники, так как он не мог объясняться по-русски. Ни его подорожная, ни целый чемодан официальных русских писем, ни русский приказ о его перемещении, ни мундир не могли рассеять подозрений ополченских офицеров. Немец или даже, как полагало большинство, француз, да еще сопровождаемый слугой-поляком, казался им чересчур подозрительным. Они принудили автора повернуть обратно в главную квартиру с офицером, который туда возвращался. Чтобы не попасть снова в подобное положение, автор решил дождаться курьера и отправиться с ним вместе. По прошествии нескольких дней оказалось, что граф Шазо и барон Бозе, перешедшие первый из прусской, а второй из саксонской армии на русскую службу и проделавшие кампанию в свите наследного принца Ольденбургского, должны были ехать в Петербург, чтобы приступить к организации немецкого легиона; им дали для сопровождения русского фельдъегеря, и автор решил к ним присоединиться. В некоторых небольших городах во время этого путешествия нас чуть было снова не приняли за шпионов и не арестовали, несмотря на сопровождавшего нас фельдъегеря. Граф Шазо по дороге так расхворался, что нам часто приходилось останавливаться на ночлег; по этой причине мы пробыли в дороге 14 дней и достигли Петербурга только в середине октября.
Когда в Ярославле мы представлялись второму принцу Ольденбургскому, который тогда вернулся на работу в эту губернию и проявил себя весьма полезным и деятельным администратором, великая княгиня Екатерина Павловна дала нам аудиенцию. Французы еще не начали отступать, но убеждение, что они должны и будут отступать, вдруг создалось повсюду, и лишь немногие верили в возможность новых наступательных действий французов в южном направлении. Великая княгиня проявила огромный интерес к известиям из армии, она задавала нам весьма разумные и продуманные вопросы, и заметно было, как серьезно она взвешивала все то, что мы ей могли сообщить. Она задала автору вопрос, как он себе представляет, что предпримет теперь Наполеон, будет ли это простое отступление и по какой дороге. Автор отвечал, что он не сомневается в отступлении французской армии в самом скором времени, а также считает бесспорным, что французы пойдут по той же самой дороге, по которой они пришли; по-видимому, у великой княгини уже раньше сложилось то же самое убеждение. У нас осталось впечатление, что эта женщина рождена для того, чтобы царствовать.

