Книга: Повесть о Гэндзи (Гэндзи-моногатари). Книга 4
Назад: Поденки
Дальше: Плавучий мост сновидений
Упражняясь в каллиграфии…
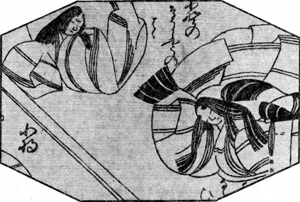
Основные персонажи
Монах Содзу – настоятель монастыря в Ёкава, на горе Хиэ
Старая монахиня из Оно, 80 лет, – мать Содзу
Младшая монахиня из Оно, 50 лет, – сестра Содзу
Молодая госпожа (Укифунэ), 22–23 года, – побочная дочь Восьмого принца
Тюдзё – зять младшей монахини из Оно
Первая принцесса – дочь имп. Киндзё и имп-цы Акаси, старшая сестра принца Хёбукё (Ниоу)
Государыня (Акаси), 46–47 лет, – дочь Гэндзи, супруга имп. Киндзё
Косайсё – прислужница Первой принцессы
Дайсё (Каору), 27–28 лет, – сын Третьей принцессы и Касиваги (официально Гэндзи)
Принц Хёбукё (Ниоу), 28–29 лет, – сын имп. Киндзё и имп-цы Акаси, внук Гэндзи
В те времена жил в Ёкава некий монах Содзу, известный в мире своей мудростью. Были у него мать и сестра. Первой перевалило за восемьдесят, второй недавно исполнилось пятьдесят. Однажды женщины решили совершить паломничество в Хацусэ, дабы отблагодарить Каннон за исполнение давней просьбы. Содзу отправил с ними Адзари, самого преданного своего ученика, коего отличал неизменной доверенностью. Отслужив соответствующие молебны и поднеся храму свитки с сутрами и изображения будд, паломники двинулись в обратный путь, но едва перевалили через гору Нарадзака, как старая монахиня почувствовала себя плохо. «По силам ли ей оставшийся путь?» – забеспокоились ее спутники, а как неподалеку, в Удзи, жил их давний знакомец, решено было остановиться там хотя бы на один день. Однако состояние монахини не улучшалось, и Адзари счел своим долгом сообщить об этом в Ёкава. Испугавшись, что его престарелая мать скончается, так и не добравшись до дома, монах Содзу поспешил в Удзи, нарушив таким образом данный некогда обет – не покидать горной обители до конца года.
Хотя в такие лета люди редко дорожат жизнью, Содзу употребил все усилия, чтобы исцелить больную. Собрав в доме самых сведущих во врачевании учеников, он повелел им читать молитвы и произносить заклинания, да и сам ни на миг не отходил от ложа матери. Узнав о том, что происходит, хозяин дома встревожился:
– Я собираюсь совершить паломничество на священную вершину Митакэ, – сказал он, – и как раз соблюдаю строгий пост. А ваша матушка так стара и обременена тяжелым недугом…
Что ж, он имел основания беспокоиться, и нельзя было не посочувствовать ему. К тому же жилище было слишком тесным и неудобным, поэтому Содзу решил потихоньку переправить мать домой, но случилось так, что именно то направление, в котором находился их дом, оказалось в те дни во власти Срединного бога. К счастью, Содзу вспомнил, что где-то рядом есть старая усадьба, известная под названием Удзи-но ин, которая некогда принадлежала покойному государю Судзаку и с управителем которой он был знаком. Не долго думая, Содзу отправил туда гонца, чтобы узнать, не смогут ли их там принять на день или два. В самом непродолжительном времени гонец вернулся с известием, что семья управителя еще вчера отправилась в Хацусэ, и привел с собой весьма неприглядного на вид старика, которого оставили сторожить дом.
– Если вам угодно остановиться в обители Удзи, то нечего и медлить, – сказал сторож. – Главный дом полностью в вашем распоряжении. В нем часто живут паломники.
– Вот и прекрасно, – обрадовался Содзу. – Я думаю, что там достаточно тихо теперь, хотя это и государева обитель.
И он отправил туда человека, поручив ему осмотреть дом. Старик-сторож, которому не внове было принимать нуждающихся в ночлеге паломников, быстро подготовил все необходимое.
Первым переехал Содзу. В усадьбе царило такое запустение, что ему стало не по себе, и, призвав монахов, он повелел им читать сутры.
Адзари, сопровождавший женщин в Хацусэ, и еще один ученик Содзу, сопутствуемые несколькими низшими по званию монахами, которым было поручено нести зажженные факелы, обошли дом и оказались в удаленной от жилых помещений части сада.
«Какое жуткое место!» – думали они, со страхом вглядываясь в темневшую неподалеку то ли рощу, то ли просто небольшую купу деревьев, и вдруг под одним из них заметили странное белое пятно.
– Что там? – остановившись, спросил Адзари. Попросив поднести факел поближе, он вгляделся пристальнее, и ему показалось, что под деревом кто-то сидит.
– Наверное, это лисица-оборотень! – сказал, подойдя, один из монахов. – Вот мерзкая! Ну ничего, сейчас мы увидим, каково твое истинное обличье.
– Осторожнее, не подходите! От этих тварей всего можно ожидать, – заявил другой монах и, сложив пальцы в мудру, призванную обращать в бегство всякую нечисть, устремил на неведомое существо грозный взгляд. Право, будь у Адзари на голове хоть один волос, и тот бы наверняка встал дыбом от страха. Между тем монахи с факелами, бесцеремонно приблизившись к дереву, принялись разглядывать сидящую под ним фигуру. Это была женщина с блестящими длинными волосами. Она сидела, прижавшись к огромному, причудливо торчащему корню, и горько плакала.
Вот чудеса! Надо бы позвать господина Содзу… – сказал один монах, а другой добавил:
В самом деле странно…
В конце концов один из них пошел к Содзу и доложил ему о случившемся.
– Мне приходилось слышать, что лисицы могут превращаться в людей, но сам я отроду не видывал ничего подобного, – сказал Содзу и поспешно спустился в сад.
До приезда монахини оставались считанные часы, слуги, собравшись в служебных помещениях, заканчивали последние приготовления, и в саду было пустынно. Сопутствуемый четырьмя монахами, Содзу подошел к дереву и вперил пристальный взор в странное существо, но оно и тогда не изменило своего обличья. Не зная, что и думать, он все смотрел и смотрел, а ночь между тем приближалась к концу. «Скорее бы рассветало, – подумал Содзу. – Тогда и станет ясно, человек это или оборотень». Делая пальцами соответствующие мудры, он произносил про себя «истинные слова» и в конце концов принужден был признать:
– Скорее всего это человек. Во всяком случае, я не вижу в этом существе ничего дурного или сверхъестественного. Подойдите и расспросите ее. Вряд ли это дух. Возможно, ее бросили здесь, сочтя мертвой, а она ожила.
– Но кто станет бросать умерших в этой обители?
– Если она человек, значит, ее обманом заманил сюда какой-нибудь лис или дух дерева.
– Так или иначе, все это не к добру. Разве можно перевозить больную в столь нечистое место?
В конце концов Адзари кликнул старика-сторожа, и все вздрогнули от ужаса, услыхав, как горное эхо повторило зов где-то вдалеке. Подошел сторож в шапке, некрасиво сдвинутой на затылок и открывающей лоб.
– Не живет ли где-нибудь неподалеку молодая женщина? Вот посмотрите, что мы обнаружили…
– Все это проделки лисиц, – ответил сторож, ничуть не удивившись. – С этим деревом часто происходят всякие чудеса. К примеру, позапрошлой осенью похитили двухлетнего ребенка у живущего по соседству человека и принесли сюда под это дерево. Так что ничего странного в этом нет.
– И что же, ребенок умер?
– Да нет, кажется, выжил. Лисы не так уж часто вредят людям, обычно они только пугают.
Судя по всему, сторож и в самом деле не видел в случившемся ничего из ряда вон выходящего. К тому же мысли его явно витали там, где готовилось вечернее угощение.
– Раз так, мы должны проверить, действительно ли здесь замешаны лисы, – сказал Содзу и, подозвав монаха, известного своей неустрашимостью, повелел ему подойти к женщине.
– Кто ты – демон, божество, лисица или дух дерева? Тебе не обмануть монаха, о мудрости которого говорит вся Поднебесная. Кто ты, открой свое имя…
Он потянул женщину за рукав, но она, спрятав лицо, заплакала еще горше.
– О презренный дух дерева, неужели ты надеешься ввести нас в заблуждение? – говорил монах, силясь заглянуть ей в лицо, хотя сердце его замирало от страха: а вдруг это страшный оборотень, не имеющий ни глаз, ни носа, о которых рассказывается в старинных преданиях? Не желая, чтобы собравшиеся усомнились в его храбрости, он попытался сорвать с женщины платье, но добился лишь того, что, упав на землю ничком, она разразилась рыданиями.
– Ничего более странного я еще не видывал, – заявил монах, решив во что бы то ни стало заставить женщину обнаружить свое истинное обличье, но тут Адзари сказал:
– Кажется, начинается дождь. Если мы оставим ее здесь, она непременно умрет, давайте хотя бы отнесем ее к изгороди.
– По всем признакам судя, перед нами самое обыкновенное человеческое существо, – сказал Содзу. – Мы поступим дурно, если оставим эту женщину без помощи, ведь жизнь едва теплится в ней. Я всегда печалюсь, видя, как умирают рыбы, выловленные из пруда, или олени, пойманные в горах, и чувствую себя виноватым, будучи не в силах помочь им. А человеческая жизнь так коротка, можно ли не дорожить даже двумя или тремя оставшимися днями? Мы не знаем, что случилось с этой женщиной – то ли ею завладел какой-нибудь демон или дух, то ли ее выгнали из дома или обманули. Не исключено, что ей предопределено судьбой умереть насильственной смертью. Но ведь Будда не отказывает в помощи и таким, как она. Попробуем же дать ей целебных снадобий и посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, нам еще удастся ее спасти. Ну, а если не удастся, тогда уж ничего не поделаешь.
И он велел тому храброму монаху внести женщину в дом.
– О, вы не должны! – зашумели одни. – Ваша матушка опасно больна… Нельзя пускать в дом эту тварь! Разве вы не боитесь скверны?
– Пусть это оборотень, – возражали другие, – но неужели мы допустим, чтобы живое существо умирало под дождем прямо у нас на глазах?
Зная, сколь болтливы слуги, Содзу распорядился, чтобы женщину поместили в той части дома, куда никто никогда не заходит.
Тем временем к воротам подвели карету, и старая монахиня прошла в приготовленные для нее покои. «Ах, как она страдает», – сокрушались люди, на нее глядя.
Когда все немного успокоились, Содзу спросил:
– Что с той женщиной?
– Она совсем слаба, не может говорить и едва дышит. Но чему тут удивляться? Вероятно, в нее вселился какой-нибудь дух, – ответил один из монахов, и младшая монахиня, сестра Содзу, спросила:
– А что случилось?
Рассказав ей о найденной женщине, монах добавил:
– В жизни не видывал ничего подобного, хотя мне уже седьмой десяток пошел.
– Подумать только! А ведь там, в Хацусэ, мне приснился однажды такой странный сон… – И монахиня заплакала. – Но что это за женщина? Нельзя ли мне взглянуть на нее?
– Разумеется, можно. Ее устроили здесь же, за восточной дверью, – сказал Содзу, и монахиня немедля прошла в указанные покои. Там не было никого из слуг, все разошлись, оставив женщину одну. Юная и прелестная, она была одета в платье из белого узорчатого шелка и алые хакама. Чудесный аромат исходил от ее одежд, в чертах же и во всем облике проглядывало несомненное благородство.
– О мое любимое, оплакиваемое дитя, неужели ты вернулась ко мне? – зарыдала монахиня и, позвав прислужниц, велела им перенести женщину во внутренние покои, а как те и ведать не ведали об обстоятельствах ее появления в доме, то, не испытывая никакого страха, поспешили выполнить распоряжение госпожи. Сначала женщина не подавала никаких признаков жизни, но вдруг глаза ее приоткрылись.
– Скажите же что-нибудь, – обрадовалась монахиня. – Кто вы? Как попали сюда?
Но та не отзывалась и, судя по всему, ничего не понимала. Монахиня попыталась напоить ее целебным отваром, но женщина была слишком слаба. Казалось, дыхание ее вот-вот прервется.
– Ах, какое горе! – заплакала монахиня. – Уж лучше бы… Призвав Адзари, известного своими чудотворными способностями, она сказала:
– Боюсь, что конец ее близок. Прошу вас, помогите ей своими молитвами.
– Ну вот, так я и знал, – заворчал Адзари. – Разве можно было брать ее в дом?
Тем не менее он сразу же принялся читать сутру и взывать к местным богам. Тут в покои заглянул Содзу.
– Что с ней? – спросил он. – Постарайтесь подчинить себе вселившегося в нее духа и расспросите его хорошенько.
Однако несчастная слабела с каждым мигом.
– Она все равно не выживет, – ворчал Адзари, – не понимаю, почему мы должны страдать из-за совершенно чужой нам женщины? Судя по всему, она не такого уж простого звания, и, если она умрет, разве вправе мы будем бросить ее здесь одну? Вот несчастье-то!
– Тише, – остановила его монахиня. – Не говорите никому ни слова. Иначе мы и в самом деле попадем в затруднительное положение.
Даже за матерью она не ухаживала так, как за этой никому не известной особой. Устремив на нее все сердечные попечения свои, она ни днем, ни ночью не отходила от больной и употребляла все средства, чтобы вернуть ее к жизни.
Да, эту женщину истинно никто не знал, но она была так прекрасна, что все только и помышляли о том, как бы помочь ей. Иногда она открывала глаза, и слезы бежали из них неудержимым потоком.
– Сжальтесь надо мной! – просила тогда монахиня. – Несомненно, сам Будда привел вас сюда, чтобы вы заменили мне мое горячо любимое дитя. Неужели и вы уйдете? О, лучше б мне никогда не видеть вас! Я уверена, что мы были связаны еще в прошлом рождении. Ну скажите же хоть слово!
– Для чего мне жить? – услыхала она наконец еле внятный шепот. – Я слишком ничтожна, слишком несчастна. Не говорите обо мне никому, а когда наступит ночь – бросьте меня в реку.
– О, как я рада, что слышу наконец ваш голос! Но что за ужасные вещи вы говорите? И зачем? Скажите же, что привело вас сюда?
Однако женщина не отвечала. Монахиня внимательно осмотрела ее, желая убедиться, нет ли каких ран у нее на теле, но ничего не нашла. Печально вздыхая, любовалась она этим прелестным существом, и постепенно в душу ее тоже начали закрадываться сомнения: «Уж не оборотень ли это, явившийся, чтобы смутить мой покой?»
Дня два или три оставались они в этой уединенной обители, вознося молитвы и свершая обряды, призванные облегчить состояние обеих больных, и самые темные предчувствия рождались в их сердцах.
Среди местных жителей нашлось немало людей, некогда прислуживавших Содзу. Узнав о том, что он изволит пребывать в обители Удзи, они явились засвидетельствовать ему свое почтение. И вот что они рассказали:
– Ах, какое случилось несчастье! Внезапно скончалась младшая дочь Восьмого принца, которой покровительствовал господин Дайсё. Никакой болезни у нее как будто не было, и все же…
– Потому-то мы и не заходили вчера. Пришлось принимать участие в погребальных церемониях.
«Может, какой-нибудь демон похитил душу умершей и принес к нам?» – подумал Содзу. Недаром что-то странное виделось ему в этой женщине, она словно не принадлежала этому миру.
– А ведь и в самом деле, вчера вечером мы видели огонь в горах, – заговорили прислужницы. – Но, пожалуй, он был недостаточно ярок для погребального костра…
– Устроители, как видно, решили обойтись без всякой пышности, – объяснили пришедшие, – многих обрядов вообще не было.
Рассудив, что они наверняка соприкоснулись со скверной, их даже не впустили в дом.
– Но ведь дочь Восьмого принца, которой был увлечен господин Дайсё, давно скончалась. Кого же они имеют в виду? – недоумевали прислужницы.
– Да и вряд ли он способен пренебрегать своей супругой. При его благонравии…
Тем временем здоровье старой монахини приметно укрепилось, а как нужное им направление уже не было под запретом, паломники собрались в дорогу, не желая задерживаться в столь мрачном месте.
– Но эта особа все еще очень слаба. А путь предстоит неблизкий… – возражали некоторые прислужницы. – По силам ли ей дорожные тяготы?
Приготовили две кареты: в одну села старая монахиня с двумя прислужницами, во вторую осторожно положили больную женщину. С ней помимо младшей монахини поехала еще одна прислужница. Ехали чрезвычайно медленно, то и дело давая больным целебный отвар. Монахини жили в местечке под названием Оно у подножия горы Хиэ, и путь туда был неблизкий.
– Жаль, что мы не подумали о ночлеге, – сетовали женщины. Было уже совсем поздно, когда они добрались наконец до Оно. Содзу помог выйти матери, сестра же его позаботилась о незнакомке.
«Увы, все старики обременены недугами, – думала старая монахиня, – и все же…» Изнуренная дальней дорогой, она снова почувствовала себя плохо, но довольно быстро оправилась, и Содзу возвратился в горную обитель.
Лицам монашеского звания не полагается давать приют подобным особам, поэтому Содзу постарался сохранить случившееся с ними в тайне. Его сестра тоже велела своим прислужницам молчать, заранее трепеща от страха при мысли, что кто-нибудь приедет к ним и будет расспрашивать о женщине. «Как оказалась она среди жалких бедняков? – гадала монахиня. – Может быть, заболела по дороге в храм и была оставлена злой мачехой?»
«Бросьте меня в реку!» – твердила несчастная, и больше от нее нельзя было добиться ни слова. Монахиня места себе не находила от беспокойства, только о том и помышляя, как бы побыстрее вернуть незнакомку к жизни. Но та лежала в постоянном забытьи, равнодушная ко всему на свете, и, казалось, надеяться больше не на что. Но разве могла монахиня оставить больную без помощи? К тому же этот странный сон… Рассказав о нем Адзари, который с самого начала произносил молитвы у изголовья больной, она попросила его возжечь в покоях мак, дабы преградить путь злым духам.
Так в неустанных заботах о незнакомке прошли Четвертая и Пятая луны. Истощив все старания исцелить ее, монахиня отправила гонца к брату. Поведав ему о своем отчаянии, она заключила письмо следующими словами:
«Прошу Вас, спуститесь с гор и помогите нам. Не думаю, чтобы эта женщина оставалась до сих пор жива, когда бы ей суждено было умереть. Но дух, в нее вселившийся, отказывается покидать ее тело. О почтеннейший брат мой, приезжайте, умоляю Вас. Если бы речь шла о столице, возможно, это и было бы нарушением обета, но Оно… Что в этом дурного?»
«В самом деле странно, – подумал Содзу. – Она до сих пор жива, а ведь если бы мы бросили ее там… Видно, судьбе было угодно, чтобы я нашел эту женщину, и теперь мой долг – постараться спасти ее. Если мои старания окажутся тщетными, придется примириться с мыслью, что ее жизненный срок исчерпан». И он спустился в Оно. Монахиня, не помня себя от радости, принялась рассказывать ему все, что произошло со дня их последней встречи.
– Болезнь, особенно такая долгая, непременно изменяет облик человека, – плача, говорила она, – а эта женщина по-прежнему свежа и прекрасна. Сколько раз казалось, что дыхание ее вот-вот прервется, однако она до сих пор жива…
– Я уже тогда заметил, что она удивительно хороша собой, – сказал Содзу, заглядывая за занавес. – И, похоже, я не ошибся – такой красавицы мне еще не приходилось видывать. Несомненно, судьба наделила ее столь привлекательной наружностью в награду за прошлые добродетели. Но какие преступления повергли ее в столь бедственное состояние? Может быть, вы знаете что-нибудь, что пролило бы свет на эту тайну?
– Увы, мне ровно ничего не известно. Да и откуда? Эту женщину подарила мне Каннон из Хацусэ.
– Полно, так ли это просто? Меж вами обязательно должна существовать какая-то связь, иначе Каннон не привела бы ее именно к вам.
Так и не разрешив своих сомнений, Содзу приступил к молитвам. Прежде даже ради Государя не прерывал он своего уединения, и если бы в мире узнали, что он спустился с гор из-за какой-то никчемной женщины… Поделившись своими опасениями с учениками, он взял с них обещание хранить все в тайне.
– Не говорите никому ни слова, – сказал он. – Я, недостойный монах, не всегда был верен данным мною обетам, но никогда не впадал в заблуждение из-за женщин. Впрочем, от судьбы не уйдешь, не исключено, что меня станут порицать за это теперь, когда мне пошел седьмой десяток.
– Но подумайте, учитель, – недовольно возразили монахи, – если вы позволите темным людям распускать недостойные слухи, это может бросить тень на Учение Будды.
Однако Содзу готов был наложить на себя любые, самые трудновыполнимые обеты, только бы молитвы его возымели действие. Всю ночь провел он у ложа больной, и к рассвету дух перешел наконец на посредника. Призвав на помощь Адзари, Содзу снова стал произносить заклинания, принуждая духа открыть, кто он и почему так мучает эту несчастную женщину. И дух, на протяжении долгих лун ничем не выдававший своего присутствия, усмиренный монахами, раскрыл свою истинную сущность.
– О нет, не для того родился я в этом мире, чтобы попасть сюда и покориться вам! – возопил он, изрыгая проклятия. – Я и сам был когда-то монахом и прилежно творил обряды, но какая-то ничтожная обида привязала меня к этому миру, и душа моя обречена на блуждания. Однажды я проник в дом, где было много прекрасных женщин. Одну из них я убил, а эта сама считала жизнь тягостным бременем и целыми днями твердила, что хочет умереть. Мог ли я не воспользоваться столь благоприятными обстоятельствами? Однажды темной ночью она осталась одна, и я завладел ею. Но к ней благоволит Каннон, потому-то я и покорился этим монахам. Теперь я покину ее тело.
– Но кто ты, назови себя! – взывали к нему, однако потому ли, что силы посредника иссякли, или по какой другой причине, но только больше монахам не удалось добиться ни слова.
Больная между тем постепенно приходила в себя. Осмотревшись, она увидела вокруг незнакомых монахов – старых, сгорбленных, и сердце ее заныло от страха и одиночества. Наверное, точно так же чувствовал бы себя человек, заброшенный в неведомые, чужие края. Она попыталась вспомнить, кто она и что с нею случилось, но, увы, память ее не сохранила ни имени, ни названия места, где она жила. Она смутно помнила, что, решив положить предел своим несчастьям, сделала последний, отчаянный шаг… Но куда же она попала? Ценой поистине нечеловеческих усилий ей удалось наконец восстановить в памяти тот давний вечер. Она вспомнила, что горько плакала, терзаемая какой-то тайной горестью, и так велико было ее отчаяние, что, когда все улеглись, она тихонько отворила боковую дверь и выскользнула из дома. Дул неистовый ветер, волны с грозным плеском бились о камни. Дрожа от страха и не помышляя уже ни о прошлом, ни о грядущем, она присела на край галереи. Она не понимала, куда идет, но одна мысль о возвращении повергала ее в отчаяние. Она решила умереть, и отступать было поздно. «Хоть бы меня проглотил какой-нибудь демон, – молила она. – Все что угодно, только не быть обнаруженной здесь. Какой позор!» Тут откуда-то появился красивый мужчина, подошел к ней и сказал: «Идите за мной». Помнится, он взял ее на руки. У нее мелькнула мысль: уж не принц ли это, и она лишилась сознания. Кажется, человек этот отнес ее в какое-то незнакомое место, а сам исчез. Она горько плакала, огорченная тем, что ей так и не удалось осуществить своего намерения… Больше она ничего не помнила. Судя по тому, что говорили окружавшие ее люди, с того дня прошло довольно много времени. Неужели им пришлось так долго ухаживать за ней? Какой позор! «О, зачем меня вернули к жизни!» – сетовала она и не брала в рот ни капли целебного отвара, хотя даже в те дни, когда она лежала в беспамятстве, монахине удавалось иногда кормить ее.
– О, почему вы разбиваете мои надежды? – плача, говорила монахиня, ни на шаг не отходившая от ее ложа. – Я так радовалась, что вам лучше, ведь столько дней подряд вы метались в жару…
Удивительная красота помогла женщине снискать расположение окружающих, и они охотно ухаживали за ней. Она же по-прежнему мечтала о смерти, но, несмотря на все испытания, жизненные силы ее не иссякли, и скоро она начала поднимать голову и перестала отказываться от угощения. Правда, как это ни странно, она и теперь продолжала худеть. Монахиня с нетерпением ждала полного выздоровления, и каково же было ее разочарование, когда, едва оправившись, больная стала просить:
– Позвольте мне принять постриг… Только тогда я смогу жить.
– Но при вашей красоте… Как можно?
В конце концов Содзу пришлось принять у нее пять первых обетов и выстричь небольшую прядь волос на темени. Разумеется, она рассчитывала на большее, но, привыкшая во всем покоряться воле старших, не решилась настаивать.
– Что ж, пока достаточно и этого, – заявил Содзу, – теперь надобно помочь ей восстановить подорванные недугом силы.
И, не задерживаясь, он удалился в горную обитель.
«Вот и сбылся мой сон», – радовалась монахиня. Она помогла женщине сесть и принялась собственноручно расчесывать ей волосы. Как это ни странно, они почти не запутались за время болезни и теперь, когда монахиня распустила их, упали тяжелой блестящей волной. В доме, где жили женщины, чьи седые пряди напоминали о том, что до ста лет им одного лишь не хватает (503), эта прелестная особа казалась спустившейся с небес феей, и монахини смотрели на нее со страхом и восхищением.
– Почему вы не хотите поделиться со мной своими горестями? – настаивала монахиня. – Разве вы не понимаете, как близко к сердцу я принимаю все, что вас касается? Скажите же, кто вы, откуда и как попали сюда?
– Очевидно, несчастья, выпавшие мне на долю, лишили меня памяти, – ласково ответила женщина. – К сожалению, я ничего не помню. Только очень смутно видится мне вечерний сад, я сижу на галерее, думая о том, как бы навсегда уйти из этого мира, и вдруг из-за большого дерева перед домом появляется какой-то человек и увлекает меня за собой. Остального, несмотря на все старания, я не могу вспомнить и даже не знаю, кто я. О, я хочу одного – чтобы люди забыли о моем существовании, – добавила она, и слезы покатились у нее по щекам. – Только бы никто не узнал, где я.
Видя, что женщине неприятно говорить о прошлом, монахиня не стала ее расспрашивать. Случившееся казалось ей чудом. В самом деле, ей повезло едва ли не больше, чем старику Такэтори, нашедшему когда-то деву Кагуя. «Но вдруг и она исчезнет?» – думала монахиня, и сердце ее тревожно сжималось.
Старая монахиня принадлежала к довольно знатному семейству. Ее дочь была супругой влиятельного сановника, когда же он скончался, сосредоточила попечения свои на единственной дочери. Соединив ее узами брака с юношей из благородного семейства, она окружила зятя нежными заботами, но, увы, прошло совсем немного времени, и дочь ее скончалась. Не снеся постигших ее несчастий, сестра Содзу решила переменить обличье и поселиться где-нибудь в горах, вдали от мирской суеты. Изнывая от тоски и одиночества, она мечтала найти кого-нибудь, кто заменил бы ей горячо любимую дочь, и вот совершенно неожиданно мечта ее осуществилась: ей ниспослана была эта прелестная особа, едва ли не превосходившая умершую и красотой и дарованиями. Разве это не чудо? Монахиня жила словно во сне, не в силах поверить в свое счастье. Несмотря на преклонный возраст, она была все еще красива, ее тонкие, нежные черты носили на себе отпечаток несомненного благородства.
Здесь, в Оно, ничто не напоминало женщине о ее прежнем жилище, даже ручей в саду журчал ласковее. Изящная простота строений, прекрасно подобранные цветы и деревья – во всем сказывался безупречный вкус хозяйки дома.
Скоро наступила осень. Мрачные, темные дни располагали к унынию. Пришла пора срезать рис в поле у ворот, и молодые служанки, подражая деревенским девушкам, пели песни и веселились. Пронзительная трескотня трещоток забавляла женщину, пробуждая в душе воспоминания о восточных землях…
Усадьба, где жили монахини, была расположена чуть дальше того «окутанного вечерним туманом» жилища, которое когда-то принадлежало матери принцессы Отиба. Одна стена его примыкала к склону, вокруг был сосновый бор, и в эту осеннюю пору ветер заунывно стонал в кронах сосен. Дни тянулись однообразно и тоскливо, все свое время монахини посвящали молитвам и обрядам. Когда выдавались светлые лунные ночи, сестра Содзу играла на китайском кото, а ее наперсница, дама по прозванию Сёсё, вторила ей на бива.
– Не хотите ли присоединиться к нам? – предлагали они. – Ведь вам, должно быть, скучно…
А женщина, видя, каким утешением была музыка для этих немолодых монахинь, снова и снова сетовала на свою злосчастную судьбу. «Как жаль, что меня не учили ничему подобному! – думала она, вздыхая. – К несчастью, я выросла в самом жалком окружении, к тому же у меня просто не было времени… Увы, сколь бессмысленно мое существование!» Иногда в поисках утешения она бралась за кисть и, упражняясь в каллиграфии, писала что-нибудь вроде такой песни:
«Я упала однажды
В реку Слез, и быстрый поток
Подхватил мое тело.
Кто же, поставив запруду,
Течению путь преградил?» (504)
«Ах, лучше бы мне умереть…» Мысли о будущем повергли женщину в уныние. В светлые лунные ночи монахини слагали стихи, вспоминали о прошлом, а ей нечего было рассказать им. Однажды, измученная тягостными раздумьями, она сказала:
– В далекой столице,
Сияньем луны озаренной,
Знает ли кто-нибудь,
Что я до сих пор блуждаю
По этому грустному миру?
В тот давний миг, когда ее жизнь, казалось, приблизилась к своему пределу, она вспомнила многих, но теперь помышляла единственно о матери. «Как она должна страдать! А кормилица? Сколько сил затратила она на то, чтобы помочь мне занять достойное место в мире! И, увы, все тщетно… Нетрудно себе представить, в каком она отчаянии! Но где она теперь? Ведь она даже не знает, что я еще жива. А Укон? Ближе ее у меня никого не было, мы жили душа в душу, никогда ничего не скрывая друг от друга, неизменно поверяя друг другу и радости свои, и печали…»
В доме не было иных прислужниц, кроме семи или восьми пожилых монахинь; впрочем, ничего другого и ожидать было невозможно. Никто из молодых дам не согласился бы поселиться здесь, вдали от блеска и роскоши столичной жизни.
У некоторых монахинь были дочери или внучки, но они либо поступили на службу в столице, либо устроили свою жизнь каким-то иным образом, во всяком случае, в Оно они не остались и лишь иногда наведывались сюда. Женщина старалась не показываться никому из приезжих. «Они могут бывать в тех домах, с которыми я была когда-то связана, – думала она, – и в конце концов в столице узнают, что я еще жива. Люди станут выдумывать разные нелепости, гадая, каким образом я попала сюда…»
Ей прислуживали лишь Дзидзю и Комоки, дамы, прежде находившиеся в услужении у младшей монахини. Эти особы ничем не походили на тех «столичных птиц» (505), с которыми она имела дело прежде, – ни наружностью, ни манерами.
«Неужели я действительно нахожусь уже за пределами этого мира?» – то и дело спрашивала себя женщина. Монахиня же, понимая, что ее крайняя скрытность должна быть обусловлена важными причинами, даже домашним не рассказывала никаких подробностей.
Бывший зять монахини достиг к тому времени звания тюдзё. Его младший брат, монах Дзэнси, будучи учеником Содзу, жил в горной обители, и родные время от времени поднимались в горы, чтобы его наведать. Однажды по дороге в Ёкава Тюдзё заехал в Оно.
Услыхав крики передовых и увидев, что к дому приближается изящно одетый мужчина, женщина невольно унеслась мыслями в прошлое, и перед взором ее возник пленительный образ…
Здесь было так же уединенно и уныло, как в Удзи, но благородные привычки и тонкий вкус обеих монахинь ощущались в каждой безделице. У изгороди пышно цвела гвоздика, «девичья краса» и колокольчики тоже уже раскрывали свои бутоны. Спутники Тюдзё, так же как и их господин, облаченные в яркие охотничьи платья, прогуливались по саду, а сам он, расположившись на южной галерее, любовался живописным пейзажем. Он казался несколько старше своих двадцати семи – двадцати восьми лет и производил впечатление весьма разумного человека. Монахиня беседовала с ним, сидя за стоявшим у двери переносным занавесом.
– Идут годы, и все более далеким становится тот день, когда милое дитя мое покинуло наш мир, – плача, говорила она. – Но вы не перестаете осенять светом своих милостей наше мрачное жилище. О, если б вы знали, с каким нетерпением я жду вас! Хотя не скрою, мне кажется странным….
– Я ни на миг не забываю о прошлом, – ответил Тюдзё. – Боюсь только, что теперь, когда вы отвернулись от мира, я невольно пренебрегаю своими обязанностями по отношению к вам. Ах, как я завидую тем, кто живет здесь в горном уединении! Я охотно приезжал бы к вам чаще, но стоит людям прослышать о моем отъезде, как они начинают просить, чтобы я взял их с собой. Но сегодня мне повезло, я сумел ускользнуть…
– В наши дни многие говорят, что завидуют бедным жителям гор, и я вижу – вы не исключение. Но не в пример другим вы не забываете о прошлом, и за это я вам крайне признательна.
Распорядившись, чтобы спутникам Тюдзё подали рис, монахиня принялась угощать зятя семенами лотоса и прочими лакомствами. Будучи связанным с этим семейством давними узами, Тюдзё чувствовал себя здесь совершенно как дома. Внезапно начался ливень, и, задержанный им, он беседовал с монахиней дольше обыкновенного. Несчастная мать не переставала оплакивать утрату любимой дочери, но в не меньшее отчаяние приходила она при мысли, что этот прекрасный молодой человек станет ей чужим. «Как жаль, что не осталось хотя бы памяти…» – вздыхала она, когда же Тюдзё приезжал, старалась предупредить малейшее его желание и рассказывала обо всем, что приходило ей на ум.
Молодая госпожа между тем сидела, задумчиво глядя на сад, и мысли ее устремлялись в прошлое. Она была истинно прекрасна в тот миг, несмотря на слишком яркое белое платье и темные без глянца хакама – монахини носили тускло-коричневые, а поскольку ей не хотелось отличаться от них… Увы, разве так одевалась она в прежние времена? Впрочем, даже в этом жестком, дурно сшитом наряде она казалась удивительно изящной.
– Нам почти удалось убедить себя в том, что вернулась покойная барышня, – шептались прислуживающие монахине дамы.
– Однако приехал господин Тюдзё, и тоска по прошлому стала еще сильнее.
– Но что мешает ему и теперь посещать наш дом, как бывало прежде? Раз уж так случилось…
– И правда, чем не пара?
«Нет, не бывать этому! – подумала женщина, услыхав их перешептывания. – Пусть я осталась жива, но я не стану больше ни с кем себя связывать. Ничто не должно напоминать мне о прошлом. Чем быстрее изгладится оно из моей памяти, тем лучше».
Монахиня удалилась во внутренние покои, а гость остался на галерее и сидел, уныло глядя в небо. Внезапно, услыхав чей-то знакомый голос, он прислушался и, узнав Сёсё, подозвал ее.
– Я не сомневался, что все дамы, которых я знал прежде, остались здесь, но вы и вообразить не можете, как трудно мне приезжать сюда. Боюсь, что вы чувствуете себя обиженными…
В прежние времена Сёсё всегда прислуживала Тюдзё, и он с удовольствием воспользовался случаем, чтобы поговорить о прошлом.
– Когда я входил на галерею, – сказал он между прочим, – внезапный порыв ветра взметнул занавеси, и я успел увидеть длинные волосы какой-то женщины. Признаться, я был удивлен немало. Она так не похожа на остальных. Кого это вы прячете здесь, вдали от мира?
«Наверное, господин Тюдзё заметил, как молодая госпожа переходила во внутренние покои, – догадалась Сёсё. – А уж увидев ее вблизи… Ведь он до сих пор не может забыть умершей, а эта куда красивее».
– Вы знаете, как горевала наша госпожа, как трудно было ей примириться с утратой дочери, – сказала она. – Но совершенно неожиданно случай свел ее с одной особой, которая, став предметом ее сердечных попечений, помогла ей обрести утешение. Только одного не понимаю: как удалось вам увидеть ее? Обычно она никому не показывается.
«Вот, значит, в чем дело!» – подумал Тюдзё. Любопытство подстрекало его узнать больше о прелестной незнакомке, чей образ, на краткий миг мелькнув перед взором, успел воспламенить его воображение. «Кто она? – гадал он. – Я не видел женщины прекраснее». Однако сколько он ни расспрашивал Сёсё, она твердила одно:
– Со временем вы все узнаете сами.
Настаивать было неудобно, к тому же спутники уже торопили его, говоря:
– Дождь кончился, скоро совсем стемнеет.
Спустившись в сад, Тюдзё сорвал росший перед покоями цветок «девичьей красы» и, помедлив, произнес словно про себя:
– «Зачем же и здесь?» (506).
– Так, люди всегда готовы злословить, – умилились старые прислужницы. – Какая похвальная предусмотрительность!
– Господин Тюдзё и раньше казался мне средоточием всех мыслимых добродетелей, – согласилась монахиня. – А с годами он стал еще лучше. Почему бы и в самом деле нам не возобновить прежних отношений? Говорят, что он связан с дочерью То-тюнагона, но душа его не лежит к ней, и большую часть времени он проводит в доме отца…
– Неужели вы не понимаете, как обижает меня ваша скрытность? – продолжала она, обращаясь к молодой госпоже. – Вы целыми днями печалитесь и вздыхаете, а мне не говорите ни слова. Давно пора примириться со своим предопределением и перестать кручиниться. Посмотрите на меня. Пять долгих лет оплакивала я свое дорогое дитя, но появились вы, и прошлое забыто. Не сомневаюсь, что и ваши близкие, как ни велико было сначала их горе, постепенно привыкли к мысли, что вас больше нет в этом мире и утешились. Увы, никакое чувство не может длиться вечно.
– Я вовсе не хочу таиться от вас, – еле сдерживая рыдания, отвечала молодая госпожа. – Но с тех пор как столь чудесным образом вернулась ко мне жизнь, прошлое видится мне словно во сне. Иногда мне кажется, что именно так должен чувствовать себя человек, возродившийся в ином мире. Живы иль нет те, кто знал меня в прежние времена, – что мне до того? Прошлое изгладилось из моей памяти. У меня нет никого, кроме вас.
Улыбаясь, глядела монахиня на прелестное невинное лицо молодой женщины.
Между тем Тюдзё добрался до Ёкава, и его принял там Содзу, пожелавший побеседовать с дорогим гостем. Тюдзё провел в горной обители всю ночь, услаждая слух прекрасной музыкой и слушая, как монахи звучными голосами читают сутры. Рассказывая брату своему Дзэнси о том, что произошло с ним со дня их последней встречи, он между прочим сказал:
– По дороге сюда я заехал в Оно и имел удовольствие беседовать с монахиней. Трудно найти женщину более утонченную, даром что она отвернулась от мира.
– Когда я был там, – продолжал он, – ветер неожиданно взметнул занавеси, и взору моему предстала какая-то женщина с удивительно красивыми длинными волосами. Очевидно, она боялась, что ее увидят снаружи, и встала, чтобы пройти во внутренние покои. Разумеется, я ничего не успел разглядеть, но в этой женщине с первого взгляда видно особу благородного происхождения. Право же, ей не место в доме, где живут одни монахини. В конце концов она и сама станет похожа на них, что было бы весьма досадно!
– Кажется, монахини нашли ее где-то возле Хацусэ, куда совершали паломничество нынешней весной. Говорят, это произошло при весьма таинственных обстоятельствах.
Ничего более определенного Дзэнси сказать не мог, ибо подробности ему и самому не были известны.
– Что за трогательная история! Но кто она? Наверное, ей довелось изведать в жизни немало горя, иначе она вряд ли стала бы искать пристанища в такой глуши. Да, совсем как в старинной повести…
На следующий день Тюдзё отправился обратно в столицу, и надобно ли говорить о том, что по пути он заехал в Оно? На этот раз монахини были готовы к его приезду, и их ласки и угождения живо напомнили о прошлом. Разумеется, рукава прислуживающей ему Сёсё были теперь другого цвета, но разве стала она от этого менее привлекательной?
Беседуя с гостем, монахиня то и дело заливалась слезами.
– А что за особа скрывается в вашем доме? – как бы между прочим спросил Тюдзё.
Нетрудно вообразить, в какое замешательство привел монахиню этот вопрос, но, подумав, что бессмысленно отрицать существование особы, которую Тюдзё скорее всего уже видел, она ответила:
– Вы знаете, что все эти годы я ни на миг не забывала о своем горе и лишь увеличивала бремя, отягощающее мою душу, Но вот несколько лун тому назад я встретила одну молодую особу, которая помогла мне обрести утешение. По-видимому, ей довелось изведать в жизни немало горестей. Что-то постоянно гнетет ее, и она трепещет от страха при мысли, как бы люди не узнали, что она еще жива. Я была уверена, что вряд ли кому-то удастся отыскать ее здесь, на дне этого ущелья… Как же вы узнали о ее существовании?
– Даже если бы вы имели основания сомневаться в чистоте моих помыслов, я был бы вправе рассчитывать на снисхождение хотя бы потому, что не испугался опасностей, которыми грозят эти крутые горные тропы. Но, насколько я понимаю, речь идет об особе, которая заменила вам дочь, и я надеюсь, что вы не станете скрывать ее от меня, делая вид, будто она не имеет ко мне никакого отношения. Вы говорите, что ей довелось изведать немало горестей. Но в чем их причина? О, как бы мне хотелось ее утешить!
Распрощавшись с монахиней, Тюдзё взял листок бумаги и написал:
«Не покоряйся
Своенравному ветру полей,
«Девичья краса!»
Окружу тебя вервью запрета,
Хоть путь и неблизок к тебе».
Это послание он передал через Сёсё. Увидев его, монахиня сказала:
– Будет лучше, если вы ответите. Господин Тюдзё – человек тонкой, чувствительной души. Он никогда не позволит себе ничего, что могло бы оскорбить вас.
Но молодая госпожа отказалась наотрез.
– У меня слишком плохой почерк, – заявила она.
Было ясно, что убедить ее не удастся, и монахиня, понимая, что молчание может обидеть Тюдзё, написала ответ сама:
«Разве я не предупреждала Вас, что наша молодая госпожа – особа весьма своенравная, непохожая на других женщин…»
«"Девичья краса"
Бессильно поникла, попав
В бедную келью,
Что служит прибежищем нам
От горестей тщетного мира».
«Для первого раза довольно и этого», – подумал Тюдзё и уехал в столицу.
Докучать женщине письмами было бы нелепо, однако Тюдзё не мог выбросить из памяти мельком увиденный образ. Он не знал, в чем причина ее тайных горестей, и все же испытывал к ней живейшее сочувствие.
Примерно на Десятый день Восьмой луны была назначена соколиная охота, и, воспользовавшись этим, Тюдзё снова приехал в Оно. Вызвав Сёсё, он передал через нее:
– Стоило мне увидеть вас, и сердце лишилось покоя.
Видя, что госпожа отвечать не собирается, монахиня ответила сама:
– Верно, «кого-то ждет она на горе Мацути…» (507).
– В прошлый раз вы говорили, что ваша молодая госпожа много страдала, – сказал Тюдзё, встретившись с монахиней. – Я хотел бы знать о ней как можно больше. Мне тоже пришлось испытать в жизни немало разочарований, и я охотно поселился бы где-нибудь в горной глуши, когда б не возражали мои близкие. Откровенно говоря, меня никогда не влекло к женщинам веселым, жизнерадостным, возможно потому, что и сам я склонен к унынию. Насколько приятнее иметь рядом особу, с которой можно поделиться, что терзает и мучает твою душу, которая способна понять…
Судя по всему, Тюдзё был увлечен не на шутку.
– Что ж, если вы предпочитаете грустных женщин, более подходящей вам не найти, – ответила монахиня. – Боюсь только, что ее отвращение к миру слишком велико, чтобы она согласилась вступить на обычный для женщины путь. Даже немолодым людям, жизнь которых приближается к концу, нелегко отказаться от мира, а в таких цветущих летах… Ах, что же станется с нею?
– Вы слишком жестоки, – сказала она, войдя во внутренние покои. – Ответьте же ему. Довольно будет всего нескольких слов. Людям в нашем положении следует обладать более отзывчивым сердцем.
– Но я слишком ничтожна, я даже не знаю, о чем надо говорить. И молодая госпожа продолжала лежать, всем своим видом показывая,
что уговаривать ее бесполезно. Так и пришлось монахине вернуться ни с чем.
– Что же? Неужели она столь бессердечна? Значит, вы обманули меня, говоря о горе Мацути?
Пришел я сюда,
Услыхав голоса цикад,
«Ожидающих в соснах»,
Но лишь промок от росы,
Заблудившись в чаще мисканта…
– Неужели в вашем сердце нет ни капли жалости? – взывала монахиня. – Ответьте хотя бы на это.
Однако женщина молчала. «Лучше не показывать своей осведомленности, – думала она. – К тому же стоит мне хоть раз уступить, и они уже не оставят меня в покое». Дамы смотрели на нее неодобрительно, а монахиня, очевидно вспомнив дни своей молодости, сказала:
– По осенним лугам
Ты прошел, и охотничье платье
Собрало всю росу,
К чему же теперь обвинять
Сад наш, хмелем заросший?
Вот что ответила молодая госпожа. Ее опасения так понятны…
Увы, откуда было монахиням знать, в какой ужас приходила женщина при одной мысли, что кто-нибудь проникнет в ее тайну? Разумеется, они были на стороне Тюдзё, с которым их связывали самые светлые воспоминания.
– Вам нечего бояться, – внушали они молодой госпоже. – Ничего дурного не будет, если вы согласитесь при случае побеседовать с господином Тюдзё. Обыкновенная учтивость, не более.
Странно было видеть, что эти немолодые монахини не только не проявляют никакой приверженности старым обычаям, а, напротив, во всем подчиняются суетным прихотям света. Они молодились, по любому поводу слагали неумелые стихи, и поведение их возбуждало в сердце женщины невольную тревогу. Какие новые несчастья ждут ее впереди? Жизнь, давно уже опостылевшая ей, оказалась длиннее, чем она предполагала, и ей хотелось одного – чтобы люди забыли о ее существовании.
Она лежала, отдавшись глубочайшей задумчивости, а тем временем Тюдзё, громко вздыхая – не исключено, впрочем, что у него были и другие причины для печали, – тихонько наигрывал на флейте.
– «То и дело стоны оленей…» (508) – произнес он, ни к кому не обращаясь, и трудно было назвать его человеком вовсе несведущим…
– Я приезжаю сюда, влекомый воспоминаниями, – посетовал он. – Но, видно, и здесь мне не суждено обрести утешения, скорее напротив. Наверное, я так и не найду женщины, способной откликнуться на мои чувства. И даже в этих горах, «где нет места мирским печалям…» (43).
Видя, что он собирается уходить, монахиня подошла к галерее.
– Но ведь эта прекрасная ночь только началась… – сказала она. – Вот уж и в самом деле «как не сетовать?» (138).
– Что мне в этой ночи? – отвечал Тюдзё. – Теперь, когда я проник в истинные чувства обитательницы дальнего селения…
Он не стал настаивать, понимая, что может произвести неблагоприятное впечатление. Черты, на миг мелькнувшие перед его взором, возбудили в его сердце любопытство и внушили надежду на утешение. Однако высокомерная холодность этой особы, столь не вязавшаяся с тем бедственным положением, в каком он нашел ее, несколько остудила его пыл, и он решил уехать, к величайшему огорчению монахини, которая так и не успела сполна насладиться его игрой на флейте.
– Тот, кому не дано
Увидеть, как поздней ночью
Прекрасна луна,
Вряд ли станет искать ночлега
В бедной келье у горных вершин, —
произнеся это весьма нескладное стихотворение, монахиня поспешила добавить:
– Вот что сказала госпожа. – И новая надежда заставила сердце Тюдзё забиться несказанно.
Пока за горою
Не исчезнет луна, взор мой станет
За нею следить.
Не проникнет ли ясный свет
Сквозь ветхую кровлю спальни?..
Тихие звуки флейты донеслись до слуха старой монахини, и, очарованная ими, она вышла к гостю. Голос ее дрожал, приступы кашля сотрясали немощное тело. Удивительно, что, беседуя с Тюдзё, старая монахиня ни словом не обмолвилась о прошлом. Скорее всего она просто его не узнала.
– Может быть, вы сыграете нам на китайском кото? – обратилась она к дочери. – Ах, как красиво звучит флейта в лунную ночь! Эй, кто– нибудь, принесите кото!
Догадавшись, кто перед ним, Тюдзё невольно посетовал на прихотливость человеческих судеб. Подумать только, эта дряхлая старуха до сих пор жива, а его супруга…
Сыграв прекрасную мелодию в тональности «бансики», Тюдзё отложил флейту:
– Теперь ваш черед…
А надо сказать, что монахиня-дочь когда-то слыла в мире одаренной музыкантшей.
– Не могу не выразить вам своего восхищения, – сказала она. – За эти годы вы достигли значительных успехов. Но, может быть, я просто давно уже не слышала ничего, кроме пения горного ветра… Боюсь, что моя игра покажется вам слишком неумелой…
В последнее время китайское кото утратило былое значение, и мало кто играет на нем, хотя нельзя не отдать справедливой дани своеобразному очарованию этого инструмента. «Голос сосны сплетается с цитрой ночной…» Китайскому кото вторила флейта, которой светлые звуки, казалось, сообщали особую чистоту лунному свету. Старая монахиня была в таком восторге, что забыла о сне и бодрствовала до самого рассвета.
– Когда-то я и сама играла на восточном кото, и, говорят, недурно, – сказала она. – Но, по-видимому, теперь играют по-другому, во всяком случае, мой сын Содзу однажды отозвался о моей игре довольно пренебрежительно, заявив, что я оскорбляю его слух и что лучше бы я не тратила попусту время, которое можно посвятить молитвам. С тех пор я ни разу не прикасалась к струнам, хотя у меня есть прекрасное кото.
Ей явно хотелось поразить их своим мастерством, и Тюдзё, улыбнувшись, сказал:
– О, я никак не могу согласиться с господином Содзу. Более того, меня удивляют его слова. Ведь в Земле Вечного Блаженства бодхисаттвы очень часто услаждают свой слух музыкой, а небожители танцуют. И никто не считает подобное времяпрепровождение недостойным, напротив. Ну подумайте сами, какой грех в музыке и как может она мешать молитвам? Прошу вас, сыграйте, вы доставите мне большую радость.
Немудрено вообразить, как довольна была старая монахиня.
– Эй, Тономори, – еле сдерживая кашель, приказала она, – подай-ка восточное кото.
Остальные монахини смотрели на свою госпожу с ужасом, но из жалости к ней молчали. Уж если она затаила в душе обиду на своего почтенного сына…
Принесли кото, и старая монахиня, даже не потрудившись прислушаться к тому, что играет Тюдзё, резко ударила ногтями по струнам и заиграла первое, что пришло ей на ум, – какую-то старинную восточную мелодию. Все замерли в недоумении, она же, приняв замешательство за восхищение, еще более воодушевилась и, быстро дергая струны, принялась напевать дрожащим голосом что-то вроде:
– Такэо-ти-тири-тири-тиритана…
– Ах, как прекрасно, теперь такого пения нигде не услышишь, – стал расхваливать ее Тюдзё, поскольку же старуха была глуховата, сидевшим рядом с ней прислужницам пришлось прокричать ей слова Тюдзё прямо в ухо.
– Современные молодые люди не имеют вкуса к музыке, – отвечала она самодовольно ухмыляясь. – Взять, к примеру, эту особу, которая недавно появилась в нашем доме. Она весьма хороша собой, но целыми днями только печалится. Ни слова от нее не услышишь. А уж к изящным развлечениям у нее, видно, и вовсе нет склонности.
Ее дочь и другие монахини совсем растерялись, а Тюдзё, потеряв всякий интерес к происходящему, поспешно откланялся.
Ветер долго еще доносил до обитательниц Оно чистые звуки его флейты. До самого рассвета монахини не смыкали глаз, а утром явился гонец с письмом:
«Вчера чувства мои пришли в такое смятение, что я принужден был уехать. Надеюсь, Вы простите меня…
Забыть не могу,
Как когда-то звенели струны.
Плачу навзрыд,
Слыша бесстрастно-холодные
Трели бамбуковой флейты.
Может быть, Вам все-таки удастся пробудить жалость в сердце молодой госпожи? Поверьте, я никогда не осмелился бы докучать Вам своими посланиями, если бы не мучительная тоска…»
Монахине стало так грустно, что она не сумела сдержать слез. А вот какой она написала ответ:
«Голос флейты
Давно умолкшие струны
В сердце задел.
Не успел он смолкнуть, как снова
Промокли мои рукава…
Молодая госпожа обладает до странности прихотливым нравом, а ее нечувствительность… Впрочем, наверное, Вы и сами догадались, довольно было непрошеных признаний моей престарелой матушки…»
Вряд ли это письмо показалось Тюдзё достойным внимания. Скорее всего он отложил его, едва дочитав до конца.
«Словно ветер, не оставляющий в покое листья мисканта… – недовольно думала молодая госпожа. – Как же упрямы мужчины!» И мысли ее невольно устремлялись к прошлому. «Увы, я знаю только одно средство оградить себя от новых домогательств. И я постараюсь прибегнуть к нему как можно быстрее…» Одушевленная этой мыслью, она все сердечные попечения свои сосредоточила на сутрах и молитвах. Что было делать монахине? Постепенно она пришла к заключению, что новая обитательница их дома от природы лишена каких бы то ни было дарований и, несмотря на молодые годы, обладает угрюмым, неуживчивым нравом. Но женщина была так красива, что окружающие охотно прощали все ее недостатки. Стоило ей улыбнуться, и монахини не помнили себя от восторга.
На Девятую луну младшая монахиня снова отправилась в Хацусэ. Ей хотелось отблагодарить Каннон за чудесное утешение, которое было ниспослано ей после стольких лет тоски и одиночества.
– Поедемте со мной, – уговаривала она молодую госпожу. – Об этом никто не узнает. Разумеется, тамошние храмы мало чем отличаются от других, но Каннон из Хацусэ более снисходительна к молящимся и чаще исполняет их просьбы. Тому есть немало чудесных примеров.
«Когда-то и мать и кормилица точно так же принуждали меня ездить в Хацусэ, но это не принесло мне счастья, – подумала женщина. – Мне не удалось даже уйти из мира, а в этой жизни я не видела ничего, кроме горя и бед». К тому же ей было страшно пускаться в столь долгое путешествие с этой чужой женщиной. Однако она не стала возражать, а только пожаловалась:
– Мне что-то нездоровится последнее время, не знаю, достанет ли у меня сил…
«Должно быть, она боится, бедняжка, ведь именно там…» – подумала монахиня и не стала настаивать.
Безотрадные годы
Текут чередою унылой.
У Старой реки
Теперь и искать не стоит
Криптомерию в два ствола (200).
Эту песню молодая госпожа написала однажды, упражняясь в каллиграфии, и, обнаружив ее, монахиня сказала шутя:
– Наверное, есть два человека, которых вам хотелось бы увидеть? Слова ее попали в цель, и на щеках женщины вспыхнул жаркий румянец, сделавший ее еще прелестнее.
– Не знаю, куда
Тянутся корни дерева
У Старой реки.
В криптомерии этой вижу
Ту, что из мира ушла, —
быстро ответила монахиня. Впрочем, ничего примечательного в ее песне не было.
Она намеревалась идти в Хацусэ одна, но все прислужницы захотели непременно ей сопутствовать. Обеспокоенная тем, что после ее отъезда дом совсем опустеет, монахиня оставила с девушкой трех прислужниц: весьма смышленую монахиню по прозванию Сёсё, женщину постарше по прозванию Саэмон и девочку-служанку.
Проводив паломниц задумчивым взглядом, молодая госпожа снова и снова сетовала на судьбу, но, увы… Теперь, когда рядом с ней не осталось ни одного человека, на которого можно было положиться, ей стало еще тоскливее.
Однажды, когда она сидела, погруженная в мрачные мысли, принесли письмо от Тюдзё.
– Соблаговолите прочесть, – просила Сёсё, но женщина даже не повернулась. Все в этом опустевшем доме располагало к унынию, и она коротала долгие, томительные дни, размышляя о прошедшем и о грядущем.
– Ах, это невыносимо! – говорила Сёсё, глядя на ее грустное лицо. – Может быть, вы согласитесь хотя бы сыграть в «го»?
– Я так дурно играю, – стала отказываться госпожа, но в конце концов согласилась, и Сёсё послала за доской. Уверенная в себе, она предложила госпоже начинать первой, но, к ее величайшему удивлению, та играла настолько лучше, что для следующей партии им пришлось поменяться местами.
– Вот бы госпожа монахиня посмотрела на вас! – радовалась Сёсё. – Когда-то она очень хорошо играла в «го». Господин Содзу тоже любил эту игру и гордился своим мастерством, да так, что едва не возомнил себя Величайшим игроком. Право, трудно поверить… Однажды он предложил сестре сыграть с ним, заявив: «Хвалиться не стану, но тебе меня никогда не обыграть». Кончилось же тем, что он проиграл ей две игры подряд. И вот что я вам скажу: вы играете куда лучше его. Чудеса, да и только!
«Что я наделала!» – ужаснулась женщина, испуганная столь явным пристрастием этой немолодой, начинающей уже лысеть особы к игре в «го». Сказавшись больной, она легла.
– Вы не должны пренебрегать ничем, что могло бы отвлечь вас от мрачных мыслей, – поучала ее Сёсё. – Нехорошо, когда такая молодая, красивая женщина все время грустит. Ну словно драгоценный камень с изъяном.
Унылые стоны ночного ветра пробуждали в душе смутные воспоминания.
Ветер осенний
Не задел никаких тайных струн
В сердце моем.
Но тоска все сильней, и роса
На мои рукава ложится…
Когда на небо выплыла прекрасная светлая луна, появился Тюдзё, от которого днем было получено письмо соответствующего содержания. «Ах, как некстати», – посетовала госпожа, поспешно скрываясь в глубине покоев.
– Нельзя быть столь бессердечной! – возмутилась Сёсё. – Провести такую ночь в обществе человека с тонкой душой – что может быть прекраснее? А уж когда он питает к вам нежные чувства… Неужели вы не согласитесь хотя бы выслушать его? Или вы думаете, что его речи загрязнят ваш слух?
Женщина молчала, объятая ужасом, и, видя, что склонить ее к согласию не удастся, Сёсё попыталась уверить гостя в том, что молодой госпожи нет дома. Однако все уловки ее оказались напрасными: очевидно, гонец, приходивший днем, сумел выведать, что госпожа не уехала вместе со всеми.
– Я ведь даже не прошу, чтобы мне позволили услышать ее голос, – говорил Тюдзё. – Единственное мое желание – высказать все, что у меня на душе, о большем я и мечтать не смею. А там – пусть госпожа сама решает, достоин я ее внимания или нет.
– Вы слишком жестоки, – жаловался он. – Трудно себе представить, что в таком месте… Право, вы могли бы быть снисходительнее.
Если успела
Ты горечь этого мира
Изведать сполна,
В душе твоей отклик найдет
Осенняя ночь в горах.
Я не верю, что вы не в состоянии понять…
– Госпожи монахини нет, и отвечать за вас некому, – заявила Сёсё. – Неужели вы настолько не желаете считаться с приличиями?
– Влачу свои дни,
Стараясь не думать вовсе
О горестях жизни,
Но кажется людям: в душе моей
Поселилась тайная грусть… —
сказала женщина, ни к кому не обращаясь, но Сёсё поспешила передать ее слова Тюдзё, и тот был растроган.
– Не попросите ли вы госпожу подойти ближе? – снова принялся настаивать он, посетовав – увы, напрасно – на нерасторопность прислужниц.
– Свет не видывал столь упрямой особы, – пожаловалась Сёсё, но послушно прошла во внутренние покои. Каково же было ее изумление, когда она обнаружила, что госпожа укрылась в покоях старой монахини, куда обыкновенно и не заглядывала! Вернувшись к Тюдзё, она доложила ему, что так, мол, и так…
– Мне всегда казалось, что человек, живущий вдали от мирской суеты, там, где ничто не мешает ему предаваться размышлениям, – сказал Тюдзё, – должен обладать особенно чувствительной душой. Я предполагал, что и ваша госпожа… Но, увы, даже женщина, совершенно несведущая в делах этого мира, вряд ли обошлась бы со мной так жестоко. Может быть, горький опыт прошлого заставляет ее бежать людей? Но что, скажите мне, что могло поселить в ее душе такое отвращение к миру? И как долго она будет жить здесь, с вами?
Подстрекаемый любопытством, он требовал от Сёсё новых и новых подробностей, но разве могла она рассказать ему все, что знала?
– Эта особа давно должна была находиться на попечении госпожи монахини, – ответила она, – но обстоятельства разлучили их на долгие годы, и только совсем недавно, во время поездки в Хацусэ, мы совершенно случайно встретили ее и забрали с собой.
Госпожа тем временем лежала ничком подле старой монахини, о дурном нраве которой была довольно наслышана, и не могла сомкнуть глаз. Сама монахиня заснула уже давно, едва опустились сумерки, и теперь изо рта ее вырывался страшный храп. Неподалеку лежали еще две монахини, такие же старые, и тоже храпели одна громче другой. «Как бы кто-нибудь из них не проглотил меня сегодня ночью», – думала женщина, дрожа от страха. Не столь уж и дорога была ей жизнь, но, будучи от природы робкого нрава и характер имея нерешительный, она во всех затруднительных случаях вела себя совершенно так же, как тот человек, который отказался от намерения покончить с собой единственно потому, что побоялся пройти по бревну, переброшенному через реку.
Госпожа пришла сюда вместе с Комоки, но эта ветреная особа почти сразу же ускользнула, не желая лишать себя удовольствия полюбоваться изысканными манерами столь редкого гостя. «Вот сейчас, сейчас она вернется», – ждала госпожа, но, увы, Комоки была не из тех, на кого можно положиться…
Тем временем Тюдзё, так ничего и не добившись, уехал.
– Ну можно ли быть такой неприветливой? – сетовали монахини, укладываясь спать. – При ее красоте…
Поздно ночью (по-видимому, было уже около полуночи) старая монахиня проснулась, разбуженная жестоким приступом кашля. Огонь светильника освещал ее седые волосы, покрытые чем-то черным. Заметив, что рядом с ней кто-то лежит, она, приставив руку козырьком ко лбу, как это делает колонок, в недоумении уставилась на женщину своими подслеповатыми глазами.
– Это еще что за диво? Кто здесь? – недовольно бормотала она. «Вот и конец, – подумала молодая госпожа и зажмурилась от ужаса. – Сейчас проглотит».
Когда там, в Удзи, демон повлек ее за собой, она не сопротивлялась, ибо ничего не понимала. Но теперь… Бедняжка совсем растерялась, не зная, что делать. «Что за злосчастная у меня судьба! – вздыхала она. – Вернуться к жизни, для того чтобы вечно терзаться воспоминаниями о прежних страданиях и трепетать в ожидании новых? Впрочем, кто знает, может быть, после смерти мне было бы еще хуже…»
Всю ночь она не смыкала глаз, преследуемая горькими раздумьями, перебирая в памяти все тягостные и мучительные подробности своей безотрадной жизни. Она никогда не видела отца, ее юность прошла в бесконечных скитаниях по далеким восточным землям. Когда же волею обстоятельств она вернулась наконец в столицу и обрела столь надежную, казалось бы, опору в лице сестры, нелепый случай лишил ее и этого утешения. Был человек, готовый оказать ей покровительство, и уже близился день, когда все тревоги и несчастья должны были остаться позади, но она совершила непоправимую ошибку, и все рухнуло. Теперь-то она понимала, что нельзя было давать принцу ни малейшего повода… Ведь именно тогда и начались все ее беды. О, она не должна была уступать ему, не должна была верить клятвам у Померанцевого острова! Теперь ничего, кроме неприязни, не осталось в ее сердце, и все чаще вспоминала она того, другого. Может быть, он любил ее гораздо меньше, но где найдешь человека более внимательного и более надежного? Лишь бы он не узнал, что она жива и находится здесь, в Оно! Кто угодно, но только не он! Она бы не перенесла этого позора! И все же, если бы можно было хотя бы одним глазком увидеть его… Нет, нет, не стоило даже думать об этом!
Наконец раздался крик петуха, и женщина вздохнула с облегчением. «А каким бы счастьем было для меня услыхать голос матери» (509), – невольно подумалось ей. После бессонной ночи она чувствовала себя совсем больной и осталась лежать, поджидая Комоки, которая так до сих пор и не пришла. Тем временем старухи, всю ночь пугавшие ее своим храпом, поднялись и, ворча и кашляя, засуетились, готовя себе утренний рис.
– Отведайте и вы, – предложила ей одна из монахинь, но женщине было неприятно принимать от нее такого рода услуги, тем более что и угощение показалось невкусным. Она отказалась от еды, сославшись на дурное самочувствие, но бесцеремонные монахини продолжали настаивать. Тут послышался шум: пришли монахи из Ёкава с сообщением, что Содзу собирается сегодня спуститься с гор.
– Почему так внезапно? – удивились монахини, и монахи не без гордости принялись объяснять им, в чем дело:
– Первую принцессу давно уже преследует какой-то злой дух. Верховный священнослужитель с горы Хиэ был призван к ее ложу, дабы отслужить соответствующий молебен, но похоже, что без нашего почтенного Содзу они не могут справиться. Вчера за ним снова присылали гонца, а вечером Сии-но сёсё из дома Левого министра явился с письмом от самой Государыни-супруги. Поэтому господин Содзу и согласился нарушить свое уединение.
«Вряд ли я дождусь другого такого случая, – подумала женщина. – Я должна превозмочь свою робость и попросить почтенного Содзу совершить обряд пострижения. В доме почти никого нет, и нам никто не помешает».
– Я чувствую себя нездоровой, – сказала она, поднимаясь. – Когда пожалует господин Содзу, попросите его принять у меня обет воздержания. Не стоит упускать такой возможности.
Старая монахиня лишь молча кивнула в ответ. Вид у нее был совершенно отсутствующий.
Молодая госпожа перебралась в свои покои. Ее всегда причесывала монахиня, и теперь, не желая, чтобы ее волос касались чужие руки, она попыталась распустить их сама, что оказалось довольно трудной задачей. «Матушка никогда уже не увидит меня в прежнем обличье», – подумала она, и сердце ее болезненно сжалось. Но разве могла она кого-то винить? Ей казалось, что за время болезни волосы ее должны были поредеть, но, как это ни странно, их вовсе не стало меньше. Густые, длиной не менее шести сяку, они падали до самого пола шелковистыми, блестящими волнами.
– «О такой ли судьбе…» (510) – тихонько прошептала она, словно про себя…
Содзу появился в Оно вечером. Для него были подготовлены южные покои, где уже суетились круглоголовые монахи. Прежде всего Содзу зашел к матери.
– Что нового произошло у вас за это время? – спросил он. – Я слышал, что монахиня из восточных покоев отправилась в Хацусэ. А та особа, которую мы нашли, что, она по-прежнему с вами?
– Да, она здесь, – ответила старая монахиня. – Кстати, ей, кажется, нездоровится, и она просила, чтобы вы приняли у нее обет воздержания.
Содзу поспешил в покои молодой госпожи и, устроившись у занавесей, окликнул ее. С трудом превозмогая смущение, она приблизилась, готовая отвечать на его вопросы.
– Все это время я молился за вас, – сказал Содзу. – Я уверен, что какая-то давняя связь существует между нашими судьбами, иначе мы не встретились бы при столь удивительных обстоятельствах. Надеюсь, вы понимаете, почему я не сообщался с вами: монаху не приличествует обмениваться письмами с женщиной без особой на то надобности. Как вам живется здесь среди отвернувшихся от мирской суеты?
– Когда-то я решила уйти из мира, – отвечала женщина, – и сама не понимаю, почему до сих пор жива. Меня это не так уж радует, и тем не менее я благодарна вам за все, что вы для меня сделали. Однако я слишком не похожа на других и не могу жить обычной для женщины жизнью. Умоляю вас, позвольте мне стать монахиней. Поверьте, я не вижу для себя иного выхода, и если судьбе было угодно, чтобы я осталась жить…
– Но у вас еще вся жизнь впереди! Неужели вы решитесь посвятить ее одним молитвам? Боюсь, как бы вы не обременили душу еще более тяжкими прегрешениями! Возможно, сейчас ваше решение кажется вам твердым, но пройдет время… Увы, женщины так легко впадают в заблуждение…
– С малолетства я не знала ничего, кроме печалей, и матушка часто говорила мне о своем желании сделать меня монахиней. А потом, когда я стала проникать в суть явлений этого мира, я еще более укрепилась в намерении отказаться от обычной жизни и посвятить себя заботам о грядущем. Кто знает, может быть, мне осталось жить совсем немного и именно поэтому я так слабею духом… О, прошу вас, не отказывайте мне…
И женщина заплакала. «Но почему? – недоумевал Содзу. – Почему такая красавица прониклась отвращением к миру? Впрочем, наверное, у нее есть причины… Если вспомнить хотя бы речи того духа… Чудо, что ей вообще удалось выжить. А раз уж приметил ее однажды злой дух, она никогда не будет в полной безопасности».
– Ваше желание встать на путь служения Будде весьма похвально, и не мне, монаху, отговаривать вас, – сказал он. – Принятие обета занимает немного времени, но меня срочно вызвали к Первой принцессе, и сегодня ночью я должен быть во Дворце, дабы с раннего утра приступить к молитвам и обрядам. Через семь дней я вернусь, и тогда…
«Да, но к тому времени может вернуться и монахиня…» – огорчилась женщина и, притворившись, что силы покидают ее, заплакала:
– Ах, но я так страдаю! Боюсь, что скоро мне не поможет и постриг. О, прошу вас!
И отшельнику стало ее жаль.
– В самом деле, уже совсем поздно, – сказал он. – Раньше мне ничего не стоило спуститься к подножию, но теперь я стар и немощен, с каждым годом мне становится все труднее проделывать этот путь. Пожалуй, мне лучше отдохнуть здесь немного, прежде чем ехать во Дворец. И если вы так спешите, я готов принять ваш обет сегодня же.
Безмерно обрадованная, женщина достала ножницы и, положив их на крышку от шкатулки для гребней, подсунула под занавес. Содзу кликнул монахов. С ним и сегодня были те двое, которые когда-то сопровождали его в Удзи, и, подозвав их, он приказал:
– Постригите госпожу.
Адзари подошел к занавесу, не выказывая особого удивления, – да и что может быть естественней желания отгородиться от мира для женщины, на долю которой выпало подобное испытание? Но, увидев струящиеся сквозь щели занавеса блестящие пряди волос, он замер с ножницами в руках. Увы, чье сердце не дрогнуло бы?..
Тем временем Сёсё в нижних покоях беседовала со своим братом-монахом, приехавшим вместе с Содзу. У Саэмон тоже нашелся среди прибывших какой-то знакомец, с которым ей хотелось поболтать, да и другие женщины думали только о том, как бы получше принять столь редких и дорогих гостей, поэтому с госпожой оставалась одна Комоки. Разумеется, она сразу же поспешила к Сёсё и сообщила ей о том, что происходит, но, когда та, объятая ужасом, вбежала в покои, Содзу уже накидывал на госпожу свое собственное оплечье, как того требовал обычай.
– Теперь вы должны поклониться в ту сторону, где сейчас находятся ваши родители, – сказал он, но женщина только зарыдала в ответ. Откуда ей было знать, в какой они теперь стороне?
– Что вы делаете?! – закричала Сёсё. – Как можно потакать ее безрассудству? Что скажет госпожа монахиня, когда вернется из Хацусэ?
Но Содзу запретил ей приближаться. Ничего уже не изменишь, так стоит ли смущать сердце принимающей постриг глупыми речами?
– Когда блуждаем мы в трех мирах… – слушала молодая госпожа, и грудь ее сжималась неизъяснимой тоской: разве она не разорвала уже узы, связывающие ее с близкими ей людьми?
Адзари, оказавшись не в силах справиться с ее густыми волосами, сказал:
– Пусть монахини потом подправят… Волосы у лба выстриг сам Содзу.
– Вы не должны раскаиваться в содеянном, увидев, как изменилось ваше лицо, – сказал он, давая женщине последние наставления.
Наконец-то она могла вздохнуть с облегчением. Так, несмотря на противодействие окружающих, ей все-таки удалось осуществить свое желание, а значит, не зря осталась она в этом мире, возможно, сам Будда…
Скоро все уехали, и в доме стало тихо. Прислушиваясь к стонам ночного ветра, прислужницы говорили, вздыхая:
– А мы-то надеялись, что вы ненадолго задержитесь в этом унылом жилище и очень скоро займете блестящее положение в мире. Как жаль, что вы рассудили иначе… А ведь у вас вся жизнь впереди. Как же вы станете жить?
– Даже дряхлые старухи печалятся, разрывая узы, связывающие их с миром.
Но молодая женщина не отвечала. На сердце у нее было спокойно, ибо она знала – теперь никто не в силах заставить ее пойти по пути, обычному для женщин этого мира.
Однако на следующее утро она старалась не показываться на глаза окружающим, чувствуя себя виноватой в том, что поступила вопреки их воле. Ее волосы, едва достигавшие плеч, были подстрижены весьма неровно, и она думала, вздыхая: «О, если бы кто-нибудь догадался подровнять их без лишних слов…» Любая безделица повергала ее в сильнейшее замешательство, и она весь день просидела без света с опущенными занавесями. Робкая и застенчивая по природе, женщина еще более замкнулась в себе, да и кому могла она открыть свою душу? Рядом с ней не было ни одного близкого или хотя бы способного понять ее человека. Только бумаге поверяла она мысли и чувства, зарождавшиеся в глубине ее души. Часто, когда сдавленная в груди тоска просилась наружу, она брала в руки кисть и писала, словно упражняясь в каллиграфии.
«Потерявшись сама,
Потеряв своих близких, решилась
Из мира уйти,
Но не ведала я, что придется
С ним расставаться снова…
Теперь уже навсегда…»– вот что написала она однажды, и ей самой стало грустно.
Страданьям своим
Предел положить желая,
Из мира ушла.
Могла ли я знать, что снова
Придется прощаться с ним?
Однажды, когда она сидела вот так, отдавшись глубокой задумчивости, и из-под кисти ее возникали песни одна другой печальнее, принесли письмо от Тюдзё. Очевидно, кто-то из монахинь, возмущенных своеволием молодой госпожи, сообщил ему о случившемся. Немудрено вообразить, каким тяжелым ударом была для него эта весть!
«Вот, значит, в чем крылась истинная причина ее холодности, – подумал он. – Потому-то она так упорно и отказывалась отвечать мне. Несомненно, решение давно уже созрело в ее сердце. И все же трудно поверить… Ведь еще совсем недавно я просил прислуживающую ей монахиню позволить мне хоть одним глазком взглянуть на волосы, которых красота так пленила меня в тот вечер, и она обещала…»
Потрясенный, он все же решил еще раз написать:
«Увы, что я могу сказать?..
Рыбачья ладья
Среди волн исчезает, стремясь
К иным берегам…
«Не отстать бы…» – за нею и я
Устремляюсь поспешно в море».
Обычно госпожа не читала писем Тюдзё, но на этот раз изменила своей привычке. Потому ли, что ей было как-то особенно грустно в тот миг, или потому, что ее тронуло его смирение, но только, взяв первый попавшийся клочок бумаги, она небрежно начертала:
«Сердце мое
Давно покинуло берег
Зыбкого мира,
Но не знаю, куда забросят
Волны утлый рыбачий челн».
Вряд ли эта песня кому-то предназначалась, скорее всего, госпожа по обыкновению своему просто упражнялась в каллиграфии, но Сёсё тут же отправила листок Тюдзё.
– Вы могли хотя бы переписать, – попеняла ей госпожа, но упрямица Сёсё:
– Ах нет, я только испорчу, – возразив, отправила песню, не переписывая.
Надобно ли сказывать о том, что этот неожиданный ответ лишь увеличил страдания Тюдзё?
По прошествии некоторого времени возвратились домой паломницы и, узнав печальную новость, долго не могли опомниться от изумления. Монахиня была вне себя от горя.
– Я понимаю, что должна была бы поддержать вас в вашем намерении, – сетовала она, – ведь я и сама приняла обет. Но у вас впереди долгая жизнь, что же станется с вами? Кто знает, надолго ли я задержусь в этом мире, возможно, уже сегодня или завтра… Как вы думаете, почему я отправилась в Хацусэ? Больше всего на свете меня тревожит мысль о вашем будущем, и я хотела просить Будду даровать вам счастливую судьбу…
Видя, как страдает монахиня, женщина невольно подумала о матери, и сердце ее мучительно сжалось: ведь несчастной не дано было даже оплакать бренные останки любимой дочери!
По обыкновению своему она сидела молча, стараясь не встречаться с монахиней взглядом, а та все плакала и плакала, не отрывая глаз от ее прелестного юного лица.
– О, если б я знала, разве оставила бы вас одну? – повторяла она, готовя платье для новопостриженной, а как серо-зеленые тона давно уже были привычны ее взору, справилась со своей задачей довольно быстро. Помогая молодой госпоже облачиться в темное платье и такое же оплечье, монахини жалобно причитали:
– Вы были нашей радостью, лучом света, случайно проникшим в унылое жилище…
– Ах, какое горе!
Одновременно они на чем свет стоит ругали почтенного Содзу, лишившего их единственного утешения.
Вмешательство Содзу, как и предсказывали его ученики, произвело благотворное действие. Первая принцесса стала быстро поправляться, и люди славили необыкновенную мудрость старого монаха. Дабы предотвратить возможность возвращения болезни, решено было еще некоторое время не прекращать молитв, поэтому Содзу пришлось задержаться во Дворце.
Однажды тихим дождливым вечером его призвала к себе Государыня и попросила провести ночь у изголовья принцессы. В покоях почти никого не было: дамы, много ночей подряд не отходившие от больной, разошлись, обрадовавшись, что могут наконец отдохнуть. Воспользовавшись их отсутствием, Государыня осталась на ночь в опочивальне дочери.
– Я всегда верила, что наше будущее в надежных руках, – сказала она монаху. – И этот случай лишь укрепил меня в моей вере.
– Будда не раз давал мне понять, что близок крайний срок моей жизни, – отвечал Содзу. – Особенно же опасны для меня ближайшие два года. Потому-то я и решил заключиться в горную обитель и целиком посвятить себя служению. Только ваше милостивое повеление и заставило меня спуститься.
Государыня поведала ему о том, как упорен был вселившийся в принцессу злой дух, в какой ужас повергал он присутствующих, когда, вдруг появляясь, называл себя разными именами…
– А вот какая удивительная, поистине невероятная история приключилась недавно со мной, – сказал Содзу, выслушав ее. – На Третью луну моя престарелая матушка отправилась в Хацусэ, дабы отслужить там благодарственный молебен. На обратном пути она заночевала в обители Удзи. Я сразу подумал, что такой просторный дом, в котором к тому же давно никто не живет, наверняка служит пристанищем для всякой нечисти, поэтому помещать в нем больную опасно. И точно…
И он рассказал Государыне, как нашел никому не известную женщину.
– Вот уж и в самом деле чудеса!
Прислуживающие Государыне дамы уже спали, но она поспешила разбудить их, так напугал ее рассказ Содзу. Разумеется, никто из них ничего не слышал, за исключением Косайсё, той самой, к которой благоволил Дайсё. Испуг Государыни не остался не замеченным Содзу, и, кляня себя за опрометчивость, он не стал докучать ей подробностями. Однако, будучи человеком словоохотливым, после некоторого молчания заговорил снова:
– А вот что я еще вам скажу. Спускаясь с гор на этот раз, я зашел в Оно наведать живущих там мать и сестру. И что же вы думаете? Эта женщина, рыдая, стала просить меня принять у нее обет, ибо она, видите ли, давно уже решила отречься от мира. Она так умоляла меня, что я просто не смог отказать ей. А моя сестра, тоже монахиня, когда-то она была супругой покойного Эмон-но ками, очень полюбила эту особу, считая, что она ей послана взамен ее любимой дочери, которой утрату она оплакивала многие годы. Представляю себе, в какой она теперь на меня обиде. Мне и самому жаль, что столь прелестная женщина вознамерилась посвятить себя служению. Хотел бы я знать, кем она была раньше?
– Как такая красавица могла оказаться в столь диком месте? – спросила Косайсё. – Хоть теперь-то вы узнали, кто она?
– Нет, так и не узнал. Если только она открылась монахине… Но будь она знатной особой, ее исчезновение вряд ли осталось бы незамеченным. Ведь нет такой тайны… Впрочем, дочери провинциальных чиновников тоже бывают красивы. Да, коль скоро Морской дракон способен родить будду… А ежели принадлежит она к низкому сословию, то, значит, ее прошлое рождение не обременено тяжкими преступлениями…
Тут Государыня вспомнила, что совсем недавно кто-то из дам рассказывал ей о женщине, бесследно пропавшей в тех местах. Косайсё тоже слышала о сестре супруги принца Хёбукё, покинувшей мир при весьма загадочных обстоятельствах. «Уж не она ли?» – подумала Косайсё, но как тут проверишь?.. Монах говорил, что найденная ими женщина больше всего на свете боится, как бы люди не узнали о ее существовании, и прячется ото всех, словно есть у нее в этом мире враги. Впрочем, он явно недоговаривал, да и вообще, по его собственному признанию, рассказал эту странную историю лишь потому, что надеялся развлечь Государыню… Принимая все это во внимание, Косайсё рассудила, что лучше пока никому ничего не говорить.
– Не исключено, что это та самая женщина, – сказала Государыня, когда они с Косайсё остались одни. – Может быть, надо сообщить Дайсё?
Однако она так и не решилась этого сделать: вмешиваться в чужие тайны, не имея почти никаких доказательств, ей не хотелось, к тому же она не была настолько близка с Дайсё, чтобы самой заводить с ним разговор на столь щекотливую тему.
Скоро принцесса выздоровела окончательно, и Содзу вернулся в горы. По дороге он снова заехал в Оно, и сестра не преминула высказать ему свое неудовольствие.
– Разве вы не понимаете, что, став монахиней в столь цветущие лета, она может обременить свою душу еще более тяжкими прегрешениями? – пеняла она ему. – Почему вы не посоветовались со мной?
Но, увы, поздно…
– Теперь вы должны помышлять единственно о молитвах, – говорил Содзу новопостриженной монахине. – И старые и юные равно подвержены превратностям судьбы. Поэтому мне не кажется удивительным, что именно вам открылась тщетность мирских упований.
Его слова повергли женщину в замешательство.
– Сшейте себе новое платье, – сказал Содзу, преподнеся ей узорчатую парчу, шелк и кисею.
– Пока я жив, вам не о чем беспокоиться, я позабочусь о вас, – добавил он. – Рождаясь в мире тщеты, люди алчут лишь преходящего блеска и славы. А пока это так, всем – и мне и вам – трудно разорвать путы, связывающие нас с этим миром. Но когда человек удаляется в леса и посвящает себя молитвам, в его душе не остается места ни для стыда, ни для обид. Воистину «судьба непрочна, словно листок»…
Немного помолчав, Содзу произнес:
– «У Сосновых ворот до самой зари лунный блуждает свет…» Право, трудно встретить в простом монахе столько понимания и душевного благородства. Женщина благоговейно внимала его речам, чувствуя, что наконец-то обрела истинного наставника.
Весь день уныло стонал ветер.
– В такое время у горных монахов рыдания подступают к горлу… – заметил Содзу, и, услышав его слова, женщина невольно подумала: «А ведь теперь и я – горный монах… Потому-то, наверное, мне все время хочется плакать».
Подойдя к порогу, она устремила взор на далекие вершины и вдруг увидела группу людей в разноцветных охотничьих платьях. По этой дороге редко кто поднимался в горы. Лишь иногда можно было заметить монаха, бредущего то ли из Куротани, то ли еще откуда. Миряне же здесь почти не появлялись.
Это был Тюдзё, так и не сумевший примириться с поражением. «Как ни тщетно теперь жаловаться, все же…» – подумав, он отправился в Оно. Приехав же, забыл обо всем на свете, очарованный осенней листвой, сверкающей невиданным разнообразием красок. «Можно ли ожидать, – подумал он, – чтобы женщина, в таком месте живущая, отличалась веселым, беззаботным нравом?»
– В последние дни я был свободен от своих обязанностей, – сказал Тюдзё, любуясь прекрасным видом, – и, не зная, чем занять себя, решил посмотреть на горы в осеннем убранстве. Эти деревья так хороши, что хочется, как бывало, устроиться под ними на ночлег.
Монахиня, по обыкновению своему заплакав, ответила:
– Неистовый ветер,
Налетев, пронесся по склонам.
Теперь у подножья
Нигде не отыщешь тени,
В которой смог бы укрыться…
На это Тюдзё:
– Знаю, никто
Теперь не ждет меня здесь,
В этом горном жилище,
Но, увидев деревья в саду,
Не сумел я проехать мимо…
Бессмысленно было снова заводить разговор о женщине, и тем не менее Тюдзё не смог устоять перед искушением.
– Позвольте же мне хоть издалека посмотреть на нее в новом обличье, – просил он Сёсё. – Вы же обещали.
Сёсё прошла во внутренние покои и, увидев свою госпожу, невольно подумала, что такую красавицу и в самом деле обидно держать взаперти. На женщине было неяркое красновато-желтое нижнее платье и светло-серое верхнее. Пышные волосы веером рассыпались по плечам, а лицо поражало редким изяществом черт и такой яркостью красок, словно было только что набелено и нарумянено. Судя по всему, она прилежно молилась. Перед ней лежал развернутый свиток с текстом сутры, а рядом, на планке занавеса, висели четки. Невольно хотелось взять кисть и запечатлеть эту склоненную фигуру на бумаге, так она была хороша. Всякий раз, когда Сёсё глядела на госпожу, на глазах у нее навертывались слезы и рыдания невольно подступали к горлу. Что же должен испытывать мужчина, которого сердце давно стремится к ней?.. Рассудив, что лучшего случая не дождешься, Сёсё указала на небольшую щель в перегородке возле замка и предусмотрительно отодвинула занавес, который мог бы ему помешать.
Думал ли Тюдзё, что женщина окажется столь прекрасной? Казалось, она соединяла в себе все мыслимые совершенства. Право, можно ли было допускать… Ему стало так грустно, так досадно, как если бы он сам был виноват в том, что она переменила обличье.
Испугавшись, что не сумеет сдержать нахлынувших чувств и тем самым невольно обнаружит себя, Тюдзё поспешно отошел. «Возможно ли, чтобы человек, потерявший столь прелестную возлюбленную, не стал бы ее искать? – недоумевал он. – К тому же я не слышал, чтобы чья-нибудь дочь пропала или приняла постриг… Даже монашеское платье не умаляет ее красоты…»
Да, она была прекраснее всех женщин, которых Тюдзё встречал прежде. Одна мысль о ней заставляла трепетать его сердце. «Быть может, хотя бы тайно?..» – подумал он и снова обратился к монахине:
– Я допускаю, что раньше у молодой госпожи были причины сторониться меня, но теперь, когда она приняла постриг… Почему бы нам не побеседовать как-нибудь при случае? Надеюсь, вы не откажетесь замолвить за меня словечко? До сих пор я приезжал сюда, влекомый воспоминаниями, но, если вам удастся склонить ее к согласию, у меня будет еще одна причина навещать вас.
– О, я понимаю, сколь чисты ваши намерения, и искренне признательна вам за то, что вы и теперь принимаете в ней такое участие, – плача, отвечала монахиня. – Вы и вообразить не можете, как тревожит меня мысль о ее будущем. Ведь придет время, когда меня уже не будет рядом…
«Но кто же эта женщина? – спрашивал себя Тюдзё. – Судя по всему, они все-таки связаны родственными узами».
– Я не стану уверять вас, что сумею обеспечить ей беспечальное будущее, – сказал Тюдзё, – ибо человеку не дано знать, что у него впереди, но, коль скоро я обещал, я не изменю своему слову. Но убеждены ли вы, что ее никто не разыскивает? По-моему, именно некоторая недоговоренность в этом отношении и препятствует нашему сближению, хотя, впрочем, для меня это не имеет особого значения.
– Возможно, ее и разыскивал бы кто-нибудь, останься она в обычном для женщины этого мира обличье. Но она сама порвала все связи с миром и не помышляет ни о чем, кроме молитв.
Тогда Тюдзё отправил женщине такое послание:
«Знаю: от мира
Отреклась ты, познав тщету
Мирских упований.
Но горько на сердце – не я ли
Был тому невольной причиной?..»
На словах же он передал ей обычные уверения в неизменной преданности:
«Я почел бы за особенное счастье, если бы вы согласились видеть во мне брата. Каким утешением была бы для меня возможность хоть иногда беседовать с вами!..»
«Я верю в искренность ваших чувств, но, увы, я слишком ничтожна, чтобы постичь смысл ваших речей», – ответила женщина, сделав вид, будто не поняла содержащегося в письме намека.
На своем коротком веку ей довелось изведать столько невзгод, что жизнь сделалась для нее тягостным бременем, и единственное, о чем она мечтала, – уподобившись засохшему дереву, тихо и незаметно влачить свои дни в этой горной глуши. Теперь, когда ее давнишнее желание было наконец удовлетворено, она заметно повеселела, посветлела лицом, часто шутила с монахиней и играла с ней в «го». Разумеется, большую часть времени она отдавала молитвам и усердно изучала разные сутры, начиная с сутры Цветка закона. Скоро выпал снег, люди перестали приходить в Оно – как всегда бывает зимою – и потянулись унылые, однообразные дни (512).
Прошло еще немного времени, и год снова сменился новым. Однако здесь, в Оно, ничто не напоминало о весне. Скованная льдом река по-прежнему была безмолвна, и вид ее располагал к унынию. Мысли женщины все чаще устремлялись в прошлое, и хотя ей казалось, что она сумела окончательно изгнать из памяти образ человека, который сказал когда-то: «Но блуждала, тоскуя, душа…»
«Печально смотрю
На снег, сокрывший от взора
Горы и долы,
А сердце стремится невольно
К ушедшим в прошлое дням», —
как-то написала она, по обыкновению своему в промежутках между службами упражняясь в каллиграфии. «Целый год прошел с того дня, как я умерла для всех, – думала она, вспоминая прошлое. – Помнит ли меня кто-нибудь?»
Однажды им принесли первую зелень в грубой, некрасивой корзинке, и монахиня сказала:
– У горных вершин
По проталинам собирают
Первую зелень.
На нее гляжу, уповая
На будущий твой расцвет.
– По окрестным лугам,
Пробираясь в снегу глубоком,
Первую зелень
Я хотела бы для тебя
Собирать еще долгие годы, —
ответила женщина, и монахиня была растрогана до слез: «Неужели она действительно так думает?»
– О, если бы я могла видеть вас в другом, более сообразном вашим летам обличье… – вздохнула она.
Недалеко от стрехи росла красная слива, такая же яркая и благоуханная, как в те давние дни. «Такая ль весна…» (440) – невольно подумалось женщине, и она почувствовала, что эта слива дороже ей всех остальных цветов. И не потому ли, что напомнила ей того, чьим ароматом она так и не сумела сполна насладиться? (511).
В последнюю ночную стражу женщина поднесла Будде священную воду. Призвав послушниц помоложе, она поручила им нарвать цветов, но, словно обидевшись, лепестки внезапно осыпались, благоухая сильнее прежнего.
Нет здесь того,
Кто когда-то задел рукавом
Эти цветы.
Отчего же такой знакомый
Источают они аромат?..
Внук старой монахини, правитель Кии, совсем недавно вернулся в столицу. Это был красивый мужчина лет тридцати, весьма уверенный в себе.
– Что нового произошло у вас за эти годы? – спросил правитель Кии, приехав навестить старую монахиню, а поскольку та, пребывая в старческой расслабленности, и ответить толком не умела, он почти сразу же перешел в покои младшей монахини:
– Увы, ваша бедная матушка совсем состарилась, – сказал он. – К сожалению, все это время я был далеко и не имел возможности заботиться о ней, а ведь после того, как ушли из мира мои родители, у меня не осталось никого ближе ее. А что супруга правителя Хитати, наведывалась ли она к вам?
Судя по всему, речь шла о его младшей сестре.
– Когда б вы знали, сколько печалей пришлось нам изведать за эти годы! – ответила монахиня. – А госпожа Хитати давно уже не давала о себе знать. Боюсь, что матушка так и не дождется ее.
Услыхав знакомое имя, женщина насторожилась.
– Я довольно давно приехал в столицу, – продолжал правитель Кии, – но, обремененный многочисленными придворными обязанностями, до сих пор не сумел выбраться к вам. Вот и вчера совсем уже было собрался, но неожиданно пришлось сопровождать господина Дайсё в Удзи. Мы пробыли весь день в доме покойного Восьмого принца. Когда-то господин Дайсё посещал его дочь, но в позапрошлом году ее не стало. Потом он тайно поселил в Удзи младшую сестру покойной, но и она скончалась прошлой весной. Собственно, он поехал туда затем, чтобы отдать распоряжение о поминальных молебнах. Провести все положенные службы господин поручил монаху Рисси из близлежащего храма. А вашему покорному слуге доверили подготовить один женский наряд. Надеюсь, вы мне в этом поможете? Я велю, чтобы ткачи выткали необходимые ткани и доставили сюда.
Надобно ли сказывать, сколь нелегко было женщине справиться с волнением? Не желая подавать подозрения окружающим, она поспешила скрыться в глубине покоев.
– Но я слышал, что у того принца-отшельника было только две дочери. Которая же из них стала супругой принца Хёбукё? – спросила монахиня.
– Второй возлюбленной господина Дайсё была скорее всего внебрачная дочь принца, рожденная ему какой-то женщиной весьма низкого звания. Господин Дайсё до сих пор изволит оплакивать ее, сокрушаясь, что был недостаточно внимателен к ней при жизни. Говорят, что и с утратой той, первой, он долго не мог примириться и даже обнаруживал намерение принять постриг.
Поняв, что правитель Кии довольно близко связан с домом Дайсё, женщина похолодела от страха.
– Как странно, что им обеим суждено было скончаться именно в Удзи, – продолжал правитель Кии. – У меня просто сердце разрывалось, когда я смотрел вчера на господина Дайсё. Подойдя к реке, он долго стоял на берегу и, глядя на воду, плакал. Затем поднялся к дому и начертал на одном из столбов:
«Увы, не сумел
Я слез удержать, и они
В реку упали,
Где отраженья любимой
И того не осталось…»
Он редко говорит о ней вслух, но лицо его так печально, что невозможно смотреть на него без жалости. Хорош же он так, что ни одной женщине перед ним не устоять. В целом свете нет человека прекраснее – к такому выводу я пришел еще в юные годы, да и теперь всегда предпочту службу в его доме любой другой, даже самой почетной и выгодной.
«Так, не нужно быть слишком проницательным человеком, чтобы разглядеть достоинства господина Дайсё», – подумала женщина.
– И все-таки, наверное, даже ему далеко до покойного министра, которого когда-то называли Блистательным, – заметила монахиня. – Впрочем, и в наши дни превозносят именно тех, кто принадлежит к его семейству. А что вы скажете о Левом министре?
– Министр – человек редкостной красоты и необыкновенных дарований. Бесспорно, он принадлежит к самым блестящим мужам столицы. Но кто истинно красив, так это принц Хёбукё. Иногда я завидую женщинам, прислуживающим в его доме.
Право, можно было подумать, что он говорит по чьему-то наущению. Женщина прислушивалась, трепеща и замирая от волнения, – неужели речь идет действительно о ней?
Побеседовав с монахиней, правитель Кии уехал.
«Значит, он не забыл», – растроганно подумала женщина, и перед ее мысленным взором невольно возник образ матери. Должно быть, и она… Но предстать перед ней в столь унылом обличье? Нет, это невозможно.
Со странным чувством смотрела она, как монахини по просьбе правителя Кии красили ткани, но не говорила ни слова. Когда же начали кроить и шить, младшая монахиня принесла ей одно из платьев:
– Не поможете ли вы нам? Вы умеете так красиво заделывать отвороты…
Просьба монахини привела женщину в сильнейшее замешательство…
– Мне что-то нездоровится, – сказала она и, не прикасаясь к платью, легла.
– Что с вами? – встревожилась монахиня и поспешно отложила начатую работу. А одна из прислужниц, приложив к красному платью расшитое цветами вишни утики, посетовала:
– Ах, как жаль! Такое платье было бы вам куда более к лицу…
«Обличье свое
Давно уже я сменила,
И стоит ли мне
Надевать этот яркий наряд,
Напоминающий о былом?» —
написала молодая госпожа на листке бумаги.
Тем не менее она чувствовала себя виноватой. Кто знает, вдруг ей суждено скоро умереть и люди проникнут в ее тайну, ведь в конце концов все тайны выходят наружу… Как же горько будет монахине сознавать, что она ушла, так и не открывшись ей…
– Я ничего не помню из своего прошлого, – робко сказала она. – Но когда я смотрю на ваши приготовления, в моей душе пробуждаются какие-то неясные воспоминания… Мне так грустно!
– О, я уверена, что вы многое помните, – ответила монахиня, – и, признаться, меня обижает ваше молчание. Я боюсь, что не сумею достойно справиться с поручением правителя Кии. Вот если бы была жива моя дочь! Наверное, кто-нибудь и о вас вспоминает теперь точно так же, как я о ней. Она скончалась у меня на глазах, но мне все не верится, что ее больше нет в этом мире. Кажется, стоит лишь поискать хорошенько… А вы ведь просто исчезли неведомо куда, не может быть, чтобы никто вас не разыскивал.
– Так, в той жизни обо мне заботилась одна женщина, – призналась молодая госпожа, тщетно пытаясь скрыть слезы, – но ее, наверное, уже нет на свете.
– Воспоминания слишком тягостны, – добавила она, – потому я и молчу. Но, поверьте, у меня нет от вас тайн.
И она умолкла.
Дайсё тем временем отслужил поминальные молебны, и мысли его устремились в прошлое. Как быстро разлучила их судьба! Он позаботился о сыновьях правителя Хитати, пришедших к тому времени в совершенный возраст: одни получили место в Императорском архиве, других он взял к себе в дом. Самые миловидные из младших мальчиков прислуживали ему лично.
Однажды тихим дождливым вечером Дайсё навестил Государыню-супругу. В ее покоях было малолюдно, и они долго беседовали о прошлом и настоящем.
– Было время, – сказал он между прочим, – когда я посещал одну женщину, жившую в бедном горном жилище. Это возбуждало в столице толки, но я старался не обращать на них внимания. «Значит, так было суждено, – говорил я себе. – Люди любят судачить о чужих сердечных делах». Затем произошло несчастье – видно, место это и в самом деле дурное, – после чего дорога туда стала казаться мне слишком далекой, и я почти перестал там бывать. Но вот совсем недавно дела снова привели меня в эту горную усадьбу, и, увидев знакомый старый дом, я с особенной остротой ощутил, сколь непрочен мир. Мне вдруг вспомнилось, что это жилище когда-то принадлежало отшельнику и было построено для того, чтобы пробуждать в людях стремление к Истинному Пути.
Вспомнив свой недавний разговор с Содзу, Государыня спросила:
– А вам не кажется, что та усадьба стала пристанищем оборотней? Знаете ли вы, как именно умерла особа, о которой вы мне только что рассказали?
«Очевидно, ее смущает, что дочери принца скончались одна вслед за другой», – подумал Дайсё.
– Может быть, вы и правы, – ответил он. – В таких глухих местах всегда водится какая-нибудь нечисть. Так или иначе, кончина этой женщины сопряжена с весьма загадочными обстоятельствами.
Однако он не стал рассказывать подробностей.
Государыня же, жалея Дайсё, не хотела показывать своей осведомленности. К тому же она не могла не сочувствовать и принцу, который до сих пор не оправился от удара, в свое время послужившего причиной его недуга. Рассудив, что и для того и для другого будет лучше, если они останутся в неведении, она решила промолчать. Однако, когда гость ушел, тихонько сказала Косайсё:
– По-видимому, Дайсё до сих пор оплакивает ту особу из Удзи. Мне было так его жаль, что я едва не рассказала ему все, но не решилась. К тому же не исключено, что Содзу говорил о ком-то другом… Так или иначе, при случае намекните ему. Вы ведь тоже все слышали. А те подробности, которые могут огорчить его, лучше опустить.
– Но если даже вы не решаетесь говорить с ним об этом, то как же я, совершенно посторонний человек… – возразила Косайсё, но Государыня не отступалась.
– Все зависит от обстоятельств. Кроме того, у меня есть причины… Разумеется, Косайсё все поняла и не могла не оценить… И вот однажды, когда Дайсё зашел к ней и завязалась между ними беседа, она все ему рассказала. Нетрудно вообразить, как потрясла его эта история, и в самом деле невероятная. «Возможно ли, чтобы Государыня ничего не знала, когда мы виделись с ней в последний раз? – спрашивал он себя. – Я бы предпочел, чтобы она сама рассказала мне об этом. Впрочем, ведь и я не был до конца откровенен с ней. Но теперь нелепо… Увы, чем больше таишься, тем больше вокруг тебя возникает сплетен. Живым и то трудно хранить свои тайны».
Однако говорить об этом Дайсё было тяжело, и он не стал посвящать Косайсё в подробности.
– Судя по всему, это действительно та самая женщина, которой исчезновение так взволновало меня когда-то, – сказал он. – Так что же, она и теперь живет в Оно?
– Да, и она приняла постриг в тот день, когда почтенный Содзу спустился с гор. Она давно уже обнаруживала решительное намерение стать монахиней, однако окружающие, сочувствуя ее красоте и молодости, не соглашались, и даже когда жизни ее грозила опасность… Однако в конце концов ей удалось-таки настоять на своем.
У Дайсё почти не оставалось сомнений: все совпадало – и место, и прочие обстоятельства… Но что же ему теперь делать? Поехать в Оно? Вряд ли это разумно. Нет, он должен отыскать какое-нибудь другое средство узнать правду. Глупо самому ездить повсюду, выяснять, подавая повод к молве. А вдруг слух о том дойдет до принца Хёбукё? Легко может случиться, что он примется за старое и помешает женщине утвердиться на избранном пути. Возможно, впрочем, он и так уже все знает и взял с Государыни обещание ничего не говорить ему, Дайсё. Иначе трудно объяснить ее странное молчание. Неужели у нее просто не было желания поделиться с ним столь удивительной новостью? А если здесь действительно замешан принц, то, как ни дорога Дайсё эта женщина, не лучше ли по-прежнему считать, что ее больше нет в мире? К тому же, если она и в самом деле не умерла, у него остается надежда, что когда-нибудь возле желтых истоков случайная прихоть судьбы снова сведет их. Во всяком случае, не стоит сразу же заявлять на нее свои права. Поговорить с Государыней? Но вряд ли она поможет ему… И все же, отыскав подходящий предлог, Дайсё снова приехал к Государыне и, желая испытать ее, искусно навел разговор на волнующий его предмет:
– Мне вдруг стало известно, – сказал он, – что особа, которая, как я полагал, скончалась при весьма загадочных обстоятельствах, до сих пор жива, хотя и находится в чрезвычайно бедственном положении. В это трудно поверить, и тем не менее… Помню, как я удивился, узнав, что столь робкая и нерешительная женщина оказалась способной на такой отчаянный шаг.
И Дайсё рассказал Государыне кое-какие подробности этой поистине невероятной истории, стараясь по возможности щадить принца и не показывать собственной обиды.
– Узнав о моем желании найти ее, – добавил он, – принц наверняка сочтет меня неисправимым искателем любовных приключений. Вот я и думаю: жива она иль нет, не лучше ли мне оставить все как есть и не предпринимать никаких попыток снестись с ней.
– Да, почтенный Содзу что-то говорил мне об этом, – отвечала Государыня, – но, к сожалению, я многое пропустила мимо ушей, ведь была такая страшная ночь… Не думаю, чтобы принц Хёбукё знал. Я слышала о его недостойном поведении и могу себе представить, в какое волнение привела бы его эта новость. Ах, как тревожит меня его полное нежелание считаться с приличиями!
Дайсё был уверен, что Государыня не выдаст его: она умела хранить тайны и даже в самой откровенной беседе никогда и словом бы не обмолвилась…
С тех пор Дайсё и днем и ночью думал лишь об одном. «Где она живет теперь? – спрашивал он себя. – Как отыскать ее, не дав при этом повода к сплетням?» Несомненно, прежде всего ему следовало встретиться с Содзу.
Имея обыкновение на Восьмой день каждой луны заказывать торжественный молебен в честь будды Якуси, Дайсё довольно часто бывал в одном из главных храмов горы Хиэ. Оттуда до Ёкава было рукой подать, и однажды, отправившись в горы, он взял с собой младшего сына госпожи Хитати. У него не было намерения делиться своими весьма неопределенными догадками с близкими женщины, но присутствие брата должно было сделать их встречу еще более трогательной. Впрочем, не грезит ли он?..
По дороге в горы Дайсё продолжали одолевать сомнения. Даже если это действительно она, слишком много перемен произошло в ее жизни. Она стала монахиней, ее окружают совсем другие люди… А что, если и теперь какой-нибудь недостойный человек…
Назад: Поденки
Дальше: Плавучий мост сновидений

