Глава девятнадцатая
В полумраке коктейль-бара я стал соперничать с Создателем вселенной. Я смял всю вселенную в шар диаметром точно в один световой год. Потом я ее взорвал. Потом снова развеял в пространстве.
Можете задавать мне вопросы, любые вопросы. Каков возраст вселенной? Ее возраст – полсекунды, но эти полсекунды пока что длились один квинтильон лет. Кто ее создал? Никто – она существовала всегда.
Что есть время? Это змей, кусающий собственный хвост. Вот так:
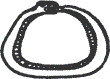
Однажды этот змей развернулся, чтобы дать Еве яблоко, которое выглядело так:
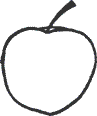
Что это было за яблоко, которое съели Адам и Ева?
Это яблоко было Создателем вселенной.
Ну и так далее.
До чего же красивы подчас бывают некоторые символы!
Слушайте:
Официантка принесла мне еще выпить. Она хотела опять зажечь свечу на моем столике. Но я не позволил.
– Разве вам что-нибудь видно тут, в полутьме, да еще через темные очки? – спросила она.
– Главное действие разыгрывается у меня в голове, – сказал я.
– Да ну? – сказала она.
– Я и судьбу умею предсказывать, – сказал я. – Хотите, и вам предскажу?
– Как-нибудь потом, – сказала она. Она пошла к бару и о чем-то заговорила с барменом – наверно, про меня. Бармен несколько раз встревоженно оборачивался в мою сторону. Но, кроме зеркальных очков, закрывавших мои глаза, он ничего не видел. И я не беспокоился, что он меня выставит из бара. Создал-то его я сам. И имя ему я придумал: Гарольд Ньюком Уилбер. Я наградил его Серебряной звездой, Бронзовой звездой, Солдатской медалью, медалью «За примерное поведение и службу» и орденом Алого сердца с двумя пучками бронзовых дубовых листьев, так что в Мидлэнд-Сити среди ветеранов он был на втором месте по количеству регалий. Я спрятал все его награды у него в шкафу под носовые платки.
Все эти медали он заработал во Второй мировой войне, которую затеяли роботы, чтобы Двейн Гувер, как существо со свободной волей, мог отреагировать на эту бойню. Эта война велась с таким размахом, что на земле почти не осталось ни одного робота, не принимавшего в ней участия. Гарольд Ньюком Уилбер получил все свои награды за то, что убивал японцев – желтых роботов. Горючим для них служил рис.
Он продолжал глазеть на меня, хотя мне уже не терпелось это прекратить. Но я не вполне мог управлять созданными мной персонажами. Я мог только приблизительно руководить их движениями – слишком большие это были животные. Приходилось преодолевать инерцию. Я был, конечно, связан с ними, но не то чтобы стальным проводом. Скорее было похоже, что нас связывала изношенная, потерявшая эластичность резиновая передача.
Тогда я заставил зазвонить зеленый телефон, висевший за стойкой. Гарольд Ньюком Уилбер, не сводя с меня глаз, взял трубку. Мне надо было быстро придумать – кто там на другом конце провода. И я поставил туда первого по количеству орденов среди ветеранов в Мидлэнд-Сити. Он получил ордена за войну во Вьетнаме. Раньше он тоже дрался с желтыми роботами, которые работали на рисе.
– Коктейль-бар, – сказал Гарольд Ньюком Уилбер.
– Гарольд?
– Да?
– Это Нед Лингамон.
– Я занят.
– Не вешай трубку. Полиция меня засадила в городскую тюрьму. Разрешили сделать только один звонок. Вот я и звоню тебе.
– Почему мне?
– Из всех друзей ты один только и остался.
– За что тебя взяли?
– Говорят, убил своего ребенка.
И так далее.
У этого белого человека были все те же ордена, что и у Гарольда Ньюкома Уилбера, плюс самая высокая награда, какую мог получить американский солдат за героизм. Выглядела она так:

…И вместе с тем он совершил сейчас самое гнусное преступление, какое может совершить американец, то есть убил своего собственного ребенка. Звали младенца Синтия-Энн, и жила она совсем недолго, пока снова не ушла из жизни. Убили ее за то, что она плакала и плакала без конца.
Сначала ее семнадцатилетняя мать сбежала от нее, потому что ребенок слишком много требовал. А потом отец убил ее.
И так далее.
Что же касается судьбы, которую я мог бы предсказать официантке, то вот она: «Вас облапошат дезинфекторы, которые придут уничтожать термитов, но вы ничего не заметите. Вы купите шины со стальным ободом для передних колес вашей машины. Вашу кошку переедет мотоциклист по имени Хэдли Томас, и вы заведете другую кошку. Артур, ваш брат из Атланты, найдет одиннадцать долларов в такси».
Я мог бы предсказать судьбу и Кролику Гуверу: «Ваш отец очень серьезно заболеет, и вы так странно отнесетесь к его болезни, что пойдут разговоры: не поместить ли и вас в психушку? В приемной психбольницы вы будете устраивать сцены докторам и сестрам, утверждая, что вы виноваты в болезни отца. Вы будете винить себя за то, что столько лет пытались убить его ненавистью. Но потом вы переключите свою ненависть. Вы станете ненавидеть вашу покойную мать».
И так далее.
А черного Вейна Гублера, бывшего арестанта, я заставил уныло стоять у мусорных контейнеров на задворках новой гостиницы и смотреть на ассигнации, выданные ему у ворот тюрьмы нынче утром. Больше ему делать было нечего.
Он долго рассматривал пирамиду с недремлющим оком на верхушке. Как ему хотелось побольше узнать и про пирамиду, и про недремлющее око!
Сколько надо было еще учиться?!
Вейн даже не знал, что Земля вращается вокруг Солнца. Он думал, что Солнце вращается вокруг Земли, потому что с виду это было именно так.
Грузовик, пронесшийся по автостраде, как будто взвыл от боли: ведь Вейн прочел надпись на борту по буквам. Вейну казалось, будто грузовик крикнул: «Какая мука – возить взад и вперед всякие грузы!»
Вот что было написано на борту грузовика; и Вейн прочел: «Ххх-ррр-цц».
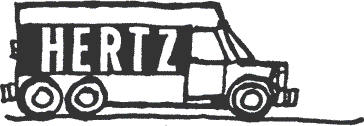
А вот какая история случится с Вейном дня через четыре, потому что я захотел, чтобы с ним так случилось. Его задержат и допросят в полиции, оттого что он вел себя подозрительно у боковых ворот «Бэрритрон лимитед», где делали что-то связанное со сверхсекретным оружием. Сначала полиция решит, что он только притворяется неграмотным дурачком, а на самом деле – он хитрый разведчик, работающий на коммунистов.
Но проверка отпечатков его пальцев и превосходные зубные коронки докажут, что он именно тот, за кого себя выдает. Но тем не менее ему придется еще кое-что объяснять. Откуда у него членский билет во всеамериканский клуб «Плейбой», выданный на имя Пауло ди Капистрано? Окажется, что он нашел билет в мусорном ящике на задворках новой гостиницы «Отдых туриста».
И так далее.
А теперь пришла пора заставить Рабо Карабекьяна, художника-минималиста, и писательницу Беатрису Кидслер что-то сказать и сделать для моей книги. Мне не хотелось глазеть на них – зачем их стращать? – и я притворился, что с увлечением рисую мокрым пальцем какие-то картинки на столе.
Сначала я нарисовал земной символ, означающий «ничто». Вот он:

Потом я нарисовал земной символ, означающий «все». Вот он:
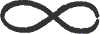
И Двейн Гувер, и Вейн Гублер знали первый символ, но не знали второго. А потом я нарисовал еще один символ в туманном облаке, и этот символ был печально известен Двейну, но неизвестен Вей-ну. Вот он:

И я нарисовал еще один символ – значение его Двейн несколько лет учил в школе, но потом совсем забыл. Вейну этот символ, наверно, напомнил бы конец стола в тюремной столовке. Этот знак выражал отношение длины окружности к ее диаметру. Отношение также можно было выразить числом, и даже в то время, когда и Двейн, и Вейн, и Карабекьян, и Беатриса Кидслер, и вообще все мы занимались своими делами, земные ученые монотонно радировали это число в космос. Замысел был такой: показать обитателям других планет, – если только они нас слушают, – какие мы умные. Мы до сих пор пытали окружности, пока не выпытали у них тайный символ, выражающий их сущность. Назывался он «Пи».

И еще я нарисовал на пластиковом столике невидимую копию картины Карабекьяна под названием «Искушение святого Антония». Копию я, конечно, сделал в миниатюре и не в цвете, но я верно ухватил форму картины, да и ее содержание тоже. Вот что я нарисовал:
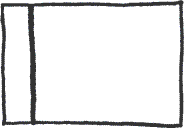
В ширину оригинал имел двадцать футов, в высоту – шестнадцать. Фон был закрашен «гавайским авокадо», изготовлявшимся фирмой «Краски и лаки О’Хейра» в Хеллертауне, штат Пенсильвания. Вертикальная полоса представляла собой наклейку из оранжевой флюоресцентной ленты. Картина была одним из самых дорогих произведений искусства в городе, конечно, не считая всяких зданий и памятников и не считая статуи Линкольна перед негритянской школой.
Просто стыдно сказать, сколько стоила эта картина. Это была первая вещь, купленная для постоянной выставки в Центре искусств имени Милдред Бэрри. Фред Т. Бэрри, председатель правления компании «Бэрритрон лимитед», выложил за картину пятьдесят тысяч долларов своих кровных денежек.
Весь Мидлэнд-Сити был возмущен. И я тоже.
Да и Беатриса Кидслер тоже была возмущена, но она скрывала свое неудовольствие, сидя у рояля рядом с Карабекьяном. На Карабекьяне была фуфайка с портретом Бетховена. Он знал, что окружен людьми, которые ненавидят его за то, что он ухватил такую огромную сумму за такую ничтожную работу. И его это забавляло.
Как и все в коктейль-баре, он себе размягчал мозги алкоголем. Это было вещество, которое вырабатывалось крошечным существом, называемым «дрожжевой грибок». Дрожжевые микроорганизмы поедали сахар и выделяли алкоголь. Они убивали себя, отравляя собственную среду своими же экскрементами.
Килгор Траут однажды написал рассказик – диалог между двумя дрожжевыми грибками. Они обсуждали, что следовало бы считать целью их жизни, а сами поглощали сахар и задыхались в собственных экскрементах. И так как их умственный кругозор был весьма ограничен, они так и не догадались, что уже делают шампанское.
И вот я заставил Беатрису Кидслер сказать Рабо Карабекьяну, когда они сидели в баре у рояля:
– Мне очень стыдно признаться, но я не знаю, кто такой святой Антоний. Кто же он был и почему кому-то захотелось его искушать?
– Да я и сам не знаю, и знать не хочу, кто он такой, – сказал Карабекьян.
– Значит, вам не нужна истина? – спросила Беатриса.
– А вы знаете, что такое истина? – сказал Карабекьян. – Это всякая дурь, в которую верит ваш сосед. Если я хочу с ним подружиться, я его спрашиваю, во что он верит. Он мне рассказывает, а я приговариваю: «Верно, верно, совершенная истина!»
Никакого уважения ни к творчеству этого художника, ни к творчеству этой писательницы я не испытывал. Я считал, что Карабекьян, со своими бессмысленными картинами, просто стакнулся с миллионерами, чтобы бедняки чувствовали себя дураками. Я считал, что Беатриса Кидслер, заодно с другими старомодными писателями, пыталась заставить людей поверить, что в жизни есть главные герои и герои второстепенные, что есть обстоятельства значительные и обстоятельства незначительные, что жизнь может чему-то научить, проведя сквозь всякие испытания, и что есть у жизни начало, середина и конец.
Чем ближе подходило мое пятидесятилетие, тем больше я возмущался и недоумевал, видя, какие идиотские решения принимают мои сограждане. А потом мне вдруг стало их жаль: я понял, что это не их вина, что для них естественно вести себя так безобразно да еще с такими безобразными последствиями – ведь они изо всех сил старались подражать выдуманным героям всяких книг. Оттого американцы так часто и убивали друг дружку. Это был самый распространенный литературный прием: убийством кончались многие рассказы и романы.
А почему правительство обращалось со многими американцами так, словно их можно было выкинуть из жизни, как бумажные салфетки? Потому что так обычно обращались писатели с персонажами, игравшими второстепенную роль в их книгах.
И так далее.
Как только я понял, почему Америка стала такой несчастной и опасной страной, где люди жили выдуманной жизнью, я решил отказаться от всякого сочинительства. Я решил писать про реальную жизнь. Все персонажи будут одинаково значительны. Все факты будут одинаково важными. Ничто упущено не будет. Пускай другие вносят порядок в хаос. А я вместо этого внесу хаос в порядок, и, кажется, теперь мне это удалось.
И если так поступят все писатели, то, может быть, граждане, не занимающиеся литературным трудом, поймут, что никакого порядка в окружающем нас мире нет и что мы главным образом должны приспосабливаться к окружающему нас хаосу.
Приспособиться к хаосу чрезвычайно трудно, но вполне возможно. Я – живое тому доказательство. Да, это вполне возможно.
Приспособляясь к хаосу в коктейль-баре, я сделал так, чтобы Бонни Мак-Магон – такой же важный персонаж, как любое существо во вселенной, – принесла Беатрисе Кидслер и Рабо Карабекьяну еще порцию дрожжевых экскрементов. Карабекьяну она принесла сухой мартини на виски «Бифитер» с лимонной корочкой и при этом сказала: «Завтрак для чемпионов».
– Вы это уже говорили, когда подали мне первую порцию мартини, – сказал Карабекьян.
– Всякий раз так говорю, когда подаю мартини, – сказала Бонни.
– И не надоедает? – сказал Карабекьян. – А может, люди нарочно забираются в такие Богом забытые городишки, как ваш, чтобы никто не мешал им повторять те же остроты, пока светлый Ангел Смерти не заткнет им рот горстью праха.
– Да я же просто хочу развеселить людей, – сказала Бонни. – Никогда в жизни не слышала, что это преступление. Больше так говорить не буду. Извините, пожалуйста. Я не хотела вас оскор – бить.
Бонни ужасно не нравился Карабекьян, но разговаривала она с ним сладким, как пирожное, голоском. Она твердо соблюдала правило: никогда не показывать, что тут, в коктейль-баре, ее что-то раздражает. Ее заработок складывался главным образом из чаевых, а чтобы получать на чай побольше, надо улыбаться, улыбаться и улыбаться, несмотря ни на что. Теперь у Бонни было только две цели в жизни. Ей надо было вернуть все деньги, которые ее муж потерял на мойке для машин в Шепердстауне, и ей до смерти хотелось купить шины со стальным ободом для своей машины.
Тем временем ее муж сидел дома, смотрел по телевизору, как играет в гольф профессиональная команда, и отравлялся экскрементами дрожжевых грибков.
Кстати, святой Антоний был египтянином, основавшим самый первый монастырь – так называлось место, где люди могли вести простой образ жизни и часто возносить молитвы Создателю вселенной, не отвлекаясь мирской суетой, любострастием и экскрементами дрожжевых грибков. Святой Антоний еще смолоду продал все свое имущество, ушел в пустыню и прожил там двадцать лет.
В эти годы полного одиночества его часто искушали виденья всяких удовольствий, которые ему могли бы доставить еда, женщины, и ярмарки, и все прочее.
Его биографию создал другой египтянин, святой Афанасий, чьи теории о Троице, воплощении и божественной сущности Святого Духа, написанные через три столетия после убийства Христа, все католики считали непререкаемыми, даже во времена Двейна Гувера.
Кстати, католическая средняя школа в Мидлэнд-Сити была названа в честь святого Афанасия. Сначала ее назвали в честь святого Христофора, но потом папа римский, глава католической церкви во всем мире, объявил, что никакого святого Христофора, по-видимому, никогда не было, так что в его честь больше ничего называть не надо.
Черный человек, мывший посуду на кухне гостиницы, вышел подышать свежим воздухом и выкурить сигарету «Пэлл-Мэлл». На его пропотевшей фуфайке красовался значок. Вот что на нем было написано:

Повсюду в гостинице стояли подносы с такими значками – бери кто хочет, и негр-судомойка тоже взял для смеха такой значок. Никаких произведений искусства, ничего, кроме всяких дешевых, а потому и непрочных поделок, ему нужно не было. Звали его Элдон Роббинс, и был он мужчина хоть куда.
Элдон Роббинс тоже отсидел какое-то время в исправительной колонии и сразу узнал, что Вейн Гублер, стоявший у мусорных контейнеров, был только что выпущен оттуда же.
– С возвращением на свет божий, братец, – ласково, вполголоса сказал он Вейну с кривой усмешкой. – Когда поел в последний раз? Нынче утром, что ли?
Вейн робко кивнул: это была правда. И Элдон провел его через кухню к длинному столу, за которым ела кухонная челядь. Там даже стоял телевизор, и Вейну показали казнь шотландской королевы Марии. Все были разряжены, и королева добровольно положила голову на плаху.
Элдон устроил для Вейна даровой обед: бифштекс с картофельным пюре и мясной подливкой и вообще все, что ему захотелось, – обед готовили тоже черные люди. На столе стоял поднос с фестивальными значками, и перед обедом Элдон приколол такой значок Вейну.
– Ты его не снимай – и тебя никто не тронет, – сказал он строгим голосом.
Элдон показал Вейну глазок, который кухонная прислуга пробуравила в стенке, прямо в коктейль-бар.
– Наскучит смотреть телик, можешь поглядеть на зверье в зоопарке, – сказал он.
Элдон сам заглянул в глазок и сказал Вейну, что около рояля сидит один малый, которому заплатили пятьдесят тысяч долларов за то, что он налепил кусок желтой ленты на кусок зеленого холста. Элдон велел Вейну хорошенько разглядеть Карабекьяна. Вейн его послушался.
Но Вейну тотчас расхотелось смотреть в глазок, потому что он был слишком невежественным и не мог разобрать, что происходит в коктейль-баре. Например, он никак не мог понять, зачем горят свечи. Он решил, что там испортилось электричество и кто-то пошел менять пробки. И еще он никак не мог понять, как отнестись к костюму Бонни. Костюм этот состоял из белых ковбойских сапожек, черных ажурных чулок с малиновыми подвязками, ясно видными на голых ляжках, и чего-то вроде тесного купального костюма, расшитого блестками, к которому сзади был прикреплен помпон из розовой ваты.
Бонни стояла спиной к Вейну, поэтому он не мог видеть, что на ней трифокальные восьмиугольные очки без оправы и что она сорокадвухлетняя женщина с лошадиным лицом. Не видел он и как она улыбалась, улыбалась, улыбалась, какие бы дерзости ни говорил Карабекьян. Однако Вейн мог читать слова Карабекьяна по губам. Он хорошо умел читать по губам, как и все, кто отсидел срок в Шепердстауне. Соблюдать тишину в коридорах и за едой было обязательным правилом в Шепердстауне.
Вот что говорил Карабекьян Бонни, показывая на Беатрису Кидслер:
– Эта уважаемая особа – знаменитая писательница, и, кроме того, она уроженка здешнего захолустья. Может быть, вы могли бы рассказать ей какие-нибудь правдивые случаи из жизни ее родного города?
– Ничего я не знаю, – сказала Бонни.
– Ну, бросьте, – сказал Карабекьян. – Несомненно, каждый человек в этом баре может стать героем замечательного романа. – И он показал на Двейна Гувера: – Расскажите про этого человека!
Но Бонни только рассказала им про песика Двейна – Спарки, который не мог вилять хвостом.
– Вот ему и приходится все время драться, – объяснила Бонни.
– Изумительно! – сказал Карабекьян. Он повернулся к Беатрисе: – Не сомневаюсь, что вы можете это как-нибудь использовать.
– И в самом деле могу, – сказала Беатриса. – Прелестная деталь.
– Чем больше деталей, тем лучше, – сказал Карабекьян. – Слава Богу, что есть на свете писатели. Слава Богу, что существуют люди, готовые все записать. Иначе сколько было бы позабыто.
И он стал просить Бонни рассказать ему еще какие-нибудь правдивые истории.
Бонни попалась на эту удочку – Карабекьян с таким увлечением просил ее, что у нее мелькнула мысль: а вдруг Беатрисе Кидслер и в самом деле для ее книг пригодятся истории из жизни?
– Скажите, – спросила Бонни, – а Шепердстаун тоже можно более или менее считать частью Мидлэнд-Сити?
– Разумеется! – сказал Карабекьян, никогда и не слыхавший о Шепердстауне. – Чем был бы Мидлэнд-Сити без Шепердстауна? Да и Шепердстаун – чем бы он был без Мидлэнд-Сити?
– Ну вот, – сказала Бонни, и у нее мелькнула мысль, что сейчас она им расскажет действительно интересную историю. – Мой муж служит надзирателем в шепердстаунской исправительной колонии для взрослых, и обычно он должен был сидеть со смертниками, приговоренными к электрическому стулу, – это еще было, когда людей казнили очень часто. Он с ними и в карты играл, и Библию им читал, вообще делал то, что они просили. И вот однажды ему пришлось сидеть с одним белым, его звали Лерой Джойс.
Костюм Бонни слабо отливал каким-то странным, чешуйчатым, рыбьим блеском. Блестел он оттого, что весь был пропитан флюоресцентными веществами. И у бармена куртка тоже была с пропиткой. И африканские маски на стене – тоже. А когда зажигались ультрафиолетовые лампы на потолке, костюмы начинали сверкать, как электрическая реклама. Сейчас лампы не горели. Бармен зажигал их, когда ему вздумается, – устраивал посетителям неожиданный чудесный сюрприз.
Кстати, ток для этих ламп и для всего электрооборудования в Мидлэнд-Сити получался от сжигания угля, добытого на открытых шахтах Западной Виргинии, мимо которых всего несколько часов назад проезжал Килгор Траут.
– Лерой Джойс был до того глупым, что и в карты играть не умел, и Библии не понимал. Он и говорить-то почти не умел. Съел свой последний ужин и сидит. Он был присужден к казни за изнасилование. А мой муж сидел в коридоре около камеры и читал про себя. Вдруг слышит: Лерой звякает своей жестяной кружкой об решетку. Муж подумал: может, он хочет еще кофе. Встал, зашел в камеру, взял кружку. А Лерой ухмыляется во весь рот, как будто все уладилось и на электрический стул его сажать незачем: оказывается, он сам себя кастрировал, а то, что отрезал, бросил в кружку.
Эту книгу я, конечно, сочинил. Но случай, который в ней рассказывает Бонни, действительно произошел – в камере смертников в арканзасской тюрьме.
Что же касается пса Двейна Гувера, Спарки, который не мог вилять хвостом, то я скопировал его с собаки моего брата: ей все время приходится драться, потому что она хвостом вилять не может. Честное слово, есть такая собака на самом деле.
И еще Рабо Карабекьян попросил Бонни объяснить ему, что это за девочка нарисована на обложке программы фестиваля искусств. Это была единственная мировая знаменитость во всем Мидлэнд-Сити – Мэри-Элис Миллер, чемпионка мира среди женщин по плаванию брассом на двести метров. Ей всего пятнадцать лет, объяснила Бонни.
Мэри-Элис была также избрана королевой фестиваля искусств. На обложке программы ее изобразили в белом купальном костюме с олимпийской золотой медалью на шее. Медаль была такая:

Мэри-Элис улыбалась святому Себастьяну на картине испанского художника Эль Греко. Эту картину одолжил для фестиваля Элиот Розуотер, покровитель Килгора Траута. Святой Себастьян был римским воином, и жил он за тысячу семьсот лет и до меня, и до Мэри-Элис Миллер, и до Вейна, и до всех нас. Он втайне принял христианство, а тогда христиане были вне закона.
Кто-то на него донес. Император Диоклетиан заставил лучников расстрелять его. Картина, которой так безмятежно улыбалась Мэри-Элис, изображала человека, до того утыканного стрелами, что он был похож на дикобраза.
Но так как все художники любят утыкивать изображение святого Себастьяна на картинах тысячами стрел, то почти никто не знает, что он не только выжил после этой истории – он совершенно выздоровел. И он стал ходить по Риму, превозносить христианство и вовсю ругать императора, за что его и приговорили к смерти во второй раз. Его насмерть забили палками.
И так далее.
Тут Бонни рассказала Беатрисе и Карабекьяну, что отец Мэри-Элис, один из инспекторов в Шепердстауне, стал учить Мэри-Элис плавать, когда ей было всего восемь месяцев, а с трех лет заставлял ее плавать не меньше четырех часов.
Рабо Карабекьян подумал и вдруг сказал нарочито громким голосом, чтобы все его слышали:
– Что же это за человек, который собственную дочку превращает в подводный винт?
Вот тут и наступает психологическая развязка этой книги, потому что именно на этом этапе я – автор романа – внезапно перерождаюсь под влиянием всего написанного мной самим до сих пор. Я и отправился в Мидлэнд-Сити затем, чтобы родиться вновь. И устами Рабо Карабекьяна, сказавшего: «Что же это за человек, который собственную дочку превращает в подводный винт?» – хаос возвестил о рождении моего нового «я».
Эта случайная фраза возымела такие потрясающие последствия, потому что психологически атмосфера коктейль-бара находилась в том состоянии, которое я бы хотел назвать «предземлетрясением». Мощные силы бурлили в наших душах, но ничего сделать не могли, так как прекрасно уравновешивали друг друга.
И вдруг оторвалась какая-то песчинка. Одна сила внезапно преодолела другую, и душевные континенты внезапно вспучились и заколебались.
Одной из постоянно действующих сил, безусловно, была жажда наживы – этим были заражены многие посетители коктейль-бара. Они знали, сколько было уплачено Рабо Карабекьяну за его картину, и тоже хотели бы получить пятьдесят тысяч долларов. Сколько удовольствий они могли бы доставить себе за пятьдесят тысяч – по крайней мере так они думали. Но вместо этого им приходилось тяжелым трудом зарабатывать какие-то жалкие доллары. Это было несправедливо.
Другой силой, укоренившейся в душах этих людей, был страх, что их образ жизни может кому-то показаться смешным, что весь их город нелеп и смешон. А теперь случилось самое скверное: Мэри-Элис Миллер – единственное существо в их городе, которое они считали неподвластным ничьим насмешкам, вдруг была осмеяна каким-то чужаком.
Надо также учесть и мое состояние «предземлетрясения», так как родился-то заново именно я. Насколько мне известно, больше никто в коктейль-баре заново не родился. Все остальные просто переосмыслили свое отношение к ценностям современного искусства.
Что же касается меня, то я когда-то пришел к заключению, что ничего святого ни во мне, ни в других человеческих существах нет и что все мы просто машины, обреченные сталкиваться, сталкиваться и сталкиваться без конца. И, за неимением лучших занятий, мы полюбили эти столкновения. Иногда я писал о всяких столкновениях хорошо, и это означало, что я был исправной пишущей машиной. А иногда я писал плохо – значит, я был неисправной пишущей машиной. И было во мне не больше святого, чем в «понтиаке», мышеловке или токарном станке.
Я не ожидал, что меня спасет Рабо Карабекьян. Я его создал, и я сам считал его тщеславным и пустым человеком и вовсе не художником. Но именно он, Рабо Карабекьян, сделал из меня того безмятежного землянина, каким я стал.
Слушайте!
– Что же это за человек, который собственную дочку превращает в подводный винт? – сказал он Бонни Мак-Магон.
И Бонни Мак-Магон взорвалась. Она впервые так взорвалась – с тех пор как пришла работать в коктейль-бар. Голос у нее стал неприятный, точно скрежет пилы по жестяному листу. И ужасно громкий.
– Ах так? – сказала она. – Ах так?
Все застыли. Кролик Гувер перестал играть. Люди не хотели упустить ни одного слова.
– Значит, вы плохого мнения о Мэри-Элис Миллер? – сказала Бонни. – А вот мы плохого мнения о вашей картине. Пятилетние дети и то лучше рисуют – сама видела.
Карабекьян соскользнул с табурета и встал лицом к лицу со всеми своими врагами. Он меня даже удивил. Я ожидал, что он отступит с позором, что его осыплют градом оливок, вишневых косточек и лимонных корок. Но он величественно стоял перед всеми.
– Послушайте, – спокойно заговорил он, – я прочитал все статьи против моей картины в вашей отличнейшей газете. Я прочитал и каждое слово в тех ругательных письмах, которые вы так любезно пересылали мне в Нью-Йорк.
Все немного растерялись.
– Картина не существовала, пока я ее не создал, – продолжал Карабекьян. – Теперь, когда она существует, для меня было бы большим счастьем видеть, как ее без конца копируют и необычайно улучшают все пятилетние ребятишки вашего города. Как я был бы рад, если бы ваши дети весело, играючи, нашли то, что я мучительно искал много-много лет. И вот сейчас даю вам честное слово, – продолжал он, – что картина, купленная вашим городом, показывает самое главное в жизни – и тут ничего не упущено. Это – сознание всякого живого существа. Это – его нематериальная сущность, его «я», к которому стекаются все сигналы извне. Это – живая сердцевина в любом из нас: и в мыши, и в олене, и в официантке из коктейль-бара. И какие бы нелепейшие происшествия с нами ни случались, эта сердцевина неколебима и чиста. Потому и образ святого Антония в его одиночестве – это прямой, неколебимый луч света. Будь подле него таракан или официантка из коктейль-бара, на картине было бы два световых луча. Наше сознание – это именно то живое, а быть может, и священное, что есть в каждом из нас. Все остальное в нас – мертвая механика.
Я только что слыхал, как наша официантка – вот этот вертикальный луч света – рассказала историю про своего мужа и одного слабоумного накануне казни в Шепердстауне. Отлично. Пусть пятилетний ребенок истолкует смысл этой встречи. Пусть этот пятилетний художник откинет прочь и слабоумие, и решетки, и ожидающий узника электрический стул, и форму надзирателя, и его револьвер, и всю его телесную оболочку. Что будет самой совершенной картиной, какую мог бы написать пятилетний ребенок? Два неколебимых световых луча.
Восторженная улыбка засияла на диковатом лице Рабо Карабекьяна.
– Граждане Мидлэнд-Сити, низко кланяюсь вам, – сказал он, – вы дали прибежище величайшему произведению искусства.
Ничего этого Двейн Гувер не воспринимал. Он все еще был словно в гипнозе, ушел в себя. Он думал про руку, чертящую знаки на стене, и так далее. У него явно не все были дома. Чердак был не в порядке. Свихнулся он. Да, Двейн Гувер совсем спятил.

