Вторая тетрадь
18. XII.72
Начал новую тетрадь. Просто по поговорке: «С понедельника – новая жизнь». Сегодня понедельник, и я начинаю новую тетрадь.
…Сделал большую гимнастику. До пота, до усталости. Ждали открытия Тигиля – и наконец он открылся. Можно лететь. Собрались быстро и делово. Читал вечером Андрея Битова, хороший писатель. Несколько все же лабораторный.
Володя два дня провел дома с семьей и утром пришел несколько бледноватый. Общение с «половиной».
Поехали на аэродром. Все те же люди, которые с нами летают вот уже несколько дней, почти полторы-две недели. Вообще, это для Антониони. Несколько человек, скажем 9–10, летят на самолете куда-то. Они не знакомы и летят каждый по своим делам, но долететь до пункта назначения никак не могут. Вот погода не пустила, и пришлось сесть раньше и несколько дней жить вместе. Опять полетели, и опять мимо, на этот раз пришлось сесть дальше. И снова несколько дней вместе сидят, 9 человек и 5 летчиков. И между ними происходят – любовь, измены, страсти и так далее!.. Но главное – то, что это все происходит не в Италии, солнечной и белой, а в СССР, с обшарпанными сортирами и умывальниками с сосками.
Кстати, о сортире. Надо бы сделать удивительную коллекцию описаний сортиров всей Камчатки.
Короче, прилетели в Тигиль, разместились.
«Мороз и солнце…» Снег хрустит. Разместились. Пообедали. Пошли в кино на старую картину Арнштама «Друзья». Ох, и кино Лелик лудил. Ну, да бог с ними.
Пришли домой, буду читать.
19. XII.72
День прошел нормально, за исключением того, что морозище, хотя и солнечно.
Встречались со стариками. Милые, трогательные люди, так чутки и внимательны к тем, кто у них расспрашивает что-либо о прошлой жизни.
Купил Степану сапоги-кирзуху. Они хоть и смешные, да ловкие. Пусть шлепает по Москве в кирзухе. Обедали. Потом готовились – вечером опять выступление.
Народу в клубе – битком. Выступали. Все прошло нормально, только вот все никак не проходит у меня чувство какой-то вины и никчемности, которое возникает порой и теперь, как раньше в прошлой моей жизни. От этого вновь неспокойно. Чужим себя чувствую всему – и здесь, и там, «на материке».
Вообще, опустошение сейчас какое-то. Видимо, идет оно и от того, что нужно снимать этот фильм о походе, а как зажечь в нем искру Божию, пока не знаю. Нужно думать, а неохота. Да деваться некуда, придется.
Почитаю…
Я разволновался. Вдруг подумал, что кино наше (большая часть фильмов, во всяком случае) никаких усилий, затрат нравственных не требует от зрителей. Заплатил 30 копеек и смотри себе. Оттого и титров никто не читает, что никогда не понадобится зрителю вспомнить, кто делал картину, вспомнить для того, чтоб поразмыслить над ней, сопоставить с другими произведениями кино, да и литературы, оценить мысль, стиль режиссера, о чем-то поспорить… Зачем им это? Посмотрел и забыл, и пусть горит все огнем. Леность мысли от бедноты нравственной, от желания лишь простого развлечения, не больше.
А идет все от чудовищного извращения социальных отношений между людьми, да вообще извращения всех отношений человеческих.
Болельщик, бросающий бутылку со 106 ряда на стадионе имени Ленина, знает, что сейчас там, внизу, кто-то хватается за разбитую голову, и все, рядом с тем пострадавшим сидящие, будут оглядываться и кричать, но так никто и не узнает, что это сделал ОН… ОН, то есть его «Я». Самовыражение социалистической личности!..
Дайте же ему возможность заработать, дайте надежду на жизнь лучшую! Но реальную надежду! Его пичкают лозунгами и обязательствами, его мучают выдуманными праздниками, а ему всего-то «жить хочется получше»!
Ему вера нужна и надежда!
20. XII.72
Утро опять было солнечным и морозным. Сел писать для «Камчатского комсомольца». Вообще, в отношении этих материалов я стал циничен крайне. Просто компилирую все подряд без всякого зазрения совести.
Потом сел за сценарий. Мне он пока не ясен. Вернее, не ясен сам образ фильма, а от этого противно все крайне.
Но все же работал. Вообще, имел сегодня снова неприятный разговор с Хабаровском. Что-то не нравится мне вся эта организация…
А суетиться все-таки тут нечего. Нужно делать свое дело, и делать его так, чтобы каждый эпизод интересен был сам по себе, вне зависимости от монтажа. Нужно снять все красиво и изящно, а главное – самому чтоб было интересно! Сохранить бы это ощущение, и наплевать на остальное. В конце концов, что я теряю? Ну, не заплатят денег, ну и бог с ними. Что ж тут делать?
Короче говоря, день прошел в сомнениях, работе и самое главное – в ожидании бани. Да, сегодня обещали баню с паром… И она была! Это было изумительно. Какая-то «биологическая сказка»! Что-то происходит с человеком в бане. Когда горячий пар обжигает все тело, ломает его, и блаженное чувство разливается по всем костям и мышцам, и какой-то тяжелый становишься, но блаженство полное… Постирались, это тоже приятно.
Потом пришли домой ужинать, но я почти не ужинал и не стал даже пить ничего. Это тоже приятно.
Думать, думать нужно о картине, и почитать нужно, конечно.
21, 22.XII.72
Два дня ничего не писал. Да ничего особенного и не происходило. Работали.
Весь день провел дома. Никуда не ходили и только вечером смотрели ужасную шнягу под названием «Путина».
По поводу несколько гриппозного состояния выпили спирту. Весь ужин из радиоприемника лилась речь Брежнева. Ни одной новой мысли, и все же утром она была названа глубоким исследованием международного положения, этапом и так далее. Просто «голый король» какой-то.

Леонид Ильич Брежнев на трибуне
Спали плохо, ибо в 3 ночи раздался телефонный звонок, который заливался потом непрерывно полтора часа. Но никто не хотел встать и его заткнуть, было лень. Хороша ситуация – четыре идиота лежат среди ночи с закрытыми глазами и делают вид, что спят, хотя не спит никто. И во всю глотку орет перемкнувший телефон.
Кончилось тем, что Зорий все-таки поднялся и сходил, чтобы поднять и снова шлепнуть трубку на рычажки, но по пути к телефону в темноте разбил графин (кажется, нечаянно, хотя кто знает).
Проснулись все тоже разбитые. Но гимнастику сделали.
Опять работал. Весь день никаких событий не было. Вечером к нам зашли первый секретарь райкома и предрайисполкома. Посидели, поговорили. К концу разговор стал почти уже непринужденным.
Весь ужин из радиоприемника лилась речь Брежнева. Ни одной новой мысли, и все же утром она была названа глубоким исследованием международного положения. Просто «голый король» какой-то.
Первый секретарь – Орешкин – эдакое волжское чувырло, но мужик симпатичный и, что приятно, довольно начитанный. К тому же член Союза журналистов. Поговорили, и они ушли, договорились завтра выехать вместе на природу.
Затем мы отправились в клуб, где шел местный, тигильский, КВН. Это странное зрелище. Телевизоров тут нет, так что игра идет «вслепую», то есть люди играют, совершенно не представляя себе, что это за игра. Ведущий задает вопрос, а тот, кто должен ответить остроумно и находчиво, отвечает на полном серьезе, так что смысл игры потерян начисто.
Еще, что странно, в одной из команд было много каких-то молодящихся, но явно не молодых мужичков. Один – с протезом вместо руки, другой – этакий заведомо-ершистый, «душа общества», ну, полный мудак!..
Потом были танцы, и я даже потанцевал. Да, да, потанцевал с двумя девушками из столовой. Но кроме нас никто так и не вышел танцевать – все сидели по стенкам, краснея. Что ж, завтра нам рано вставать, и мы пошли спать.
Признаюсь, что от съеденных слив несколько пронесло. А жаль, можно было еще потанцевать, это приятно.
23. XII.72
Вот и состоялся наш раут с секретарями райкомов. Утром они заехали за нами на трех машинах. Поехали на рыбалку и на шашлыки. Мороз был за –30°. Очень холодно. Очень!.. Приехали на реку. Они начали ловить, мы занялись костром.
Подробности описывать не буду. Напился я ужасно. Не ел ведь ничего. Помню, пили и ловили рыбу. Боролись между собой на снегу. Потом какие-то провалы. И вспышки: почему-то рыба стала ловиться вдруг со страшной силой, не успевали закидывать!.. Опять боролись, и опять пили и танцевали. Мороз, солнце, лед!..
После этого поехали к Косыгину – зампреду райисполкома (просто однофамилец Володи). Там чистили рыбу. Это совсем плохо помню. Володю, кажется, уже занесли… Потом на улице рычал на меня ужасно и лаял большой пес. Кончилось тем, что я залез к нему в будку и мы с ним целовались…
Ели уху и жареную рыбу, и бруснику в сахаре и пили водку. Я снова обрабатывал секретаря, а третьему, тому, что по идеологии, что-то такое сказал, что он домой убежал – то ли обиделся, то ли еще что?
А первому я, кажется, рассказывал все больше об искусстве, но в целом, конечно, кто ж знает, чем я его просветил. Ох, хоть бы Бог дал, чтоб все это нормально закончилось.
На реке я отморозил себе обе руки, и Зорий оттирал их мне спиртом. Выручил!..
Пришли домой. Я сел на пол и уснул. В общем, кошмар.
Спал, естественно, плохо. Но какой-то пронзительный кадр снился мне несколько раз за ночь. Это было очень чувственно, просто прекрасно. Но, видимо, нужно сначала сказать об ощущении, которое возникло прежде, чем этот кадр приснился.
Мне приснилась Танечка. Она была беременна и сказала удивительную фразу – точно не помню, то ли по телефону, то ли еще как… Ах да! Она будто работает кассиршей в каком-то универмаге, и ее спрашивают, кажется, по телефону: мол, что же она бросила свою работу? А она заулыбалась так замечательно и сказала: «Не-е-ет, я теперь для этого тяжела».
Дальше было еще что-то… А я почему-то все пытался ей сказать, что не женюсь на ней… А кадр, о котором я говорил, который несколько раз снился, и, как только я видел его, сразу становилось пронзительно хорошо, такой.
…Будто бы огромный балкон, на котором множество столиков и стульев. Столики плетеные. И все пустые. Солнце светит, и сильный, теплый дует ветер, а в самом конце, далеко-далеко от меня, спиной ко мне сидит Танечка, и напротив нее Ира Печерникова, и они тихо о чем-то говорят, видимо, о беременности. Улыбаются тихо и нежно друг другу, и теплый ветер треплет их волосы. Изумительное ощущение у меня было – радость меня заполняла всего, тоже тихая. И сам день тихий, как осенью ранней бывает, когда солнце белое.
Вот и теперь этот кадр стоит перед глазами… О, Господи! Помоги мне выразить ту чувственную удивительную жизнь, которая переполняет меня. Помоги, Господи!..
Встал – «головонька бо-бо, денюжки тю-тю». Теперь нужно переболеть и работать. Работать. То и дело в голову вплывают мысли о самом важном своем, режиссерском, деле и вообще обо всем, что дорого. Гоню, гоню мысли эти прочь. С ними тяжело. И не знаешь, когда же день тот наступит, когда все это вновь встретит меня.
Смешно – Вовка, нарезамшись, подошел к Зорию и сказал: «Папочка, сделай так, чтобы я стихи почитал», на что Зорий, который озверел от нашего пьянства, в ответ заткнул ему рот пипифаксом.
Да, совершенно неожиданно сегодня выяснил, что у меня отморожено ухо. Оно стало огромно и в громадном волдыре.
Ели уху, пришел Орешкин. Чуть-чуть выпили, поговорили… Потом я сел работать, ребята поспали. Вечером пошли в кино.
Смотрели фильм моего однокурсника Васи Брескану. Удивительно вялая и беспомощная лента. Ученическое сцепление множества ничего не говорящих кадров. Смотреть все это было грустно.
Вернулись, еще поработал. Трудно, но приятно.
25. XII.72
Утром узнали, что операторы уже в пути и будут здесь завтра. Но завтра утром мы должны выехать на собаках в Седанку. Значит, будем ждать их там.
Весь день работал. Мучительно работать. Все будто заново, с самого начала. Трудно. Вымучиваю из себя все…
Вечером выступал в университете культуры… Стою на сцене, выступаю, а мысли по-прежнему вертятся вокруг будущего фильма.
А эти зрители в зале! Вялые, не любознательные. Уровень грустный. Потому и выступать трудно очень.
Пришел, записывал сценарий. Потом собирались. Завтра попытаемся добраться на собаках до Седанки.
26. XII.72
С утра за нами приехали на собаках каюры. Все «в дупель». Понять ни слова невозможно. Единственная фраза: «Ох, русские лю-юди! Великие лю-юди!..» Одного мы вообще найти не смогли.
Собирались долго. Каюры все говорили «великие лю-юди» и просили выпить. Погрузились, нашли брошенную четвертым нарту и ее забрали.

Камчатские каюры в пути
С утра за нами приехали на собаках каюры. Все «в дупель». Единственная фраза: «Ох, русские лю-юди! Великие лю-юди!..» Одного мы вообще найти не смогли.
Поехали. Это удивительное ощущение, когда собачки бегут и длинная легкая нарта летит за ними птицей. Мой каюр, хоть не просыхал, все время просил водки. У меня водки не было.
Два раза перевернулись. Потом, через некоторое время, остановились отдохнуть, и неожиданно появилась бутылка. Каюры выпили ее мгновенно – прямо из горла, заели снегом, и в дороге все поотключались.
Мой всю дорогу пел, бормотал по-своему, и от него почему-то пахло яблоками. Наконец он отключился, и пришлось «каюрить» мне, хотя я этого никогда прежде не делал. На крутом спуске мы чуть не понеслись со свистом, чуть не передавили собак, но обошлось, кажется.
Ехали пять часов и добрались наконец. Деревня «в дупель» вся. Оказывается, привезли в магазин к Новому году выпивку. Все прохожие на улице шатаются – и мужики, и бабы… Вечером должны мы выступать. Пришли в клуб, а там пьяный зал. Причем пьяны все!..
Володя читает со сцены, а в зале – кто-то входит, кто-то выходит. Кто-то ругается, дети малые плачут. Пьяная женщина стала выходить – упала на пороге.
Потом выступал я. Как раз все вроде бы расселись, успокоились и смотрят тихо, удивительно… Потом был концерт художественной самодеятельности. Вот это замечательно! Трогательно и талантливо.
Уже поздним вечером пошли спать. Холод был страшный. Всю ночь трясся.
27. XII.72
Утром наконец-то прилетели операторы. Наконец собрались мы все вместе и полетели в табун. (Деревня с утра уже «в порядке», пьяны все.)
Прилетели. До этого куплено было 15 бутылок водки. Юрта. Оленеводы. Четыре пастуха и две чумработницы. Старшему 53 года, младшему 19. Оленье стадо – 800 голов.
Снимать начали сразу. Снимаем, а ощущение ужасное. Говно снимаем. Чувствую. Мандраж страшный. Свет плохой. Но снимали.
Настроение поганое от всего этого. Пришли в чум, завернулись в пологи. С мороза глаза режет дым, костер в чуме горит. Забили оленя – и чумработницы сварили мясо. Похлебку ели, на шкурах сидели. Водку пили. Здесь на водку у всех нюх сумасшедший, чуть водкой запахло – все тут как тут.
Поели и посмотрели кино. Чудно все это! В полуметре от нас минус 30°, сидим в пологах, экран висит, смотрим «Песнь о Маншук», а потом «Секретную миссию» Ромма. Странно все это и удивительно. Если б еще настроение хорошее было, а то все как-то муторно.
Спать легли поздно. Забрались в кукули, но дышать трудно, угар большой. Уснул уже к утру, но все же. Встали, когда было совсем светло.
28. XII.72
Начали снимать. Все несколько определенней, но все же – самодеятельность. Конечно, поснимали разное, но все опять не то. Оператор перестраховывается от своей неталантливости. Он трусит, а я и сам боюсь, мне поддержка нужна.
Наконец он сказал, что снимать больше нельзя, будто бы «дырки» не хватает, а я чувствую нутром – можно снимать, можно! И красиво все будет, и тень эта нужна, и именно в этом «сыр» – то весь!.. Но спорить мне трудно, что я знаю про это изображение?
Все-таки снимали. Трудно! И опять один! Один! На студии (даже Хабаровской) все то же ко мне отношение, а уж в Комитете и не говорю. Ох, как нужно не обосраться! Ох, сделать бы картину! Но такую, за которую не стыдно.
После работы пришли опять в чум. Злой я был ужасно. Даже не знаю и на что, но злой. Это-то и плохо, и обидно. Инфантильность.
Снимать нужно. Молча, сжав зубы, биться и делать дело. Работать и молчать, и просто уверенным быть в том, что ты прав, в том, что все идет как нужно, что не должно быть по-другому. Помоги, Господи!
29, 30.XII.72
Два дня не писал ничего. Снимали оленей, снимали пастухов. Потом пытались снять упряжки оленьи. Было плохо.
К вечеру прибыли на собаках в Седанку. Разгрузились. В табуне у нас было 15 бутылок водки, но такое количество было ртов, что все разлетелось моментально.
Приехали, сели обедать. Выпили. Зорий говорил по телефону с Тигилем – нам сообщили, что от Тяжельникова (первый секретарь ЦК комсомола) получена поздравительная телеграмма. Это важно.
Потом был разговор с оператором Геной Лысяковым и его группой. Поговорили резко, но полезно, кажется. Я ему сказал, что «работы не бей лежачего» не будет, что снимать нужно с первого дубля и наверняка. Словом – поговорили. Но и выпили потом изрядно. В результате оказался я у Нади Васиной, у которой и проснулся, но… этому предшествовало странное событие.
К нам пришла некая девушка «под неким градусом» и сказала, что есть тонкая кухлянка из летнего оленя у ее подруги Нади. Мы пошли посмотреть. Там тоже, естественно, выпили, и я решил почему-то у Нади остаться.
Но вот Наташа (так звали приведшую меня к Наде девушку) совершенно твердо намерена была оттуда увести меня с собой. Но она уже была «в порядке», а я чего-то все не уходил. Тогда Наташа что-то нехорошее сказала Наде, на что Надя со страшной силой врезала Наташе в глаз. Наташа рухнула, но тут же вскочила и бросилась бежать, но Надя успела ухватить ее за воротник – да так цепко, что в руках ее осталось полшубы. Ровно половина! А Наташа оказалась только в рукавах и в ночной рубашке, которая была прямо под шубой…
Я вышел за ней и сказал, что все это по меньшей мере странно и я прошу ее вернуться и попить со мной и Надей чаю. Наташа послушалась меня и вернулась, но на пороге ее ждал еще один страшенный удар в челюсть. На этом все закончилось. Кошмар!
Утром за мной пришел Володя – сообщил, что за нами летит самолет. Я собрался, но тут началась пурга, и мы просидели весь день, прождали самолета, прояснения. Впрочем, за это время мы опохмелились слегка, отобедали и даже отправились в баню. В самый разгар мытья погас свет, и мы домывались в полной темноте.
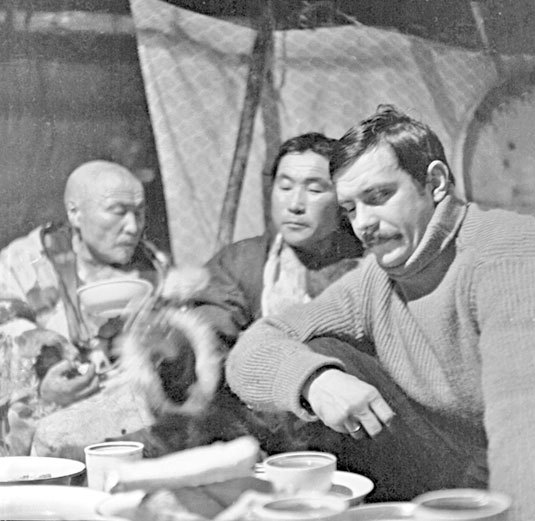
В яранге
Вечером сидели, разговаривали. Я рассказывал Володе наметки сценария о коряках. Этот сценарий должен быть чуть-чуть приподнят, чуть «на котурнах» и через легенду. Там может быть хороший эпизод о человеке, который захотел убежать в тундру от самого себя. Все ему надоело, и сам он себе надоел. Побежал в тундру и бежал два дня. А потом заблудился и вернулся только через десять дней к тем, от кого убежал.
– Что ж вы, даже про меня не вспоминали?!.. (И так далее.)
Уже совсем в ночи пришел какой-то юноша с гитарой – сел, на колено приладил гитару и… тут же уснул.
Вообще, Седанка – нечто сюрреалистическое. У магазина целый день сидят коряки на корточках и ждут любого, кто может им купить за их же деньги бутылку, так как им уже не продают в магазине ничего спиртного.
31. XII.72
Сегодня Новый год, и в магазине корякам продают спиртное.
Надо сказать, в новогодний праздник здесь положено всем жителям деревень (то есть буквально всем – включая грудных детей и глубоких стариков) по бутылке водки, бутылке пива, далее следуют бутылки вина белого и вина красного, коньяк и шампанское. Поэтому являются коряки к раздаче целыми семьями, и грудничков несут (им тоже полагается).
Давка адская. Они покупают бутылку, высасывают ее «из горла» и снова становятся в очередь.
За нами вышел ГТТ. Посмотрим, сможет ли он пробиться сквозь пургу и заносы.
……………………………………………..
Пишу спустя два дня. Дни эти были полны неожиданностей и впечатлений.
Пока ждали ГТТ, в магазине приключилась еще одна сюрная история. Какой-то человек решил попытаться завладеть лишней бутылкой без очереди. Человек этот был уже «под газом» и в летах. Так вот, только он собрался пробиться сквозь очередь с вполне уместной здесь фразой «е…ть», но ничего у него не вышло, и фразу эту он не договорил. Она так и осталась незавершена, так как у старика этого вырвали вставную челюсть и выбросили в сугроб, где он и провел остаток старого года. Сначала пытаясь найти челюсть, а потом отдыхая от поисков.
Володя Косыгин ушел в гости и пропал. Пришел ГТТ, а Володи нет. Появился он только перед самым отъездом, влюбленный и бухой. Уже из ГТТ он прощался с полупьяными жителями Седанки (равно и с теми ее жителями, что уже были «в дупель»). Прощался он с ними, как А. Ф. Керенский, воздев руки: «Люди мои! До свидания!»
Володя проснулся ночью, с ужасом увидел наши застеленные кровати и вдруг понял, что Новый год он потерял. Володя закричал: «Нас предали!» – и так зарыдал, что все, кто в доме спал, проснулись.
Наконец поехали! Пурга была ужасная. Пробивались 27 км четыре часа, но все же доехали. Было 7 часов вечера 31 декабря. Нужно было подумать о Новом годе.
Нам сказали, что в столовой готов ужин, и мы туда пошли. Уже все было накрыто, стояли вино и коньяк, который, как ни старались мы дотерпеть до полуночи, все же начали уничтожать. Володя сразу лихо загулял, и мы приняли решение поскорей допоить его и уложить спать, так как нас пригласили к себе в гости геологи, а с Каянтой идти было уже никуда невозможно…
Пришли домой, но до этого, еще в столовой, я сказал вполне пророческую фразу. Когда Володя поднял очередную рюмку и всем стало ясно, что она лишняя, я сказал ему: «Володя, до завтра». Впрочем, это предсказание было несколько неточным, нужно было сказать: «До послезавтра».
Придя домой, мы дали поэту еще коньяку, но он все никак не «ломался», а было уже 10 часов. Наконец мы поняли, что он «готов», и, уложив его, тихо ушли… Дальше было все странно. Оставив ребят в клубе, я отправился к геологам, дабы узнать, где они живут, и привести потом ребят. Пурга мела жуткая. Но мы дошли до места, и я сразу двинулся в обратный путь – за ребятами. Нужно было торопиться, ибо ходу до них было где-то полчаса.
Из клуба я шел уже с хорошенькой девушкой Надей, которая работала в столовой и похожа на Ольгу Бган… Наконец-то мы все у геологов. Быстро нарезались, встретили Новый год, потанцевали и вернулись в клуб. Геологи должны были, бедные, обалдеть от нашей наглости: пришли 11 человек, все выпили, съели, наговорили тостов и ушли. Кошмар!
Вернулись в клуб. Там уже народу – тьма. Все «в поряде», естественно. Я и сам уже чувствовал себя не очень уверенно. Отношения выясняли на каждом шагу… Дальше – все как в тумане. Снова – в гости, куда лезли в гору час по ужасной пурге. Там снова ждало много выпивки, и помню только, что какой-то паренек по имени Женя, когда-то служивший на флоте, поднял тост за тех, кто в море, и рухнул, сломав одновременно две гитары.
Да! – до этого с летчиками пили в котельной водку и заедали конфетами…

Корякские дети
Домой я попал около восьми утра. За это время случилось еще две истории: одна трогательная, другая страшная.
Володя проснулся ночью, с ужасом увидел наши застеленные кровати и вдруг понял, что Новый год он потерял. Володя закричал: «Нас предали!» – и так завыл и зарыдал, что все, кто в доме спал, проснулись. Как же он плакал, бедняга!..
Другая история такая. Десять детей из интерната в Усть-Хайрюзово решили добраться до дома в Белоголовой к Новому году. Это 30 км. Их обычно на машинах отправляют, но на этот раз – пурга. Дети же решили пойти сами, да в первый раз их вернули. Однако все-таки они сумели убежать – 4 мальчика и 6 девочек.
Все, кроме троих, погибли. Замело пургой, замерзли. Ужасно.
Первое число началось для меня где-то в 12 дня. Словом, «поехали». Поросенок, летчики и так далее. Часа в три зашел к подружке Наде в столовую…
Кроме Надежды, никого в столовой не было. Шипит что-то на сковороде, солнце косыми лучами в окна, и мы с ней целуемся на кухне… Но потом пришел рабочий Саша (когда-то он сюда приехал из Одессы, вернее, его привезли на отсидку за грабеж, и он, отсидев, тут остался), и я послал его за водкой. Он сходил, и мы с ним чудно посидели в пустой столовой – ели приготовленную Надей яичницу, пили водку, он рассказывал то про Одессу, то про тюрьму, а Надя тихо смотрела на нас из окошка раздачи и слушала. Саше этому 47 лет, он сед и красив лицом.
Потом я назначил Наде свидание, ушел домой, лег спать и преспокойно свидание наше проспал.
2. I.73
Забыл написать, что Володя и первое число нового года умудрился где-то «потерять». Сегодня он тих и молчалив, да еще подавлен трагической гибелью детей. Все они коряки.
Озимов не разрешил снимать мне фильм после похода…
Хотели лететь, но погоды нет.
Пообедали. Головонька «бо-бо». К вечеру полегчало, да еще смотрели изумительную картину Барнета 1927 года «Девушка с коробкой». Как же это здорово! Трогательно и талантливо, умно и точно. Плакал я ужасно от удовольствия.

Кадр из фильма «Девушка с коробкой» (1927)
Зашел потом в гости к Колоскову Жене – тому самому, что раньше моряком служил, а вчера под стол рухнул. Потом работал.
3, 4, 5.I.73
Вот и нужно улетать из Тигиля. Мороз градусов 35. Холодно ужасно, но день яркий и солнечный.
Погрузились и приехали на аэродром. «Ан-2», на котором мы должны были лететь, никак не заводился. Уже все самолеты, что были в Тигиле, улетели. Остались только мы. Час от часу становилось все холоднее, и мы замерзли очень. Часа через три наш самолет все же завелся, но летчик, чистивший стекла кабины, одно стекло ногой раздавил! С горем пополам залепили фанерой и пластырем.
Когда самолет разогрелся и попытался сдвинуться с места, у него это не получилось. Лыжи примерзли к насту. Бортмеханик вытащил из самолета огромную кувалду и стал колотить по лыжам. Наконец с трудом машина стронулась.
Сели, вырулили на полосу, но развернуться не удалось. Второй пилот попросил нас выйти и держать правое крыло – для того, чтобы самолет развернулся влево. Я выскочил, и меня тут же снесло ветром. От винта мело чудовищно…
Мы уперлись в крыло. Командир дал газ, самолет рванулся, и нас повалило крылом… Такого холода я еще никогда не испытывал, пальцы онемели начисто. Опять уперлись и опять повалились. С огромным трудом все же удалось развернуться.
Опять забрались в самолет, уже ног и рук не чуя. Взлетели… Эта железная коробка не отапливается вовсе и отогреться не удалось. Единственное, что я сумел сделать, – растереть руки и засунуть их в конайты (штаны из меха).
Прилетели в Палану. Холодно там так же. У самолета устроили митинг с пионерами. О, Господи! Какой-то человек толкал речь «о великом походе». Я тогда подумал, что вся эта сеть, которая опутывает наше государство, состоит из таких вот людей, многие из которых… счастливы. Да, именно счастливы. Ведь у них есть вера. Вера в то, что «там, наверху» все решат, что там «поумнее нас», и эта вера помогает им жить с чистой совестью. А ведь это счастье.
Поехали в гостиницу, пообедали, потом зашли к Толстых, которого мы уже знали по прошлому мимолетному визиту. Честно говоря, мы много надежд возлагали на эту встречу. Все же пили вместе, да еще так, что чуть не удушили его в собственной постели.
Но все получилось наоборот. Толстых встретил нас суетливо, но холодно. Он постоянно был в окружении своих подчиненных, ни на секунду не оставался с нами без них. И странное дело: как только мы собирались начать разговор, в кабинете у него сразу оказывалась целая толпа людей.
Он нас боялся. Он боялся, что его незавидное на тот момент положение как-то будет нами использовано. Суетливое говно.
От винта мело чудовищно… Мы уперлись в крыло. Командир дал газ, самолет рванулся, и нас повалило крылом…
Вечером были в кино, смотрели ужасную херовину, да еще румынскую. А потом была баня, но… выяснилось, что пара нет. А мы-то готовились. Водочки взяли, крабов, томаты.
Был банный день для женщин, поэтому мы пришли в баню после закрытия – в 9.30. Сначала не хотели и идти, но нужно было постираться и вообще – настроились.
Пришли. Баня пустая, грязная и холодная, с прилипшими к полу мокрыми газетами… До чего же смешно выглядят голые мужики, которые пьют в холодной бане водку и закусывают ее крабами.
Помылись, посидели и пошли спать.
Утром хотели снимать, но погода снова изменилась, пришел циклон. Стало сыро и снежно, и ветрено. Снимать нельзя. Да и неохота.
Вечером было наше выступление. А перед ним – ужасный «спектакль», с речью Толстых и опять с пионерами, с выступлением старожила, который говорил так долго, что стало страшно. Потом выступали мы… Вообще, я пришел к выводу, что любое художественное дело в нашей стране может быть возведено в ранг «государственной важности» и умерщвлено. При этом на него будут тратиться немалые деньги, а в его необходимости никто не посмеет усомниться. Ох, и земелька моя замечательная!
Потом пришли домой. Долго разговаривали.
Пришел Женя и рассказал смешную историю. Он был у какой-то женщины, у которой муж работает истопником, хотя закончил ГИТИС. Кроме него в той котельной работают еще два истопника, отапливают они и райком, и райисполком, и окружком. Так вот, второй окончил одесскую духовную семинарию, а третий – ВПШ. Идеолог у них – семинарист, окончивший ВПШ бегает за водкой, а кончивший ГИТИС – больше всех на эту водку налегает. Гениальная компания.
Сегодня утром поехали снимать. Погода ужасная. Снимали говно. Устали. Вечером выступление в какой-то школе, мать ее…
Надоело!
Выступали. Жалкое зрелище. Не школа, оказывается, а училище, где готовят пошивщиков меховых изделий и пастухов. В это училище принимают с любым количеством классов. Много ребят из детприемников, из колоний. Собрали их в сером, темном спортзале. Угрюмые лица – замкнутые люди. Было как-то не по себе. Но все же мы выступили.
Подумалось, что единственная возможность заставить людей жить вот так и считать это жизнью – полностью изолировать их от мира. Отсутствие информации абсолютно необходимо в борьбе со свободомыслием. А еще в этой борьбе неизбежна великая и беспрерывная ложь, которая льется из наших радиоприемников и со страниц многомиллионных тиражей газет, журналов… И праздники! Вечные праздники – допинги, без которых уже никто жить не может. Без них и этого вечного бодрого молодечества тонущего в говне мудака, который усиленно делает вид, что ковыряет в зубах после сытного обеда.
До чего же все это обидно. Но это – с одной стороны. А с другой – такое зло берет, такая ненависть ко всем идиотам и негодяям, которые других идиотов и негодяев растят.
После выступления пришел домой. Легли спать.
6, 7, 8.I.73
День начался спокойно. Было морозно и солнечно. Пошли снимать в детский сад. Поснимали, потом обедали.
Прилетел из Питера директор фильма. Красавец и zero полное, в смысле работы. Сообщил то, что я уже и так знал, – что командование разрешило мне снимать, но только во время похода, не дольше. Студия подыскивает другого режиссера. Я не против. Ссориться с командованием сейчас – самое глупое, что может быть. Позвонил в часть. Мишланов на «губе» – «встретил Новый год». Бедняга. Вечером должны идти к Володе домой – в гости. Он давно и трогательно к этому готовился.
Вот мы и пришли к нему. Все трогательно и приятно. Володя – взволнованный и хозяйственный, его жена – большая русская женщина по имени Фая, дети – Лена, ей 14 лет, и Андрей, ему 9. Андрей рисует, Лена учится в музыкальной школе.
Стол ломился от яств. Володя с вечно расстегнутой ширинкой деловито все устраивал, и было это странным для наших глаз. Трезвый, серьезный хозяин, отец, муж. Чудно.
Дети Володи очень милые. Андрей – молчаливый мальчик с удивленными глазами и задумчивым лицом человека, у которого есть о чем подумать, у которого есть свой мир, интересный и большой. Лена же очень общительна и разговорчива, хотя не болтлива. Говорит толково, коротко, но что более всего меня поразило – то, что она хорошо играет на рояле. Казалось бы, я давно знаю этих детей, которые учатся в музыкальных школах, и, едва соберутся гости, начинают музицировать, а умиленные родители обводят всех масляными глазами. Но сейчас…
Лена играла «Лунную сонату», а потом Глинку – «Вариации на соловья» Алябьева. Володя сидел мрачный и слушал. И все это было удивительно приятно, так как Лена играла действительно хорошо. А начала она очень просто – подошла к роялю и сказала: «Хотите, я вам сыграю?»… Прекрасно это было. Потом Андрей показывал свои рисунки…
Видимо, со стороны можно было подумать, что вечер не удался. Не было шумных разговоров, смеха, трепотни, на вид было довольно даже скучно, но была наполненность какая-то удивительная. Все это чувствовал каждый. Я увидел на полке Чехова и, сняв один из томов, прочел «Скрипку Ротшильда». Хорошо прочел. Даже сам удивился. Все потом долго молчали.
Конечно же, затем все несколько «нарезались» (кроме Володи, он был трезв как стекло), начались неизбежные споры… Ушли мы домой часов в десять.
Мороз был адский: –33° с северным ветром. Самолет прилетел, и мотор его замерз моментально.
В гостинице меня поймал директор столовой, Володя. Затащил к себе. Там уже сидели: врач-бактериолог Женя, симпатичная женщина Нелли и жена Володи Нина, чудовищно наглая еврейка. Безвкусная, пошлая и шепелявая. Она все говорила о Москве и о том, как здесь «на кгаю света» ужасно, но что она «вопгеки всему» счастливая, так как знает, что они с Вовиком свое возьмут. На коленях у нее сидела такая же отвратительная, как и она сама, кошка. Нина ее гладила, а Вовик – красивый и стройный русский мудак по фамилии Федулов – все улыбался пьяно, и ему казалось, что жена его безмерно обаятельна. Она же отвешивала ему подзатыльники, щипала, дергала… Вот на такой Нине жениться, на Зархи (дочь известного кинорежиссера А. Г. Зархи. – Современный комментарий автора) … пронеси, Господи!
Когда все было выпито, Володя вскрыл свою столовую и принес бутылку коньяку. Причем, когда он взламывал буфет, сработала сигнализация, вмиг приехала милиция, и его забрали. Правда, быстро выпустили… Все это было несколько странно, впрочем, кажется, мне одному.
Женя рассказал ужасную историю. Дело было в августе. В больницу прибежал человек и сообщил, что в 35 км отсюда, в табуне, корячка рожает двойню и истекает кровью. Тогда дежурил Женя, но он не был акушером. Побежали в полночь к акушеру. Вертолета нет, вернее, есть, но туман – ни зги не видно. Добираться нечем. И вот – два человека ночью по тундре бежали (!) 35 км. До места добежали они около 4 часов утра. Женщина умирала… Падающий с ног врач сделал все, что мог. И дети, и женщина были спасены.
Несколько месяцев растила женщина своих детей, которые у нее уже были не первыми. Всего, кажется, у нее было пятеро уже. Так вот, растила она своих близнецов, растила… а потом взяла и удушила их подушкой! С ума сойти!..
А каково было этому доктору?! Каково же ему-то? 35 км бежал он, чтобы спасти эту женщину и ее детей. А она сама их задушила.
……………………………………………..
Утром нам сообщили, что за нами вылетел самолет, чтобы перевезти в Тиличики.
Мороз был адский: –33° с северным ветром. Самолет прилетел, и мотор его замерз моментально. Когда мы приехали в аэропорт, летчики матюгались страшно. Два часа мы мучились – толкали огромный «Ли-2» по летному полю к печкам, которые могли отогреть двигатель. Толкаем самолет, а щеки белеют у всех на ветру, только успеваем оттирать их, холодно ужасно… Наконец взлетели. Долго не могли согреться.

Самолет «Ли-2» на Камчатке
Сели в Оссоре заправиться. Зашли в столовую, пообедали. Темно уже было, в столовой пусто, но много сидело баб – поварих, буфетчиц. Когда мы вошли – толпа голодных мужиков, бабы эти начали громко разговаривать, хохотать и так далее. Как же им там скучно! Пока мы ели, они все смеялись и острили. Мы ушли, а я вернулся – забыл рукавицы там. Вернулся – тихо бабы сидят, молчат, тоска и одиночество.
Прилетели в Корф. Холод. Ветер. Засранный, грязный, Богом забытый, кошмарный поселок.
Никто не встретил. Аэропорт такой замызганный, что страшно смотреть. Устроились в гостинице, в которой пахло какой-то ужасной жареной рыбой. Я чувствовал себя простуженным. Принял аспирин, выпил чаю, лег спать.
Снился Степа. Тоскливо и грустно.
* * *
Я видел этот засранный поселок Корф и не верю больше в «завораживающую» камчатскую природу. Все это ерунда. Людей здесь держат деньги. Только деньги. Раз уж люди здесь живут. Да это и понятно. Порт, рыбокомбинат. Тут не до лирики – только работать. Вкалывать. До потери пульса упираться рогом…
Выходя из дома вечером, если видно звезды, нахожу Большую Медведицу и смотрю на нее долго. Даже не знаю, почему так. Может быть, потому, что и там, на материке, она же мне мерцала по ночам.
9. I.73
Итак, началось! Утром на аэродроме в Корфе было –26° с ветром, ужасно. Нос мне прихватило в течение 10 минут, пока грузились в самолет до Хаилино, где мы должны попасть на совещание оленеводов и еще успеть поснимать ярмарку. В «Ли-2» холод был тоже адский, но в Хаилино и вовсе оказалось –55° мороза. Это всего в 30 минутах лета!
Над селом пар стоит от холода. Густой туман. Пока шли через село, можно было околеть… Но ничего, в тепле оклемался чуть-чуть. Хожу, только замотав лицо шарфом.
Пообедали и отправились на совещание оленеводов. Зрелище замечательное. Оленеводы выступают, либо облокотившись на трибуну и подперев ладонью щеку, либо руки закинув за голову, – словом, от смущения и непосредственности они принимают самые невероятные позы, которые и представить прежде я не мог у человека, стоящего за трибуной с гербом. Говорят в основном на своем языке, обращаясь почему-то только к председателю, который, кстати, ничего не понимает, поскольку он – кореец! Остальное начальство – все русские. Эти тоже ничего не понимают. Переводчик потом все переводит, но изъясняется по-русски так, что и его понять довольно сложно.
Но скоро становится ясно одно: говорят оленеводы открыто, прямо и все, что необходимо. Ни одного лишнего слова, ни одного лозунга. А как их боится начальство! Как оно перед ними заискивает! Еще бы! Оленевод ведь что хочет может сказать. И ничего ему не сделаешь. Вот возьмет он и продаст в соседний район 1500 голов, а скажет, что отбились. А пойди проверь! У начальства здесь одна задача: не дать им напиться до совещания и выпроводить поскорей обратно. Все!
Если бы так же разговаривали с нами! Да куда там! Оленеводу терять нечего: кроме тундры ничего у него нет. А у нас-то есть. Оленевода уже никуда не сошлешь. Дальше – Аляска. А нас есть куда – в оленеводы. Словом, удовольствие большое получил я от этого совещания.
Завтра, чувствую, адская будет съемка на морозе –50°. Как работать? Ума не приложу.
10. I.73
Это было ледовое побоище! На улице –55 °C. Ресницы примерзают одна к другой. Дышать трудно. Вокруг туман, вернее – пар… Первое, что мы снимали на ярмарке, – гонки оленей. (С утра выяснилось, что второй оператор, Валера, заболел – температура 38, киношное счастье.) Кассеты останавливаются из-за того, что ломается пленка на таком морозе. Время от времени ветерок разгонял пар, и тогда проглядывало солнце…
Все сумбур. Снимать можно три часа, потом темно. Снегу по пояс, бегали, высунув язык. У оператора руки примерзали к камере, и приходилось их оттирать. Совершенно белые пятна на ладонях. Словом, ледовое побоище.
…Коряки шарф носят на шее, перехватив его кусочком кожаного ремня под подбородком. Это красиво.
Володя стал орать ужасно, что это его Корякия, что он «великие люди», что мы – русские свиньи, что он всех ебал…
Под конец я уже не помнил, что снято и что еще нужно снимать. Руки опухли, на усах выросли сосульки до подбородка. Опушка малахая совершенно седая. Просто «война»! Не знаю, что из всего этого получится. Все вслепую!
Подумалось о хорошей истории. Русский интеллигент молодой в чуме у пастухов-оленеводов. Как он их постепенно постигает, а они его. Там может быть и любовь большая…
Снимал мальчика корякского – Ванюшу. Смышленый, хорошенький мальчик. Сниматься долго не хотел. Я его спросил:
– Ты что любишь?
– Что хочу.
– А что хочешь?
– Ничего.
Потом все же мы с ним подружились. Стал он сниматься. На морозе –55 °C…
Идем мы с Ваней в магазин после съемки за конфетами. Спрашиваю:
– Далеко магазин?
– Нет. Чуть-чуть близко. Два метра.
Долго идем. Виден уже край деревни.
– Далеко еще? – спрашиваю.
– Нет. Чуть-чуть близко. Один метр.
И снова идем и идем…
Вечером Володя напился. Как всегда, мы уложили его, но спать он не хотел, все порывался встать. Дали ему еще, как в Новый год… Но все-таки потом пришлось связать… Уснул он наконец.
«Корякам начали продавать водку!» – и пока этот слух нас достиг, все они уже в дупель. Шляются по гостинице, дверями хлопают, орут, матюгаются. Я лег в постель, стал читать и все думал, до чего же хорошо читать в комнате, а там пусть себе орут мудаки. Но не тут-то было. Проснулся Володя. К тому времени его уже развязали. Он проспал часов пять, но совершенно не протрезвел.
И тут началось. Я сказал ему сдуру, что он так себя вел, что его пришлось связать. Как он взбеленился, Господи! Стал орать ужасно, что это его Корякия, что он «великие люди», что мы – русские свиньи, что он всех е…л и т. п. Потом швырял ботинки и чуть не въехал мне в лобешник. Кошмар! Время от времени он виновато улыбался, и тогда казалось, что он совершенно трезв, но тут же начиналось все сначала. Я не выдержал. Ну, действительно: день адской работы на морозе и пьяная рожа теперь, ночью. Так вот, я не выдержал и въехал Володе по зубам, но так – профилактически. Не сильно. С этого момента началось три часа ада. Я сидел на Володе, а он орал и вырывался. Я и рад был бы отпустить его, да он либо замерзнет на улице, либо наделает чего и огребет, да уж не так, по-настоящему. Словом, это был кошмар. В конце концов Зорий отвел его к ребятам, где Володя уснул наконец…
Утром «поэт всея Корякии» попер было на нас, но я ему сказал, что если он будет еще так себя вести, его выгонят из Союза писателей СССР. Бедный, опухший, трясущийся, он притих и… заплакал. Как же он плакал ужасно!
В тот день мы улетели в Тиличики. Да, забыл, еще в Корфе посмотрели «Искатели приключений». Смешно это и странно – здесь, на Камчатке, в жутком морозе, смотреть Делона и Вентуру на корабле, в теплых волнах Адриатики! Едят дыни, пьют молочко кокосовое, разгуливают в джинсах. Картина – говно полное, но все равно приятно.
Итак, прилетели мы в Тиличики, устроились… Зорий заболел. Наверное, заразился от Валеры – вовсе слег.
Пообедали. Побрился, постригся – и вечером выступал. Впрочем, все это не важно. Важно, что тем же вечером мы посмотрели в кино «Ночи Кабирии»! Как это замечательно! Какой мир чудесный! Светлый и пронзительный. И как все это свободно, без натуги, легко и изящно! А как работает Мазина. Наполненно, и темперамент изумительный. Торпеда!.. И ни одного лишнего кадра.
Стиснув зубы, опять стал думать о своей картине. Как создать мир на экране?! Как на экран передать свой мир?!..
Ночью разговаривал с Пашей, с мамой. Долго потом не мог уснуть. Все ворочался, мучился чем-то. Лучше не думать ни о чем таком – тогда быстрее бежит время.
13. I.73
Утром погода испортилась. Снимать нельзя. Взяв ГТС, поехали в тундру – съесть мясо, которое вот уже десять дней возим с собой в ведре.

ГТС (гусеничный тягач средний) на Камчатке
Вернувшись, пошли в кинопрокат. Посмотрели двухсерийную ужасную херовину студии Дефа «Тени над Нотр Дам». Ужасно.
Рано пришли домой. Читал Бурсова.
Читаю его, читаю. Сколько мыслей удивительных в этой книге. Обязательно нужно найти «Философию общего дела» Федорова и Мережковского «Толстой и Достоевский».
14. I.73
С утра снимали. Вяло и не талантливо. Вернулись домой. Идет снег. Тепло. Пообедали. Я сел заканчивать статью для «Камчатского комсомольца»… Потом в прокате посмотрели венгерскую картину «Парни с площади». Очень мало было крупных планов. Это тенденциозно и раздражает. Все должно быть естественно в кинематографе.
Опять думал о мире, о манере преображения…
Прочел статью Толстых в «Комсомолке» и Андрона в «Искусстве кино». Заговорили о личности в искусстве. Об отношении художника к тому, что он изображает. Эх, хорошо бы, чтобы правдой все это было.
Прочел статью Ильенко (секретарь Союза кинематографистов СССР) об актере Миколайчуке… Почему так? Почему они все – герои своего народа? Отчего у нас нет героев таких? Или их не хочет народ? Или их не дают народу? Почему люди русские так ироничны? Или это от стыда идет? У нас будто бы нет открытого выражения чувства радости или любви. Это чувство либо вздрючено, накачано, либо нет его вообще! А чувства массы?.. – ненависть, бунт, либо желание «все и вся» поднять на смех, обидеть.
Идеал? Да какой там идеал, если к кинематографу, как и к любому искусству, народ относится, как к дармоедству и обману?
Ах ты, Господи! Что же делать-то?!
Буду читать Бурсова.
15. I.73
Мне что-то снилось, не припомню что, но проснулся я с чудесным ощущением… Казалось, скоро попаду домой.
Чем ближе к дембелю, тем трудней терпеть. Тем мучительнее все становится…
Володя нам рассказывает:
– …Я женщинам стихи читаю, пою им, танцую! Ребята сидят. А потом встают и уводят всех баб, которых я так долго охмурял! Предатели!..
Смотрели фильм Арипова «Тайна предков» – говно, но довольно культурно с точки зрения режиссуры. Или я уже совсем одичал?
Сегодня вспомнил смешную фразу Орешкина. Когда прощались на аэродроме, он сказал: «Мы вас любим, хотя и узнали». Этот афоризм был очень к месту.
Вчера вечером случилась смешная история. Вернулся Володя из гостей – чистый, трезвый, только ужасно расстроенный. Пошли они втроем к медичкам, Гена, Женя и он. И вот Володя нам рассказывает:
– …Я женщинам стихи читаю, пою им, танцую! Ребята сидят. А потом встают и уводят всех баб, которых я так долго охмурял! Главное, я знаю, что нравлюсь им я именно! Медички сами это говорят! А ребята берут – уводят и е…т их! Гады! Как это ужасно! Предатели!.. Ну, ничего. Вот я напьюсь и покажу им.
И ушел спать грустный.
Днем я решил позвонить в Москву Саше. Почему-то сначала решил, что телефон назвал ошибочный, и перезвонил, продиктовал другой и как раз ошибся. Попал к Фрумкину. Представляю, каково было его удивление! Услышать мой голос в 3 часа ночи, с Камчатки. Тем не менее, поговорили.
Все же потом я дозвонился до Саши. Как приятно слышать его голос и вообще узнавать от него разные новости.
От похода я несколько уже очумел, говоря честно. Как бы попасть в Москву, и поскорее?
……………………………………………..
Мне кажется, мало кто любит Достоевского по-настоящему, то есть не извлекая для себя той или иной мгновенной выгоды. Думается даже, что такие, как Илья Глазунов, любят Достоевского лишь потому, что находят в этом гении оправдание своей беспринципности и мелкости, которые им видятся теперь особой глубиной, той противоречивой сложностью и неустроенностью, которая была в этом «опасном гении».
16. I.73
Утром проснулся рано. Долго лежал в каком-то полузабытьи, ворочался, и вообще было как-то не по себе. Плохо и тоскливо.
Пришел ГТС, и ребята уехали в Корф. Мы с Зорием остались ждать следующего рейса… Когда наш ГТС подошел, быстро погрузились и поехали.
Я все думал о картине. О том, как передать тот мир, который я вижу… А может быть, он просто мне мерещится?.. Все дело в моей горячности и торопливости? В поверхностности моей великой?
А потом все думал, как удивительно важно и как трудно передать то самое – «красоту без пестроты». Ту сущую и настоящую жизнь человеческих отношений, облеченную в художественную форму. Причем не просто в «художественную форму» с точки зрения сюжетной коллизии, а в форму, отвечающую твоему миру, ту форму, в которой ты чувствуешь себя невероятно легко и свободно. Хочешь – направо, хочешь – налево, иди, куда хочешь! Когда возникает свобода единства всех живых частей твоей картины, и чувствовать такую свободу нужно всей кожей.
Но как этого добиться? Как к этому прийти?
Приехали в Корф. Остававшиеся здесь художники Юра и Боря «гудели по-черному». Спирт наш выпили дочиста.
Хочу домой! Надо бы уж!
Смотрел картину Самсона Самсонов «Арена». Это конец света! Темперамент адский, но направлен он куда-то… в полную жопу. Эти лошади, фашисты, Володина, все это… – с ума сойти!
Потом пили чай, и Володя рассказал, как он, напившись «в дупель», читал стихи лилипутам. Могу себе представить.
У Бурсова – интереснейшая мысль. Он утверждает, что Достоевский пришел к Тургеневу исповедаться в ужаснейшем грехе (растлении десятилетней девочки) только ради того, чтобы Тургенев, поверив, скомпрометировал свою философскую точку зрения. Достоевского раздражали принципы Тургенева, и он шел на все ради того, чтобы утвердиться в своей правоте. В себе самом.
17. I.73
Утром вылетели в Каменское. Не помню, говорил я или нет, но искать не буду, лучше скажу еще раз. В Тиличиках украли 41 тыс. рублей. Просто и чисто. Сперли и все.
Так вот, полетели мы в Каменское. Летели с час. Прилетели. Тоска зеленая. Вечером выступать. Лег отдохнуть…
Клуб полон народу. Нас приветствовали пионеры, читали стихи. И опять я подумал: «До чего же удивительна моя страна! Любое, даже самое нужное, дело могут обосрать и задушить, и в то же время самую явную авантюру и начетничество могут возвеличить и поднять на щит, и тратить бешеные деньги! И все это – и то удушение, и эта накачка – находит совершенно демагогическое объяснение».
Потом все было по старой, набившей оскомину схеме. А после – концерт самодеятельности. С ума сойти!
В каком же мы кошмаре живем! Мы можем сколько угодно клеймить буржуазное искусство, идеологию, мораль, но мы-то, мы! Что мы такое?
Бедные люди. Варящиеся в собственном говне. Зашоренные, замызганные. Но «у советских собственная гордость»!
Грустно все это. Смех сквозь слезы. Гоголь сплошной. Все – Гоголь.
И некому заступиться. Некому совершенно. Грузины отстаивают свое искусство, казахи отстаивают, а хохлы? Что же мы-то? Топчем друг друга, предаем. А что самое ужасное – народу своему мы не дороги вовсе. Зачем мы ему?.. Так что беречь нас некому, да и незачем.
18. I.73
Спал ужасно. Меня все более волнует картина. И чем ближе ДМБ, тем нестерпимее хочется, чтобы быстрей бежало время.
Каменское – удивительно засраное место. Салтыкова-Щедрина нет. Живет здесь тысяча человек. Все занимаются исключительно администрированием. Одни государственные учреждения. Собесы, райфо и т. д. Рутина адская. Ждем вездеходов, чтобы добраться до Манил.
Читаю Бурсова. Он меня будоражит и волнует. Что может быть выше истинности человеческих отношений? Что может быть сильнее человеческой натуры и таинственнее этого?
Подумал о Каянте. С пьянками его, национализмом, самовозвеличением, слезами, любовью к детям, своим и чужим, чтением стихов девушкам и невозможностью этих девушек употребить. А ведь все это и есть суть творчества и мук Достоевского. Странные, страшные повороты человеческой натуры, которые настолько индивидуальны, насколько и общи для человечества, и в этом-то соединении масштабов бесконечности личности и бесконечности Вселенной – суть гения художника.
19. I.73
День рождения мамы. Отправил телеграмму…
Поехали на вездеходах в табун – поснимать. Тундра вся выдута – снега нет почти совсем. Который раз беру с собою ружье, а никакой живности так и не вижу. Да и всерьез охотиться нет времени. Устали, честно говоря.
В табуне видел две удивительные вещи. Первая: женщина носит в ухе не сережку, а к мочке у нее пришита пуговица, от которой тянется гирлянда бисера. Да это что! – маленький мальчик, всего три года, и полон рот зубов. Ходит в комбинезоне на голое тело. Грязен удивительно. Дали ему конфету, взял ее, засунул в рот, а потом сосал грудь матери – с конфетой за щекой. Затем потребовал грудь другой женщины, которая жила в том же в чуме, а уже буквально через несколько минут я видел его, с той же конфетой во рту, но с острейшим ножом в одной руке и куском мяса в другой. Он брал зубами это мясо и прямо у рта отрезал ломоть, лихо и быстро.
Все это меня поразило несколько.
Были в табуне часов пять. Потом поехали обратно.
20. I.73
Утром пришло две телеграммы из Хабаровска. Мандраж там ужасный. Они в полном говне! – Запустили картину. Для того чтобы свалить все на меня, принудили быть режиссером фильма. Но, чтобы привлечь военнослужащего как режиссера, нужно было для начала получить разрешение командования. Понимая это, я сказал, что соглашусь только в том случае, если разрешат военные. Хабаровчане же решили, что все будет крайне просто – отправили на Камчатку группу, а Озимову (член Военного Совета) послали глупейшее письмо, на которое он и ответил недавно отказом!
Теперь Пошатаев (директор хабаровской студии) в ужасе. Его не связывают со мной никакие официальные отношения. Группа снимает, а кто будет за что отвечать, неизвестно. Поход же продолжается. Из Хабаровска идут конвульсивные телеграммы: «Приостановить съемки!», «Снимать только по плану!», «Не снимать вообще!». Словом, там сплошной испуг. Снимать же продолжаем, и единственное, чему я могу порадоваться, так это тому, что ни в какие производственно-официальные отношения с этими мудаками не вступил. Вот такая радость.
Гена с Володей опять уехали в табун. Гена хочет снять о Володе сюжет.
Может быть, вечером будет наконец баня.
Мы похожи на ученых бобров. Хорошее зрелище: в бане, полной пара, находятся полностью одетые люди. Они стирают.
Из Хабаровска идут конвульсивные телеграммы: «Приостановить съемки!», «Снимать только по плану!», «Не снимать вообще!».
Утром проснулся в 9 часов. В Москве – полночь. Подумал, что гости у мамы еще не разошлись. Сидят, шумят, вино пьют, а тут у нас – серое утро. Снег валит, запуржило. Да хоть тепло.
Поход наш, конечно, себя изжил. Уже полнейшее разложение. Кто мы и что – толком никто не понимает. Сплошная хлестаковщина. Кормят всех бесплатно. Уже начали к обеду подавать коньяк. Нас уже не четверо, присоединившиеся кинематографисты тоже идут под нашей маркой. Так что кормят теперь 9 человек. При этом потребности наши растут и растут.
Мы уже и сами начинаем забывать, ради чего идем, и порою смотрим друг на друга в недоумении. В газету я давно ничего не пишу. Отписываюсь раз в десять дней графоманской длиннющей статьей. Страниц этак в 12, на машинке. Пою, как акын, о том, что вижу, и совершенно не задумываюсь ни над формой, ни над содержанием. Даже страшно. Эти козлы все печатают! После телеграммы Тяжельникова можно вытереть жопу, запечатать использованную бумагу в конверт и отправить в газету. Напечатают!.. Ох, и страна. Где Салтыков-Щедрин?! Гоголь где?! Помогите!
Читаю Бурсова с остервенением.
Вечером была большая стирка и баня. Баня! Одно это слово меня повергает в восторг. Пар. Веник. Шайка. Все это позволяется себе только после того, как выстираешь гору белья. Но как это прекрасно.
Мы похожи на ученых бобров. Хорошее зрелище: в бане, полной пара, находятся полностью одетые люди. Они стирают. Одеты они потому, что и все, что надето на них, должно быть подвергнуто немедленной стирке. И вот когда все выстирано, выжато, можно заняться и собой. Тут начинается настоящий кайф. Пар и самая баня. Замечательно!
Когда выходили из бани, обнаружили, что за два часа температура упала градусов на 20. Снова начинаются морозы. Все испытания заново…
Говорил с отцом по телефону, а после написал ему письмо.
21. I.73
Сегодня день рождения Володи. Ему 40 лет, и на улице в его честь – 40 °C. День солнечный!
В коридоре висят выстиранные нами вещи. Среди них мой водолазный свитер. Утром шел какой-то человек, зашел к нам в комнату.
– Вы, ребята, водолазы? – спросил он.
– Да! – дружно ответили мы.
– Я тоже был водолазом, – похвастался он. – В Калининграде. – Повернулся и ушел.
Мы не стали разубеждать его в том, что мы водолазы. Очень уж по нраву нам пришлась эта идея. За водолазов нас еще никто не принимал. Полный сыр!
Вспомнилась вчерашняя баня, и вообще подумалось о тех замечательных разговорах в предбаннике, которые обычно ведут мужики. Все распаренные, добродушные. И рассказывают они такие же распаренные, добродушные истории… И опять я подумал о том, что жизнь наша вся строится на каком-то удивительном замесе реальности и фантастики…
Вот только жаль: когда то, о чем долго мечтаешь, осуществляется, оно сразу же теряет свою ценность. Может быть, я несколько преувеличиваю, но доля правды в этом есть. Наша сущая жизнь, все счастье ее, заключаются в вечном ожидании, в мечте, в надежде. Вечная надежда. От этого и стремление вечное… Вера, Надежда, Любовь. Как до конца постичь таинственную силу, волшебство этих слов? Их сочетания. Может быть, только этому постижению можно посвятить всю свою жизнь – настолько это пронзительно.
Тут, в Манилах, есть спортзал. Вот уже третий день занимаемся гимнастикой. Отлично!
С нами занимается Мурад Баталов. Он из Паланы, хотя родом из Грозного. Чечен. Работает в КБО (кабинет бытового обслуживания). Ветеринар по образованию, но в КБО занимается выделкой шкур. Смешной парень. Может говорить полную чушь, но в каждое слово вкладывает столько энергии, напора, что поневоле слушаешь его, раскрыв рот. Когда Мурад входит в спортзал, сразу занимает собой все пространство.
Вечером будем праздновать три дня рождения. Володя и дочка Мурада «родились» сегодня, а Женя – 23-го, но решили праздновать объединенно – сегодня.
Удивительная мысль у Бурсова о Достоевском. О том, что он и его герои лишены раскаяния. По сути, это мысль о том, что человек есть тайна. И как бы он ни клял себя за прошлые ошибки и поступки, он благодарен им и благословляет их, так как если бы не они – не стал бы он тем, кем стал теперь. Удивительно эгоцентрическая мысль, но насколько она эгоцентрична, настолько и верна. Мысль, достойная гения… Как это верно: человек есть все, и сложность и простота, и зло и добро – все вместе!
Праздновали день рождения Володи, Жени и дочери Мурада. Совершеннейший Чехов, только этакий советский и более безысходный.
Женя напился, поскольку узнал, что женщина, с которой он был здесь близок в апреле, сегодня родила от него девочку. Вот уж неисповедимы пути Господни! – случайно приехать в Манилы, чтобы узнать, что именно здесь, именно в этот день родилась твоя дочка. Горе-звукооператор. Смешной чеховский человек. Безумно влюблен в свою бывшую жену – Киру Самборскую, актрису. Влюблен болезненно. Год сидел в тюрьме за то, что ударил на стадионе милиционера в штатском. Пьющий. Отовсюду выгнали. Милый, скромный, застенчивый интеллигент в очках. Безумно скучает по Москве, вынужден работать на студии в Хабаровске. Если говорит, так только правду, удивительный характер. Русский тип совершенно. Мучающийся, безвольный, нежный и трогательный. Такие всегда страдают, на них выезжают подлецы.
Юра тоже постоянно вспоминает о Москве. Закрывает глаза и тихонько бормочет: «Иду по Арбату, поворачиваю в переулок, там слева «Ткани», справа театр Вахтангова…» и так далее. Юра и вовсе тихун, но бунт такого человека страшен. Жесток, бессмысленен, наивен.
На этом фоне – ветеринар Мурад. Рассказывал, как делал кесарево сечение корове… Фантастика все это. Володя со стихами, Женя с дочкой, Юра. Чудно все это и удивительно.
Я совсем почти не пил и с удовольствием теперь об этом думаю. Буду читать.
Пришел Боря, директор фильма. Очень красивый, обаятельный парень. Рассказал про Юру (в его же присутствии), как приехал тот на Дальний Восток работать – в шляпе и с авоськой, никаких больше вещей у него не было.
Еще рассказана была одна смешная, просто чаплинская ситуация. Два оператора-дальневосточника приехали в какое-то глухое место. Поймали двух блядей и повели в сарай. Один со своей кралей устроился внутри, а второй – снаружи, за овином. Тот, который внутри, даму приладил к столбу и сам только примостился, как рухнул столб. Дама упала, следом рухнул потолок, и мужчине пришлось, как Антею, потолок принять на руки. Дама юркнула в дверь. И вот стоит этот мудила со спущенными штанами – держит потолок.
– Гоша! – орет он товарищу.
Товарищ прибегает, и тогда тот, что держит потолок, просит его поднять руки. И как только парень поднимает руки, тот выскакивает за дамой вдогонку, оставив друга держать крышу. Чистый гэг!
И еще ситуация: тот же оператор, сходя с парохода, упал с трапа, но в падении успел ухватиться за юбку какой-то встречающей дамы. Вместе с этой юбкой он и начал тонуть. Дама же оказалась на причале с цветами в руках и в трусах.
22. I.73
Сегодня по плану должен был закончиться поход. Но не тут-то было. У нас впереди еще сотни километров, аж до самого Магадана.
Смотрел Тейлор и Бертона в «Укрощении строптивой». Господи, какая техника! Напор! Темперамент! Характеры! Ритм!
Володя пришел домой часа в три – соблазнял безуспешно какую-то даму. Юра всю ночь мыл посуду, Женя же не приходил домой вообще. Видимо, ему так понравилось, въезжая в село, принимать своего нового ребенка, что он решил сделать закладку еще на девять месяцев.
На улице –67°. Холод адский. Село окутано туманом.
Да, совсем забыл. Мне снилась сегодня тоска. Адская тоска. Не помню ее материального воплощения во сне, но помню, что проснулся с ясным ощущением, что именно она мне снилась.
Опять о Бурсове: очень он хорошо написал о героях Достоевского, что они страшно дорожат своей неуловимостью и изменчивостью, в то же время сохраняя внутреннее единство. Вообще, изменчивость, неуловимость человеческого характера страшно притягивает к себе. Все это – тайна.
Замечательно письмо Достоевского опекуну с жалобами на жизнь «под колоннадою Казанского собора». Хотя Достоевский вовсе в этот период не бедствовал. Он все сочинял – и себя тоже. Таким же лицедеем был Феллини. Это удивительно и прекрасно.
Володя рассказал смешную историю, как они с Коротковым и еще какие-то националы-интеллигенты ездили по Корякскому округу с выступлениями. Естественно, напивались адски. И вот в один из рейсов Володю, чрезмерно бухого, не взяли. Вертолет уже поднялся в воздух без него, и Володя сел на свой рюкзак и зарыдал… Вдруг вертолет вновь опустился, и все националы вылезли. Они объявили забастовку – сели рядом с Володей и сидят. Вертолет стоит, винтом вертит. Здесь же в растерянности – начальник управления культуры обкома, а на земле – писатели. Причем один рыдает.
Вот уже несколько раз Бурсов напоминает о «космичности» Достоевского. Мне кажется, тут имеется в виду не столько глобальность охваченных писателем проблем, а вот именно то самое космическое соединение конечного с бесконечным в личности и Вселенной. Неоценимая важность любого события в жизни человека для развития его личности.
Существо творчества Достоевского есть самая суть его жизни, его личности. Неотъемлемость творчества от его (именно его!) жизни и взаимное влияние одного на другое.
Забыл сказать: а температурка-то нынче –50°, что значит привычка. Уж и внимания не обращаешь на такой мороз.
Смотрел Тейлор и Бертона в «Укрощении строптивой». Господи, какая техника! Напор! Темперамент! Характеры! Ритм! Стремительность всей сцены, всех состояний! Эксцентрика! При этом тонкость и изящество! Что значит – талант, личность и их свобода. Только не быть «тварью дрожащей». Только бы не быть ею.

Взлет вертолета в пургу
Как применить этот опыт к своей актерской работе?! К есаулу Брылову. Конечно, нет настоящего без любви. Но как эту любовь передать? Ведь не обязательно иметь в кадре мужчину и женщину. Любовь важна и в отношении художника к тому, о чем говорит. Любовь – в своей сущности, в сути, в истоке, в начале. Любовь как точка опоры и отсчета. Это нужно попытаться… Нет, необходимо добиться ее в фильме, в отношениях между героями!
И еще: какая точность окружающего героев мира в «Укрощении»! Каждая второстепенная реакция становится первостепенной! Из этого и создается ткань картины. Как важно об этом думать. Как это важно.
А костюмы? Господи, до чего все точно и роскошно! До чего со вкусом сделано.
Как соединить в одном образе совсем разных людей?!..
Меня еще раз поразила точность и в то же время резкость и смелость реакций актеров в образах.
Ну, о драматургии и говорить не приходится.
И еще, еще, еще тысячу раз – характеры и характер взаимоотношений героев!!!
Ох, Бертон, Бертон! Этот смех, эти обнаженные, наглые зубы, эта поволока в глазах и предельная точность реакций.
У Бертона нет ни одного кадра, где он никакой. Ни одного кадра, где он безличен, или пуст, или нейтрален.
23. I.73
Спал ужасно. Всю ночь мучился Бертоном. Просыпался и снова проваливался в какой-то беспокойный морок… Я заметил, что и у Феллини в «Кабирии», и у Бертона в «Укрощении» схожи актерские манеры. Схожесть их заключается в эксцентрике и активности актера. Он «врезается», если так можно выразиться, в роль. Берет ее за рога, подчиняет своему темпераменту.
И еще: я подумал, что очень важно и хорошо, когда настроения, чувства, захватывающие персонажей фильма, передаются зрителям. Вот тогда-то и происходит настоящее внедрение. В том-то и суть настоящего искусства, его радость. Зритель не должен быть наблюдателем, он должен быть участником.

Ричард Бертон и Элизабет Тейлор в фильме «Укрощение строптивой» (1966)
К примеру, тот воздушный поцелуй, который посылает какая-то женщина Петруччо, когда он оборванцем появляется на собственной свадьбе. И вот он уже вызывает у зрителя то самое чувство, что и у этой сердобольной женщины, которую мы в фильме больше-то и не увидим! Это кадр длиною 20 см, но он настолько точен – и по месту, в котором стоит, и по заряду, который несет, что сразу делает зрителя активным, взволнованным участником происходящего!..
На улице –49° мороза.
Смотрели «Одиссею». Итальянская картина. Главную роль там играет актер-югослав (Беким Фехмию. – Современный комментарий автора), которого раньше мы видели в «Скупщиках перьев». Ах, культура! Как нам ее не хватает! Как без нее трудно и слепо! А Гомер? Ну, что уж тут об «авторе идеи» говорить.
Впрочем, «по гамбургскому счету», слабая картина, хотя, с точки зрения общей культуры, все хорошо. Вернее, обычно для среднего европейского уровня. Но с нашим-то уровнем и сравнивать нечего. Какие костюмы. Фактура, отделка. Об этом тоже нужно думать. Как доказать нашим идиотам, что не прихоть это, а необходимость? Как преодолеть леность их мысли? Добиться того, чтобы все думали профессионально.
Кстати, относительно костюма: хорошая деталь – куртка, скажем, или свитер, зашитые грубыми нитками.
24. I.73
Потеплело. Ждем Валентина Чубарова (сын легендарного героя, по маршруту похода которого частично строился и наш маршрут. – Современный комментарий автора). Поехали навстречу. Остановились, заприметив хорошие фоны для съемки нашего знакомства. Вылезли. Ребята-операторы достали камеры.

«ГТС хорошо, а олени лучше!»
Из пришедшего ГТСа вылез Чубаров. Оказался симпатичным толстым человеком. Но холод в тундре был чудовищный. Холод и ветер. Лысякову прихватило нос ужасно. Мне щеки и нос тоже. Съемка «встречи» продолжалась буквально несколько минут, буквально 2–3 – из-за холода. Запрыгнули в вездеходы и поехали обратно.
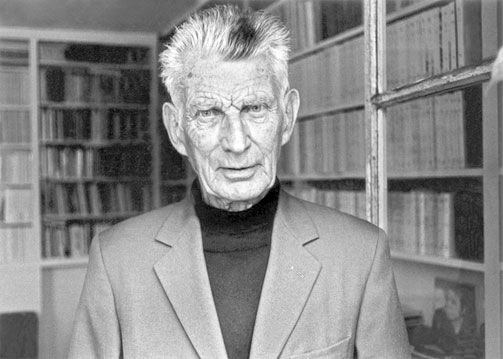
Ирландский писатель Сэмюэл Беккет
Пока ехали еще туда, я все думал про свою картину. Самые разные образы лезли и лезли в голову, прыгали друг через друга. Подумал о Ванюкине. Когда Шилов приходит к нему, он должен после удара так лететь, чтобы пробить дверь, ударившись плашмя с раскинутыми руками. Может быть, даже в двери должна дыра остаться в форме его туловища.
Занятную мысль выразил Сэмюэль Беккет: он пишет, что его не интересуют идеи, а только форма, в которой эти идеи выражены, что в философии он ничего не понимает и не читает философов. Он говорит, что задача художника – найти форму, в которой можно было бы выразить всю кашу, окружающую человека и называемую Бытием. Все это занятно, но совершенно исключает всякую Веру и Надежду, и Любовь, то есть именно то, что может объединить людей, что может заставить человека совершить добрый поступок.
Нет, конечно же, подобная точка зрения заслуживает внимание, тем более что это – точка зрения Беккета и как человека, и как мыслителя, и как писателя. Вообще, посягать на свободу личности создать свою концепцию миросозерцания есть зло. «Человек есть тайна», – сказал Достоевский. Это и Беккета касается. Но лично меня не волнует та «форма», о которой он столь бесстрастно говорит. Даже если мысли Беккета космичны, если они и есть суть нашего трагического бытия, видимо, та форма, в которой эти мысли подаются мне, не трогает меня совершенно. А раз так, ни радости, ни протеста во мне не рождается. Я прохожу мимо, почтительно снимая шляпу (на всякий случай) перед тем, чего не понимаю.
* * *
Ужасно я не выдержанный человек. Ох, как же меня может что-либо раздражать! До скрипа зубов, до желания убить.
Например, Зорий! Это, доложу вам, тип! Вот уже три месяца мы с ним в походе. Неглупый, хитрый, даже хитрожопый, щедрый, способный на откровенность, но крайне безвкусный, самовлюбленный, категоричный, безапелляционный, упорный, добивающийся очень многого только одним упорством. Порою Зорий остроумен и приятен, но иногда просто невыносим. Самоуверенность его границ не знает…
Так вот: у него либо тик, либо привычка. Когда читает, трогает одной рукой волосы на затылке и при этом цокает языком о зубы, будто их чистит. Если об этом не думать – ничего, но стоит раз обратить на это внимание… – все! Уже ни о чем больше не думаешь. Ни читать, ни писать, ничего нельзя. Хочется только бросить в него утюгом или еще чем-нибудь.
Вместе с Чубаровым приехал главный редактор «Камчатского комсомольца» Паша Козлов, он же Пахом Тундрин (это его литературный псевдоним). Полный мудак, шутник-хохотун. Зорий метко его оценил: «Милый парень, часто болеющий триппером». Может, он и милый, но такой абсолютный мудак, что даже странно.
Приехал главный редактор «Камчатского комсомольца» Паша Козлов, он же Пахом Тундрин (это его литературный псевдоним). Зорий метко его оценил: «Милый парень, часто болеющий триппером».
Вечером выступали в ДК. Все прошло, как всегда, с той лишь разницей, что был уже с нами Чубаров. Он выступал хорошо – грамотно и толково. Рассказывал об отце, хорошо говорил. Особенно запомнилась одна история, трогательная на мой взгляд. Однажды в детстве Валя провинился, и отец решил его выпороть, да Валентин паренек был смышленый и быстро в соседней комнате засунул в штаны себе расшитую цветочками небольшую подушечку. Отец взял ремень, уложил сына и врезал первый раз. Ничего, сошло. Отец второй раз «протянул». Опять ничего. А на третий раз лопнули штаны, и из прорехи глянули пестрые цветочки подушки.
«Все!» – сказал отец. – «За находчивость больше пороть не буду». – Хорошая история.
Потом выступал Козлов и такую нес херовину, аж стало страшно.
25. I.73
Утром пришли каюры. Узнавали что и как. Когда едем и сколько нас. Поговорили. Я спросил, холодно ли будет ехать. «Холодно», – уверенно кивнули они. – «Очень холодно».
Торопливость. Торопливость. Ужасно она мешает. Все думаю о словах Достоевского, что «молчать – всегда красивее, чем говорить». Но ведь от того, как говоришь, зависит результат – добьешься, чего хочешь, или нет.

Сергей Бондарчук

Андрон Михалков-Кончаловский

Сергей Герасимов
Как бы выработать оптимальную систему отношений с номенклатурными работниками, от которых зависит твое творчество. Ведь умеют же «грамотно» с ними общаться Бондарь и Андрон! Или Герасимов. Умеют же они!.. А я – либо «тварь дрожащая», либо хам, либо суетливый мальчишка. От того и победы мои, если они и бывали, – чудовищными затратами давались, а радость от этих малых побед была столь великой, будто невероятного чего-то добился. Эх!..
Больше молчать нужно и дело делать.
* * *
Достоевский пишет из каторги, что о нем «гул пойдет», когда он вернется и снова начнет писать. Видимо, в нем созревало то новое, удивительное художественное мировоззрение и та философская система (хотя никакой системы он не признавал), которые легли в основу его творчества.
Но все-таки это писал человек, не сомневающийся в том, что люди смогут новые его сочинения прочесть. У него не было «комплекса полки». Его мучило творчество, сомнения творчества, а не самоцензор, не страх, что накричат и «закроют».
* * *
Меня мучит любое порабощение личности. Любая попытка давления на меня рождает мучительную ненависть, которую мне ужасно трудно в себе задушить. Тогда я либо хамлю, либо затаиваюсь, но чтобы спокойно оценить обстановку и придумать, что делать, – на это ни терпения, ни ума у меня не хватает.
О Господи, помоги! Ну вот зачем я влезаю опять в эти споры, в ужасные выяснения отношений с такими мудаками, как Паша Козлов.
Зачем я стараюсь ему что-то доказать?
И что это за правила такие? Почему главный редактор молодежной газеты обязательно должен быть редким мудаком?! Ох, Господи! Что же заставляет меня кричать, суетиться, ненавидеть его именно за то, за что я должен быть ему по сути благодарен – что командирован от его газеты?
Сам же писал, что нужно молчать. Значит, нужно молчать! Молчать!
* * *
Цибульский в «Пепле и алмазе» – новый тип героя. Джеймс Дин – новый тип героя. Бельмондо – новый тип героя. И все они в творчестве – продолжение личности своей. То есть все они – личности. Не может быть героя, который должен стать носителем каких-либо идей, если он не личность. В то же время рождение этого нового героя, нового типа обусловлено той интонацией, которой автор, режиссер, хочет выразить свои мысли и чувства. Следовательно, режиссер тоже должен быть личностью.
Смотрел «Чайковского» – плохая некультурная картина. Плохо и это, и все вообще.

Антонина Шуранова и Иннокентий Смоктуновский в фильме «Чайковский» (1969)
Собираемся в поход до Верх-Парени. Это несколько дней пути на собаках по Пенжинской тундре. Говорят, самое жесткое по походам место на Камчатке. Судя по всему, этот наш переход действительно будет особенно тяжким. Да что делать. Шесть нарт. Нас пять человек. Много груза.
Ну что ж. Видимо, нужно пройти этот путь – по самому суровому месту из тех, где живут в мире люди. Говорят, есть еще одно только место, где-то на Чукотке, что сравнимо в это время года с ожидающей нас Пенжинской тундрой.
Помоги, Господи! Мороз-то около пятидесяти! Помоги, Господи!
26. I.73
Проснулись рано утром. Было еще темно. Начали собираться. А в это время по радио передавали, что Коле Бурляеву – 25 лет, что он счастлив и знаменит и сыграл главную роль в кинокартине «Игрок» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского.
О, знал бы ты, Коля, чем в это время занимается твой однокурсник. А он натягивает на себя кухлянку, а потом камлейку. Это такая накидка с капюшоном от пурги и мороза. Делается она всегда из очень цветистой ткани – чтобы человека, потерявшегося в тундре, легче было найти.
Каюров все не было. Когда же все-таки явились двое, выяснилось – остальные «в ауте». Ну, это уже существенно. Решили было отложить выезд до завтра, но потом переиграли. Решено было все же выехать. «Времени нет».
Стали собираться. Мороз на улице за пятьдесят. До чего же это холодно! От одной мысли, что и день, и ночь придется нам пробыть в открытой тундре, становится страшно.
Наконец подъехали все каюры. Из шести – трое «в дупель». Но делать нечего.
Теперь-то я понял, что значит – замерзнуть. Это когда ни волей, ни умом, ни хитростью не можешь, например, шевельнуть пальцем руки.
Из деревни выбирались около двух часов. Возле каждого дома они останавливались, объясняя это какой-либо надобностью, заходили в дом, а возвращались все более и более пьяные. Наконец все же тронулись.

Николай Бурляев в 70-е
День был солнечным удивительно, но и мороз отменный. Брови, ресницы, усы – все покрылось плотным слоем льда и густым инеем.
Мой каюр был бухой и уже два раза падал с нарты. То и дело он останавливался, ворчал, ругался и просил опохмелиться, а потом достал вдруг из мешка бутылку, выдул ее из горла и тут же вытравил под нарту.
Я молчал, никак не реагировал вообще ни на что. Это единственная правильная реакция, которая возможна в такой ситуации. Ни просьбы, ни угрозы, ни увещевания помочь тут не могут. Лучше молчать, что я и делал.
За день прошли 20 км. Это чудовищно мало, но день кончался, пришлось «ночевать», то есть постараться скорее добраться хотя бы до «домика», в котором возможен был теплый ночлег.
Мой каюр был бухой и уже два раза падал с нарты. Я молчал, никак не реагировал вообще ни на что. Это единственная правильная реакция, которая возможна в такой ситуации.
Теперь-то я понял, что значит – замерзнуть. Это когда ни волей, ни умом, ни хитростью не можешь, например, шевельнуть пальцем руки. Думаешь: «Господи! Ведь это так просто. Возьми и пошевели рукой! Ведь это же просто!» Но ткань твоего тела мертва. Мертва совершенно.
Видимо, люди замерзают насмерть не столько от холода, сколько от ужаса. Все как в бреду. Страшное внутреннее смятение, суетность. Торопливость и бессилие… И какая беспомощность! Видимо, это такое же неподдающееся контролю состояние, как голод или еще что-то такое же стихийное. Может быть, я попробую когда-нибудь описать подробней это состояние.
Приехали в «домик». Это действительно маленький домик в тундре. Внутри – полати. Хворост, печка, соль. Поужинали и легли спать. Было 8 часов вечера. Спалось тревожно, много чего передумалось. Храпели, кашляли и харкались каюры.
К утру стало стремительно холодать. Когда ночью выходил по нужде, снова смотрел на Большую Медведицу. Она кажется мне чем-то удивительно личным здесь. Видно, потому что и здесь, и там, дома, она одна и та же. Те же семь звезд ковшиком. Ужасно близки они мне. Те, кого люблю, там видят ту же Медведицу, только в другое время.
27. I.73
Каюры встали в 5 часов утра. Стали чаевать. На улице опять за пятьдесят. За сопкой будто фонарь горел. Удивительное зрелище. Это луна. Хотя было уже утро, но из-за этой сопки луна для нас еще и не взошла.
Быстро погрузились и выехали. В это ночное время тундра – фантастическое зрелище. Снега мало очень. Совсем почти нет. Его выдувает ветром и трамбует морозом.
Удивительно. Собачки несут нарту быстро, но сидеть на ней страшно. Темно, и ничего не видно. Только ветер свистит… А! вот и луна наконец-то взошла из-за сопки, но с другой стороны гряда сопок уже розовела солнечной полосой.
Потом начался затяжной подъем. Около 5 километров до перевала. Шли в гору по удивительно хрупкому, судя по звуку, но твердому, как асфальт, насту. Помогая собачкам, толкали свои нарты. Взмокли до костей. Но вставало солнце – это было совершенно потрясающее зрелище. Потрясающее!
Собаки тянули тяжело, то и дело оглядываясь на каюров: помогают ли? Шли часа два… Дошли, расселись по нартам – начался спуск. Только ветер засвистел. До костей пронизал холод. И опять все лицо, малахай, ворот, все стало покрываться льдом. Снова онемели руки, просто отнялись…
Чтобы согреться, бежал километров 6 за нартой. Потом опять ехал… И так весь день.

Польская актриса Беата Тышкевич

Обложка журнала «Советский экран» (№ 8, 1967)
Забыл сказать. В домике, в котором мы ночевали, на полу в углу лежали книги. Одна из них – «Мертвые души» Гоголя. Володя, заметив, как я листаю страницы, подошел. «Сюда много книг привозят, только читать их некому». И рассказал историю, как ехал он по тундре и видит вдруг – заяц шевелится. Володя ружье вскинул, как ахнет. И бежит… А это оказалась огромная книжища «Басни Крылова». В тундре, в самом центре – шевелятся под ветерком «Басни Крылова».
«Чаевали» опять в тундре. И опять руки отмерзли. Но теперь уже как-то спокойнее было.
Приехали в заброшенное село. Там один только жилой старый дом. Заняли его. Нарубили дров, растопили печь, устроились на ночь… В доме этом подобрал с пола яркий листок. Оказался из «Советского экрана», а на фотографии – Беата Тышкевич. Забрал с собой. Бог даст, увидимся – покажу ей, расскажу, где я нашел этот листок.

Палаточный городок на Дальнем Востоке
Когда ночью не спалось, все думал о том, что хорошо бы написать статью обо всем, что «наболело», про кино. И, пока лежал и думал, отличная статья в голове складывалась – умная, толковая, спокойная. Но потом решил, что нечего писать всякую херовину – никому это не нужно. Никто это не читает, а если и читают, так исправить никто ничего не может. А нужно дело делать.
Дело делать… Вот смотрел «Чайковского» и думал о том, что торопить, комкать работу нельзя. Спокойно и твердо делать свое дело, только не комкать. Никто потом этого не возместит.
И нечего стараться торопливо добиться чьего-то уважения. Из кожи для этого лезть. Нужно терпеть. Ждать. Ведь придет же наше время. И те из моих сверстников, что теперь относятся ко мне с уважением, тоже в свое время станут (должны стать!) людьми, от которых хоть что-то зависит в этом мире. Хочу верить. Хотя Бог его знает… Завтра должен быть большой переход.
Гениальная история! Вот уж воистину – образ доведенного до точки советского человека.
Палаточный городок строителей трубопровода. Жрать нечего. Водка разбавлена. Тоска и грязь. Живут люди, и все бы ничего, если бы не опостылевшая пропаганда, которая льется и льется из транзистора. Жили бы эти люди и терпели бы все, но гадость эта в приемнике… Нет сил ее слушать, да еще и песни Пахмутовой про тайгу и туманы, и романтику. И вот сидят в палатке ребята, водку пьют. Дождь на улице. Приемник говорит о достижениях. Ребята сидят, молчат. Потом один из них медленно встает, снимает со стены ружье, так же медленно и спокойно его заряжает. Все смотрят на него совершенно равнодушно. И, как только после информации включили розовую песенку «Палаточный город», парень, аккуратно выцелив, засадил в приемник дуплетом весь заряд.
– Наконец утихомирил, – сказал тихо, опуская ружье. В стаканы разливали водку. Дождь не переставал.
28. I.73
Ночью холод был адский. Мне мой кукуль мал, оттого половина туловища была «на улице». Ужасный холод, леденящий. Тело и голова будто немели.
Проснулись от холода. Сел я в кровати и, опустив на пол ноги, почувствовал, что температура на полу градусов на 15 ниже, чем вообще в комнате.
Почаевали при свечах и тронулись. И опять восход застал нас уже в тундре. Как и вчера, мороз – за пятьдесят… Вот она, Пенжинская тундра, во всем своем величии, во всей красе. А краса и вправду изумительная. Конца и края нет этой сияющей тундре, синеватые сопки по горизонту…
Забегая вперед, скажу, что сегодняшний день был самым тяжелым из трех дней пенжинского перехода. Едва поднялось солнце, появился тихий ветерок. Но при таком морозе этот легкий ветер – истинный ужас. Он пронизывает насквозь. Дул он в лицо, и от этого совершенно отмер лоб. Сначала отмер, а потом начал адски болеть.
Сел я в кровати и, опустив на пол ноги, почувствовал, что температура на полу градусов на 15 ниже, чем вообще в комнате.
Ехать на нарте – это значит половину пути бежать рядом с ней. Тяжело это, особенно в гору. Снег – сыпучий, как песок, проваливаешься по колено, а то и глубже. Но нельзя от собак отставать. Никак нельзя, потом не догонишь.
Каюра моего зовут Сережа. Закончил три класса. Молчаливый, тихий человек. На все вопросы отвечает «нэть» или «найвэрнэ».
– В Москве был?
– Нэть.
– А на материке?
– Нэть.
– Поедешь?
– Найвэрнэ.
– Это какое море слева, Охотское?
– Найвэрнэ.
Едем по берегу Охотского моря. От него поднимается темно-серо-синий густейший туман. Ползет солнце по кромке тумана.
Замечательны отношения каюра с собаками. Они совсем не однозначны, как может показаться с первого взгляда. Собаки – трудяги удивительные. Тянут, тянут, только худые задницы мелькают. Время от времени собачек меняют местами. Это делается для того, чтобы не перегружать одни и те же их мышцы.
Погоняет каюр собак звуком, похожим на «кха-кха», потом «тах-тах»; останавливают на отдых длинным, похожим по интонации на «ла-а-а-адно» – «ххха-а-а-а». В пути каюр то и дело говорит с собаками странным сдавленным голосом. Он говорит этим голосом короткие гортанные фразы. Собаки его удивительно внимательно слушают, то и дело они оглядываются: мол, как там, что?.. Когда собаки тащат нарту, все постромки должны быть натянуты натуго. Плохо будет тому, кто «сачкует». Каюр управляет собаками «остолом». Это такая палка, толщиной с человеческую руку, с металлическим острием на конце, с другой же стороны – ремень, которым привязывают остол к нарте. Так вот, остолом этим каюр лупит собак, которые сачкуют. Но как лупит – страшно смотреть! Или рукояткой ножа по морде даст, да так, что сразу юшку из носу пустит.

В пути
Закат солнца застал нас тоже в тундре. Едем и едем. Тяжело. Больше половины пути пешком, из этого больше половины – бегом. При таком морозе нелегко все это.
Есть среди нас каюр Витя. Закончил 10 классов, но ничего как-то из него не вышло. Говорит грамотно, зол, ироничен. Одинаково пренебрежителен и к своим, и к нам. К своим – оттого, что образованием он несравнимо выше них, а к нам пренебрежителен он потому, что мы чужаки и не понимаем многого из их корякской жизни. Вообще, между каюрами и нами существует некоторое отчуждение. Питаются они отдельной группкой. В домике сидят на корточках по углам. Тихо сидят, молчат.
Много раз за эти дни, сидя на нарте или колупаясь по снегу, смеялся про себя, размышляя о том, что и как происходит сегодня в Москве и вообще в этом «прекрасном и яростном мире». Вчера укладывались спать на полу в холодном, затерянном домике и по спидоле слушали «Голос Америки»: а там и музыка, и шумы мира, и новости… Как объять все это? Как вместить все это в себя? Куда поместить и себя в этом огромном мире, как найти место?
Проезжали мимо заброшенного поселка. Если и жив еще товарищ Молотов, вряд ли он знает, что где-то в пенжинском районе на Камчатке, в бескрайней и очень холодной тундре пятнадцать лет назад перестал существовать колхоз его имени. И что стоял он на берегу Охотского моря, и что теперь это – ушедшие по окна в землю домишки, и что я проезжал мимо них на худых собаках этой зимой.
Наконец достигли табуна. Тут будем ночевать. Большая меховая палатка. Печка. Свечи. Тепло! Хорошо! Нужно отогреться, попить чаю и поспать.
29. I.73
Это Луна, нормальная Луна. Совершенно лунный пейзаж.
День начался для нас рано, в 5 утра. Быстро позавтракали, погрузились и поехали. Еще в темноте начался второй перевал. Тяжело в темноте идти в гору, проваливаясь в снег по колено. Проклясть можно все на свете. Но шли…
Поднялись. Отдохнули и пошли дальше… Снова рассвет застал нас в тундре. Хотя мороз и был за пятьдесят, но без ветра, и, кроме того, оклемались, видимо. Не так уже кажется холодно, как в первые дни. Вечером попросил одного из каюров поточить мне нож. Он точил его, а потом проверял – хорошо ли он наточен, проводя лезвием по своей голове. Она у него бритая, и надо лбом я еще раньше примечал какие-то полоски. А это следы постоянных проб остроты лезвия!
Что поразило меня в эти дни – скорость, с которой они разводят костер и делают чай. Только остановились, а уже костер горит, и чай кипит! Фантастика. Кроме того, удивительно быстро начинают есть. Мы только с нарт встали – а они уже в кружок стоят на коленях, едят рыбу сырую, оленину.
Переход был все-таки тяжелым. Остановились ночевать опять в избушке среди тундры. Почаевали. Нужно спать и утром ехать дальше. Теперь уже до Пареньи.
30. I.73
Скажу сразу: переход был адским. Самым тяжелым из всех переходов этих дней. Проснулись каюры, потом вскочил Володя. Начал петь, как всегда, и спать было уже невозможно. Было без 20 четыре. До чего же не хотелось вставать. Но делать нечего. Встали. Попили чаю и выехали.
Вот она – тундра. Самое жесткое место, в котором живут люди. Сквозь все, что на мне было надето, пробивал мороз. Температура воздуха достигла –59 °C. Первый раз в жизни меня мутило от холода.
Одна тундра – белая, пустынная… Выяснилось, что в темноте сбились с дороги. Начали пробиваться по целине.
Поднялся легкий встречный ветер. От него застыла маска, которой я закрывал лицо. Она моментально стала каменной. Я чувствовал, что обмораживаю лицо, но шевельнуться не было сил. Ветер пронизывал до костей. И это сквозь 2 свитера, меховую куртку, кухлянку и камлейку. Малахай был завязан до упора. Ресницы смерзлись. Лоб, брови, щеки – все смерзлось с мехом малахая в один ледяной панцирь.
Ужасно тяжелый переход. Время от времени я глядел в темное, глубокое небо, по которому были рассыпаны звезды. И опять видел Большую Медведицу, но думал теперь только о том, что мне ужасно холодно и дует ветер, и Бог знает, куда я попал и где я теперь нахожусь.
…А собачки тянут и тянут. Когда совсем окоченел, начался подъем. Пошел пешком. Начал потихоньку согреваться… Но идти трудно очень.
И опять рассвет застал нас в тундре. Последний час перед рассветом был самым жестоким – по холоду и промозглости.
Встало солнце. И я увидел эту знаменитую парейнскую тундру. Ни кустика, ни деревца. Одна тундра – белая, пустынная… Выяснилось, что в темноте сбились с дороги. Начали пробиваться по целине.
Добрались до берега Охотского моря. Торосы и трещины. А нам нужно было успеть пройти здесь до начала прилива. Тогда лед пузырится, вздувается, трескается. Нужно торопиться!
Примерно километров 5 пришлось бежать по этим торосам, то и дело рискуя провалиться в трещину, да еще толкать нарту. Собаки совсем выдохлись… Наконец остановились «чаевать».
Я уже есть не мог. Выпил только кружку чаю, встал и пошел вперед, так как впереди был большой, хоть и пологий подъем. Ехать на нарте все равно бы не удалось. Следом за мной двинулись Володя, Зорий…
Шли еще километра четыре, а может, и пять. То снег по колено, то просто голый лед.
Нарты нас догнали. Кончился подъем – и мы поехали… Наконец на горизонте показалось селение Парень. Но до него мы добирались еще четыре часа – под конец снег стал таким глубоким, что, толкая нарту, проваливались по пояс. Собак в колеях не было видно, до того эти колеи стали глубоки.
Парень – это граница с Чукоткой. Дальше Магаданская область.
Пока мне трудно описать все ощущения. Еще не отошел. Нос и щеки обморожены. Ног не чую. Лежу теперь в какой-то теплой халупе. Как хорошо! Топят для нас баньку. Может быть, вечером помоемся.
* * *
Смотрел я всю дорогу на собак и думал о том, что жизнь у них действительно «собачья». Кормят только вечером. Один раз в сутки. Целый день они в упряжке. Тянут и тянут эту тяжеленную нарту. Чуть замешкались – получай по хребту огромной палкой с кованым наконечником!.. И живут эти собаки ровно половину отведенной им собачьей жизни.

В камчатских кухлянках и камлейках (Зорий Балаян и Никита Михалков)
* * *
И еще я думал о том, что огромное, великое счастье – знать, что есть у тебя и другая, но твоя тоже жизнь. Ею живут там… Бог знает где. Но она есть. Сладко и мучительно думать о ней. Мысли сами к ней тянутся и, словно бабочки летом вокруг горящей лампы на террасе, вьются вокруг воспоминаний и грез. И время тогда словно останавливается… Может быть, проходят секунды, может, минуты, и только потом, очнувшись, обнаруживаешь себя съежившимся на ползущей нарте, а кругом заледеневшая тундра, звезды в небе и каюры «тах-тахают».
* * *
Поверхностный, безапелляционный, хитрожопый, наглый, самовлюбленный, лицедействующий, упрямый и поразительно живучий человек – Зорий Балаян! Однако упорство его, изощренность, напор в достижении цели заслуживают уважения.
После того как он мне совершенно серьезно сказал, что никогда не врет, я понял, что он врет всегда.
Современный комментарий автора: Все-таки удивительная вещь – человеческое обаяние и харизма. Как ни раздражался я бывало, ни злился на Балаяна, на его презрение к каким-то важным для меня вещам, неумение дослушать до конца, навязывание своего мнения и так далее, так далее – о чем в моем дневнике сказано более, чем надо, но вот… проходит это минутное раздражение, и ты опять видишь перед собой милейшего, талантливого человека, с прекрасным юмором, с блистательной реакцией и с замечательным слогом, которым он неизменно излагал свои мысли и всевозможные захватывающие истории как в устной речи, так и на бумаге. И ловишь себя на мысли, что сидишь и слушаешь его часами, как завороженный, и куда девается все твое раздражение, претензии, обиды?.. Все-таки великая вещь – мужская харизма и обаяние таланта!
* * *
Все же я несколько устал. Сегодня первый день четвертого месяца нашего путешествия.
* * *
Была баня с замечательным сухим и горячим паром. Потом поужинали. Местный начальник Иван Сазонович – на лицо – подлец полный. Вдобавок пьяница и хитрожопый. Прибыл сюда с военной службы. Из Гродно. Явный «сундук». Я спросил его, в каком он звании служил. Он замялся и ответил, что начал с солдата. На этом в ответе и ограничился.
* * *
Все вспоминаю наш последний переход. Даже не верится, что все это было. И тундра, и мороз адский, и небосвод звездный, и рассветы с закатами в белой пустыне.
Сегодня мне приснилось, что от Андрона пришли две телеграммы. Сейчас не могу вспомнить дословно, но мне всю ночь казалось, что я их именно дословно помню. А теперь только знаю, что в одной из них в нескольких фразах было сформулировано его художественное кредо, а во второй были хорошие слова для меня и, кажется, приглашение сниматься. Помню, я долго еще, когда проснулся, пытался припомнить, что же там было написано, и никак не мог.
Потом, уже в тундре, сидя на нарте, выдумывал Андрону письмо. Оно получалось очень проникновенным, и мне самому ужасно нравилось, но потом мороз из меня выбил все.
И еще я думал вообще о сне как таковом. Удивительная, гениальная выдумка природы – сон. Это особая наша жизнь. Сказочная и прекрасная. Она прекрасна всегда. Хороший сон вспоминаешь долго, с наслаждением, возвращаешься к нему снова и снова. Плохой же сон, страшный, хорош тем, что он все-таки кончается – и ты с колотящимся сердцем смотришь уже на окно, в котором брезжит рассвет, и радуешься, что все кончилось, что все – неправда, и начинается новый день!..
Оленеводов-коряков эти морские коряки презирают. Считают пастушество низкой профессией.
31. I.73
Надо сказать, колотун был ночью страшный. И, как только утром встали, пошли к местному начальнику.
Да! Забыл записать, что еще в бане ребята заключили пари (практически изобрели новую азартную игру) – отныне не ругаться матом, а с того, кто выругался, – рупь!
Я отказался от этой затеи, мотивировав тем, что зарабатываю пока всего 3 р. 80 коп. в месяц. Таким образом, ругнуться за месяц я смогу всего на три рубля с копейками – а это мне не по карману и не по характеру. Ребята со мной согласились и тут же назначили меня судьей и кассиром. К вечеру в кассе у меня было уже 11 рублей.
Так вот, проживает в Парени 106 человек. Село национальное, но засранное до предела! Сортир засран до потолка, в прямом смысле слова.
Здесь живут почти одни коряки. Занимаются добычей морского зверя: нерпа, белуха… Бьют нерпу палками.
Оленеводов-коряков эти морские коряки презирают. Считают пастушество низкой профессией.
Обслуживание этого, самого дальнего, камчатского села ужасающе. Почта приходит раз в два месяца. В кино крутят одну картину по пять раз. Дети в Парени никогда вообще не видели никаких фруктов и свежих овощей!..
Считается Парень отделением манильского колхоза. Хозяйство это планово-убыточное. То есть кормят они только сами себя. Колхоз вот уже несколько лет решает вопрос о переселении жителей Парени в Манилы, но заниматься им там совершенно нечем. Кроме того, никто из местных уезжать не собирается. Их отцы и деды жили здесь. Но так как вопрос о закрытии Парени все время открыт, то и обслуживают ее жителей как временных поселенцев, то есть никак не обслуживают. Принцип, видимо, такой – они нам не нужны, и мы им давать ничего не будем.
В шестидесяти же пяти километрах находится село Верхний Парень. Там тоже живут коряки, но это уже Магаданская область. И обслуживание там совсем иное! Магадан – золото, ему и доставка всех благ! Следовательно, отношение это («Раз они нам, то и мы им») – есть политика общегосударственная. А то, что там и тут живут те же люди, никого не волнует.
Магадан, кстати, давно просит передать ему Парень. Это пастбища, которые чукчам нужны. Жителям же Парени совершенно все равно, как будет писаться их адрес: Камчатская область или Магаданская. Главное, что все они останутся дома и их начнут обслуживать по-человечески. Но нет, куда там! Сразу выходит на арену «национальная гордость». Разве может корякское начальство отдать чукчам свое село?! Пусть лучше их люди сидят себе и дальше в говне, зато числятся в Корякском национальном округе. Какая все это низость! Мерзкая гордыня, не имеющая ничего общего с гордостью настоящей, человеческой. У них нет возможности помочь людям, зато имеется во всей красе племенной гонор. Нет и желания никому помогать, но есть казенные сводки и бумажная волокита. А вот о том, что из-за этого страдают люди (все равно какого роду-племени), никто из них и подумать не хочет.
Удивительно! Даже Володя с пеной у рта мне доказывал, что сама постановка вопроса о передаче Парени в соседнюю вотчину – попрание норм, выработанных в области национального вопроса и т. д. и т. п., словом, нес околесицу, не имеющую ничего общего с реальными интересами людей.
Хотя, если честно, мне все равно. О чем говорить, когда вся Россия, вся огромная наша страна, в одинаковом говне. Конечно, в отношении к человеческой личности и жизни нельзя делать национальных различий – личность единственна, жизнь одна. Но, с другой стороны, всех-то коряков около 8 тысяч человек. И все! Это оленеводы, ведущие первобытный образ жизни, едящие сырое мясо и сырую рыбу, каюры, охотники и рыбаки – ведущие точно такую же жизнь. Полудикие, темные, неграмотные люди, в общем-то, обреченные на вырождение.
В деревеньке этой все пьяные ходят с самого утра. Никто ничего не делает. Прибыль, причем колоссальную, село может давать и, видимо, дает, но одному председателю, так как контроля здесь нет, так же, как и обслуживания. Председатель может заниматься всем, чем хочет, а возможностей огромное количество. Нерпы – сколько пожелаешь. 8 тонн нерчьего жира, столь необходимого оленеводам, да и вообще народному хозяйству, попросту сгнивает. Невозможно вывезти все это никуда. (Естественно, в сравнении с миллиардными потерями, которые ежегодно несет государство, – это чепуха.)
Так вот, о председателе. Нерпа, икра, рыба, пушнина… – всего за бутылку он может иметь все, что захочет. Да жизнь у него просто фантастическая могла бы быть, если б только он задумался об этом.
* * *
Моя копилка регулярно пополняется. Володя лидирует. Когда начинаем о чем-либо спорить, в особенности если спор касается национального вопроса, он волнуется и сразу начинает материться.
Я предложил всем замечательный выход из положения: за полтинник я берусь ругаться вместо каждого. Хочет, к примеру, кто-то выругаться – платит мне пятьдесят копеек, и я за него ругаюсь. Хороший бизнес.
* * *
Забыл сказать: каюры собак называют только «собачки». Вообще всех зверей называют ласкательно – «лисичка», «олешек»…
* * *
После каждого заплаченного Володей рубля он падает на пол, схватившись за голову, и клянется, что больше не будет ругаться в жизни никогда! Но мы знаем, удержаться он не сможет.
Удивительно трогательно и смешно слышать теперь от него изъяснение какой-то волнующей его ситуации. Без мата ему говорить трудно, но он помнит, чем ненормативная лексика теперь грозит. Потому монолог его состоит из мычаний, странных жестов, мотаний головой, страдальческих гримас, рваных обрывков и совершенно собачьих глаз. Но все же в итоге его прорывает. Он ругается и… испуганно замолкает, выпучив глаза, но тут же заявляет, что это было не ругательство.
Потом все же платит, хохочет и клянется, что уж теперь-то от него ругательства мы больше не услышим.
После заплаченного им девятого рубля Володя заплакал. А потом положил на стол пятерку и, пять раз саданув себе по голове, сказал пять раз «ё… твою мать!» и успокоился.
Замечательная личность. Смешной, трогательный человек.
* * *
Хорошая для кино ситуация. Заброшенная, засранная, совершенно изолированная от цивилизации деревня. Нет связи по целым месяцам. И вот четыре человека входят в эту деревню и захватывают власть. Делают все, что хотят… В такой картине можно показать все раз… байство наших властей, наших му… ков. Хорошая возможность!
Это надо видеть: на ободранном курятнике вывешены все члены Политбюро! А мимо на четвереньках проползают пьяные коряки. Воровство, волокита, бесхозяйственность. А эти ребята висят себе на стенке, звездочками геройскими мерцают. И происходит это на самом краю русской земли, в самом прямом смысле этого слова.
Фантастический маразм.
Мороз –56 °C. Ветер. Солнце. Снег. Деревня с хулиганским названием – Парень. Коряки. Собаки, которые дежурят у сортира и ждут «клиента», чтобы сожрать потом свежее говно (я это видел первый раз в жизни). А с самого почетного места спокойно и мудро глядят на это наши вожди.
Ну, как можно после всего этого взять газету «Правда», серьезно читать ее и обсуждать, и вообще относиться к чему-либо серьезно, а тем более с доверием и уважением! Ах ты, Господи!
1. II.73
Вот и февраль. Последний месяц зимы, по крайней мере по календарю. С утра ходили по делам. Потеплело, если можно так прокомментировать температуру –30 °C. Все же не –59 °C. Вообще, день прошел довольно спокойно. Никаких особенных волнений не было – давно все про Парень нам ясно, так что и не старались узнать что-то новое.
Завтра нам предстоит новый рекорд – длиной в 75 км, до Верхнего Парени. Это уже Чукотка. Переход намечается снова тяжелый. Пройти за один день на собаках 75 км по тундре, мягко сказать, сложно. Опять бежать за нартой! Что плохо, так это то, что река, по которой в основном придется нам передвигаться, замерзла не везде. Есть опасность нырнуть.
Копилка моя вовсе сегодня не пополнялась, так как сегодня почти никто не ругался. Все как-то помалкивали. Только Гена, что-то вдруг вспомнив, засадил матюгом.
Вообще, Гена совершенно опустился. Ходит исключительно в кальсонах и нижней рубахе. И не только дома, но и по поселку, и в магазин. Только накинет шубейку и бежит.
Если считать грубо, в походе мы уже пятый месяц. Время пролетело фантастически быстро. Посмотрим, что будет дальше.
2–3.II.73
Холодно ночью было очень. Встали рано. Должны были отправиться в путь на собаках…
Ах, Федор Михайлович, привет Вам большой! (Ситуация по накалу и столкновению человеческих характеров совершенно по Достоевскому.)
Дело вот в чем. Вообще-то и раньше такое проглядывало уже в наших отношениях. Зорий – узурпатор, органически не терпит никакого противления внутреннего по отношению к себе. Но и я ведь такой же. Так что мы с ним давно жили в незримой борьбе друг против друга. В игре с матом пока один Зорий оставался «чистым». А так как он человек внешний во всех проявлениях, то наверняка перед «финишной чертой» хотел бы заплатить красиво, то есть не так, как все – случайно обмолвившись, а сознательно положить трешку или пятерку на стол и на всю сумму эффектно выругаться. Я же, разгадав его желание, не хотел предоставить ему этот шанс.
Гена совершенно опустился. Ходит исключительно в кальсонах и нижней рубахе. И не только дома, но и по поселку, и в магазин.
Так вот, уже за полночь легли мы спать. Володи и Гены не было, Женя спал. И вот среди ночи приперся к нам пьяный коряк (он делал нам ножны для купленных нами у других сельчан знаменитых паренских ножей и пришел за платой). Мы хотели спать и, естественно, были недовольны, что он завалился к нам. Разозленный Зорий привстал с постели и, выругавшись, спросил кузнеца, почему его принесло так поздно. В эту секунду я, хоть и слышал, как Зорий ругается, не обратил на это внимания, так как ругался сам. Но интонация его и сама фраза так и запала мне в слух, и, едва кузнец ушел, я вспомнил вдруг о неучтенном ругательстве и сообщил Зорию, что с него рубль. Он тут же отказался, сказав, что не помнит такого и что, если с кого и рубль, то с меня, так как судья обязан сразу уличить виновника. Я возразил ему, что все это не важно. Мне нет смысла врать, и если уж сделали меня судьей, то должны верить.
В ответ Зорий, с присущей ему демагогической фигурностью, начал вещать о презумпции невиновности, о юриспруденции вообще, об институте судейства в частности, о нормах порядочности у разных культур и народов, и многих других занимательных вещах в том же духе. Вскользь же заметил, что вообще хотел в итоге положить пятерку и «выругаться на все!»…
Я понял, что не ошибся в догадке, – именно это желание его и есть главное! Все остальное не важно. И если он теперь заплатит рубль и против его имени поставят галочку, весь шик пропадет! Лопнет то внешнее, что для него крайне важно.
Мы долго спорили, и спор этот, в общем-то, уже не касался придуманной нами игры. Здесь пошла уже другая игра – «кто кого?». Если Зорий заплатит теперь рубль, да еще без свидетелей, – рухнет план этого эффектного жеста под занавес! Лопнет идея! И дело даже не в величии и уникальности ее, а в том, что она его! И он не может поступиться ею из-за кого-то, тем более из-за меня. Я увидел, что он опасается даже того, что я расскажу об этом казусе ребятам. Действительно, тогда уже не будет задуманного им эффекта. Я чувствовал, что он злится от бессилия, и оттого так криклив, но я только чувствовал от этого какую-то нехорошую радость.
Когда мы встали утром, я решил подождать того момента, когда Зорий будет наиболее раздражающе на меня действовать. Чтобы тут и начать эту историю (чистый Федор Михайлович!).
……………………………………………..
Прервал запись и только теперь продолжаю ее, хотя за это время произошли и куда более важные события.
Еще ночью я сказал ему, что представляю, какой жуткий крик поднимут ребята, и особенно Володя, проигравший уже 11 рублей. Зорий промолчал…
Я знал, что утром сам он не заговорит на эту тему и вообще будет крайне приветлив, дабы «не будить лиха». Так и случилось. Он никому не делал ни малейших замечаний и, как ни странно, вообще не раздражал. Однако я понимал, что раздражусь на него рано или поздно – на какую-нибудь его внешнюю выходку или чванливо-графоманский разговор с кем-либо, с привлечением в него больших имен… Но понимал я и то, что спустя некоторое время история эта перестанет быть актуальной для нас всех, не говоря уже о том, что судейская моя правота действительно утратит юридическую силу «за давностью времени». Поэтому, выждав момент, я «внезапно вспомнил» о вчерашней сцене.
Что тут началось! Какой вой! А как разозлился Зорий! Он залез в такую узкую бутылку и отмахивался из нее с такой силой, словно там был запущен реактор демагогических доводов. А я, хотя и понимал, что моя правота всем очевидна, хотя понимал и всю бессмысленность и несерьезность этой истории, ничего не мог с собой поделать! Иезуитствовал как только возможно.
* * *
Каюры должны были приехать за нами в шесть утра. Возглавить их должен был их же парторг. Это коряк, говорящий по любому поводу и без повода: «Так вот, товарищ! Мы всего добьемся! Все сделаем!» Но ничего они не добиваются и ничего не делают.
Он пришел к нам только в семь утра и сказал эту фразу. На вопрос «где остальные?» – ответил, что уже все едут, и гордо ушел (за ними, видимо).
Но наши надежды на то, что каюры вот-вот появятся, оказались тщетны. Дело в том, что если в день нашего выступления в клубе водку здесь не продавали, чтобы все зрители в зале были тверезые, то уже на другой день, то есть накануне нашего отъезда, с утра вся деревня (включая парторга, завхоза и председателя товарищеского суда) была «в дупель». Часов этак с семи утра. Такое явление воспринимается здесь так же спокойно и естественно, как, например, у нас в России спокойно отнесутся к тому, если в получку по улице пройдет выпивший человек.
Так что деревня вся в «кусках». И каюры наши не составили исключения. А как же иначе? Если бухие все – старики, женщины, дети… – все!
Очень страшная, маленького роста, горбатая и растрепанная старуха плашмя повалилась на кухне и опрокинула на себя таз с помоями.
Только где-то к 10 утра каюры начали съезжаться к нам, но в виде «самом необыкновенном». Мы стали укладываться, и тут началось уже что-то невообразимое!.. Ужели никогда ни у кого не будет счастливой возможности взять обычный «Ariflex» и «Kodak» и все это, как есть, заснять. Вся деревня пришла к нам! Но не провожать, а опохмелиться. Они несли стальные ножи, которыми славится Парень, малахаи, стоптанные туфли, сумочки… – все! Вообще, когда в национальном селе появляется русский, за выпивкой идут к нему, так как он обладает чудесной способностью ее покупать. Русскому всегда отпускают. Местным же – в определенные дни.
Так вот: дом наш наполнился людьми. Чудовищно! Куросава – мальчик. Гиньоль – вообще детский лепет.
Очень страшная, маленького роста, горбатая и растрепанная старуха, рыдая и хохоча одновременно, хватала меня за рукава и умоляла о чем-то на своем языке. Она была совершенно пьяна. Потом она плашмя повалилась на кухне и опрокинула на себя таз с помоями.
Хромой кузнец, которому мы заказывали ножны и который вчера заявил нам гордо и независимо, что вообще не пьет, прискакал с клюкой в совершенно невменяемом состоянии и потребовал стакана.
Посреди такого ужаса мы продолжали собираться, а людской пьяный водоворот вращался вокруг нас и жил своей непостижимой жизнью…
Пришла чрезвычайно опухшая «дама в мехах». Действительно, на ней была какая-то задрызганная, чуть лохматая доха, надетая непосредственно на ночную рубашку. На голове была ушанка, во рту папироса. Бессмысленно улыбаясь, дама слонялась по комнате. В руке, совершенно непонятно зачем, она держала цепочку с ошейником.
Тем временем на улице между каюрами началась драка. Дрались два старика. Они плевались, махали руками, падали на запряженных собак, отчего начинали драться и собаки. Лай, крики, мат… Мы собираемся. Но от одной мысли, что с этими людьми придется ехать 70 км по тундре, становится дурно.
Ведь нам нужно было засветло приехать в Верхний Парень. В реальности этого плана уже закрадывались смутные сомнения, хотя еще вчера все в один голос нас уверяли, что дорога отличная и что если пустые каюры добираются туда за 4 часа, то, груженные, они доберутся за 8, как пить дать! «Это точно!» «И даже наверняка!»
Драки у них удивительны. Они плюются, резкими движениями обеих рук пихают друг друга, впрочем, не причиняя противнику никакого вреда. Дрались и собаки…
Бабушка уже поднялась и теперь писала в углу, «в тамбуре». Делая это, она продолжала что-то говорить. «Дама в мехах» тем временем что-то мне пыталась объяснить. Она пускала клубы дыма, улыбалась, обнажая редчайшие темно-бурые зубы. Говорила же она о том (как я понял, прислушавшись), что ей всего-то 38 лет, и что день рождения у нее – 1-го мая, и что неплохо бы, если бы я ей прислал открыточку с душевным поздравлением.
В это время мой каюр, у которого не хватало двух собак, отвязал их от чужой упряжки, на что хозяин ее, совершенно чуть трезвый, ответил торопливым дуплетом из ружья. Промазал, бедняга. Было уже 11 часов.
Мы кое-как уложились. Было семь нарт. На одной из них ехала мамушка – жена завхоза. По степени трезвости она не составляла исключения… Когда я уже уселся на нарту, наконец уговорив бухого своего каюра, что пора нам ехать, «дама в мехах» бросилась ко мне, да упала и совершенно случайно влепилась лицом в собачье говно, только что произведенное одним из кобелей. Это немного ее успокоило – она так и осталась лежать на дороге.
Фантастика! Поехали!..
Но что это была за езда, Господи! Каюры останавливались чуть ли не каждые десять метров и затевали драку. А драки у них удивительны. Они плюются, резкими движениями обеих рук пихают друг друга, впрочем, не причиняя противнику никакого вреда.
Дрались и собаки… Прошло уже более двух часов, а проехали мы километра четыре-пять… Совершенно неожиданно мой каюр выхватил из-за пазухи поллитровку и всосался в горлышко.
Зорий пытался уговаривать их, убеждать, грозить, но все это уже не имело никакого смысла. Нужно отметить, что коряки, ительмены, да и вообще все северные народности в пьяном виде совершенно одинаково бессмысленны. Что я имею в виду? Разные люди в пьяном виде и ведут себя по-разному – кто необыкновенно говорлив, кто поет, кто ругается, кто танцует, кто хохочет и так далее. Эти же совершенно индифферентно бессмысленны.
Во время зимних переходов никогда и никого не ждут. Причины просты: нарты мигом примерзают к насту.
Тут, конечно, дело вообще в уровне развития нации. Посреди наших утренних сборов я вдруг вспомнил статью какого-то м…дака в «ЛГ», (Трахтенберга, кажется), который вносил предложение отменить в нашем достигшем небывалого прогресса обществе деньги, заменив их электронными ключами и так далее. Самое смешное, что статью эту Зорий читал вслух накануне. А за замерзшим окном была Парень – с членами Политбюро на сарае и с совершенно пьяными жителями. Господи, как мы живем? Одни ничего не видят от врожденной слепоты, другие ничего и видеть не хотят от подлости, а третьи, хоть и видят, нишкнут!
Так, перемежая езду с драками, уговорами, травлей на снег, мы медленно продвигались. Наши сомнения в том, что доберемся засветло до Верхнего Парени, только усиливались. Домиков же для ночлега на этой трассе не было.
На очередной остановке мой каюр перелез к мамушке с явным желанием ее трахнуть, хотя на вид ей лет за пятьдесят. Мамушка же совершенно неожиданно достала из-за пазухи бутылку, и они моментально ее «раздавили». Просто с необыкновенной быстротой. После этого каюр мой отключился начисто.
Нужно было возвращаться. С такими каюрами мы рисковали вообще никуда не доехать. Но Зорий был в своем репертуаре. Это графоманское его упорство тупой яростью отозвалось во мне. Создавать трудности для того, чтобы их преодолевать, полагаясь и рассчитывая только на энтузиазм! Я давно заметил: стремление ощутить себя (хотя бы в своих собственных глазах) героем, лидером, крайне способствует рождению таких демагогических лозунгов как «Только вперед!», «Будьте мужчинами!» и тому подобного.
Я попытался объяснить ему, что это крайне неудобно и унизительно – тащить на себе совершенно пьяных каюров. А самое главное – человек должен знать, ради чего он что-то делает (тем более с немалым риском). Тут этого, «ради чего», просто не было! В тундре, не зная дороги, с пьяными каюрами… – ну полный же идиотизм!
И ясно, что Зорию все это требовалось лишь ради того, чтобы потом эффектно и увлекательно рассказывать об опасностях, подстерегавших нас в походе, о «лишениях и трудностях», мужественно им преодоленных. Я знал это наверняка, это меня и бесило… Есть такая категория людей, которые обожают символы. Причем символы псевдо. «Бумажник, который я пронес через всю Камчатку». «А это камень с могилы моего деда» и так далее. Все это удивительно внешне. Все это – для других.
Я объяснял Зорию, что, если мы сейчас продолжим путь, ночь застанет нас в тундре, а это –56, –59 °C и никакого домика. В ответ Зорий стал повторять выученные уже наизусть всеми сведения о хорошей дороге и о том, что каюры по ней добираются всего за 4 часа.
Я плюнул и не стал спорить.
Решили мамушку с моим «умершим» каюром отправить в обратный путь, на деревню. Я же двинусь дальше на его собаках сам.
Решили мамушку с моим «умершим» каюром отправить в обратный путь, на деревню. Я же двинусь дальше на его собаках сам.
Мамушка уехала, а мы тронулись дальше…
На чаевке был скандал: мы отнимали у каюров водку, а те ругались и плевались, сбрасывали с нарт наши вещи и грозились уехать без нас.
Зорий сначала кричал, потом уговаривал, а потом отдал им водку. Словом, суетился он, как мальчик, но опять-таки – ради чего?
«Почаевали». Мороз все усиливался. Хлеб уже рубили топором. Слава Богу, хоть не было ветра. Поехали дальше…
Неумолимо приближался вечер. Дорога же становилась все хуже и наконец пропала вовсе. Замело! Снег по жопу!.. С этого момента начались тридцать часов кошмара.
У меня было не 10–12 собак, а 8 всего. Большую часть приходилось бежать по глубочайшему снегу, толкая нарту. Я все больше отставал… И вот, даже на перевале холма, уже не увидел своих на горизонте. Было еще светло. Но нехороший холодок (теперь и изнутри) тронул сердце.
Тут надо сказать о суровых правилах тундры, ее непреложных законах. Во время зимних переходов никогда и никого не ждут. Причины просты: нарты мигом примерзают к насту. В зимней тундре главное – это собаки. Остановятся, замерзнут, уснут – их уже не поднять. Они должны бежать и бежать. Иначе смерть.
Причем и у самих собак есть свои правила. Если собака насрет под полозья, ее загрызут насмерть свои же. Потому что экскременты сразу замерзают под полозом. Если собака захотела по нужде, она просто ослабляет постромок, ее соседки чувствуют и видят, что она не тащит, и останавливаются. Собака отходит в сторонку, справляет нужду, и побежали дальше.
Поэтому рассчитывать на скорую помощь ушедших вперед, либо на то, что они остановятся до очередной «чаевки», чтобы дождаться меня, не приходилось.
К счастью, вскоре вдали показалась двигавшаяся нам навстречу охотничья нарта. Коряк-охотник на крупной собачьей упряжке возвращался домой – в ту деревню, откуда мы выехали.
Когда он поравнялся со мной, я его остановил и попросил дать мне хотя бы двух своих собак.
Он отвечает: «Не дам!» Я говорю: «Дай хоть одну собаку! Мне надо догнать своих!» Он говорит: «Не дам!»
У меня с собой был карабин СКС, давно замерзший, так что годился разве только на то, чтобы колоть оледеневшие буханки. Но я навел на охотника это оружие (он же не знал, что это ничем ему не угрожало). Он очень недобро глянул на меня и говорит: «Бери».
А я-то не знаю, как собак привязывать! Говорю ему: «Привяжи!» Указываю карабином.
Он привязал к моей нарте двух своих собак…
Но едва он уселся на свое прежнее место и покопался там под пологом, я ясно увидел наведенную на меня двустволку…
Прикрикнув на собак, он уезжал ко мне лицом, наведя на меня охотничье оружие, а я стоял и наблюдал, как он удаляется, держа его на прицеле. Так мы и расстались. Как в вестерне.
И началось самое главное. Собаки-то меня не знают, все они уже легли. Я начал их подымать – просто умолял подняться!.. Потом начал войтовать (видел, как это делается – когда переворачивается нарта и полозья освобождаются от намерзшего снега). Короче говоря, часа полтора я постигал курс молодого каюра… Наконец мне удалось поднять собак.
Мы побежали. Еще одна важная деталь: во время езды на собачьей упряжке ты бежишь, потом садишься на нарту, снова бежишь, снова садишься, – чтоб собаки не уставали. Когда бежишь рядом, держишься за вертикальный так называемый баран. Опять сел, опять побежал…
Спустилась ночь. Опять над головой загорелась Большая Медведица.
И вскоре я на горизонте – на краю белой тундры и звездного неба – увидел несколько ползущих темных точек. Свои!..
Часам к девяти вечера я их нагнал!
А уже к десяти у всех собаки выбились из сил. Остановились и тут же легли. Ни кустика, ни деревца кругом. Пустая, мерзлая, страшная тундра.
Даже костра развести мы не смогли. От холода у Жени и Володи лопнули стекла очков. Каюры раскопали снег и зарылись в него. Нахлобучили поглуше малахаи, сунули руки в рукава и уснули все, уткнувшись в снег, как куропатки. Они уже несколько протрезвели, но было им худо, конечно.
И началось самое главное. Собаки-то меня не знают, все они уже легли. Я начал их подымать – просто умолял подняться!..
Этот отдых мог быть не более трех часов. Дело вот в чем: кормить собак сейчас нельзя, так как после кормежки они должны полежать часов шесть. Если же их не кормить, то лежать им можно не больше трех часов. Иначе мерзнут и теряют форму.
А я решил вовсе не спать. Мне мой кукуль был мал – я очень боялся промерзнуть, уснув наполовину высунутым из своего кукуля, и не набрать потом тепла для дальнейшего пути. Сидеть тоже нельзя – окоченеешь. Только двигаться!
Мороз был страшный. Ночь, тундра. Костра нет. Все уснули… А я протоптал дорожку и ходил по ней туда и обратно – все три часа. Чего только не передумалось! Если останавливался, тут же засыпал. И когда закрывались глаза, ресницы сразу смерзались. Время тянулось мучительно.
Я вспоминал дом. Какие-то детские ощущения стали вдруг возвращаться ко мне. Вспомнил почему-то подмосковную платформу в жаркий будний день. Как метет ее теплый ветерок. Пыль тоненькими столбиками вьется над дощатым перроном, а в щели видны солнечные полосы на темной земле, усеянной железнодорожным мусором. Медленно по платформе тащится обертка от конфеты «Каракум». Горячие скамейки. Мальчик в трусишках и майке с исцарапанными коленками сосет леденец и глядит на удивительно облезшего пса, спящего у скамейки. Пес спит на боку и вздрагивает. Ему снится что-то важное, волнительное. Постанывает во сне, скулит, а потом вдруг быстро перебирает ногами, будто мчится куда-то…
Где-то теперь это платформа?
Я снова заставлял себя проснуться, ходил взад-вперед по тропинке и в какой-то момент, посмотрев в темноту, увидел… глаза. Точней, несколько пар мерцающих роскошно глаз. Я понял, что это волки.
И только тут я в полной мере оценил невероятное раз… байство, которое царило в нашем обществе. Не только в гражданском, но и в военном. Дело в том, что СКС, который выдали мне для охраны экспедиции, выдан был мне с летней смазкой. Именно так! У меня – новенький самозарядный карабин и огромный цинк с патронами. И то и другое совершенно бессмысленно. Стрелять нет возможности, так как СКС – в летней смазке. Единственное применение для карабина находилось, когда мы доставали хлеб во время привалов. Это было самое большое развлечение – ударить прикладом по буханке: она рассыпалась, как хрустальная.
Единственное, что имелось у меня из действующего оружия, это ракетница за поясом (поэтому она всегда была теплая) и несколько ракет в кармане.
И вот я, чтобы напугать волков и вообще осветить окрестное пространство, и понять, сколько же нас окружает зверей и насколько серьезны их намерения, я выстрелил в направлении мерцающих глаз, и ракета, рассыпаясь искрами, запрыгала по насту. Я увидел волков шесть или семь, когда они отскакивали в сторону. Это были полярные волки – неописуемо красивые! В белой шерсти, с очень мощной грудью. Очень собранные – не вытянутые, как европейские волки, а клубок мышц!
От холода у Жени и Володи лопнули стекла очков. Каюры раскопали снег и зарылись в него.
Все проснулись и повскакивали, конечно. Впрочем, каюры очень спокойно отнеслись к событию. Сказав, что волки собак не тронут, а если развести костер, вообще не подойдут, опять ткнулись в снег – досыпать.
Но уже никто из нас уже спать не мог. Каким-то чудом развели костер (уже не припомнить и из чего). И сидели у огня, пили чай, разговаривали и время от времени постреливали в разные стороны из ракетницы, что никак уже не беспокоило наших каюров, которые продолжали во сне мирно трезветь в естественном вытрезвителе паренской тундры.

Через три часа тронулись. Это был самый тяжелый переход. В темноте мы продолжали двигаться по глубокому и сыпучему, как речной песок, снегу. Теперь я знаю, что такое падать от усталости. Я падал от усталости. Во время отдыхов на нарте отключался, и мне тут же начинало что-то видеться…
Жутко хотелось есть. Все чаевки были на таком морозе, что ничего съесть не было возможности. Все замерзло намертво.
Примерно в 2 часа начался встречный ветерок, и от него совершенно отнялось лицо. Я просто перестал его чувствовать. Пришлось отвернуться, сесть спиной к дороге. В это время я ехал последним – собаки тащили потихоньку по уже пробитой колее. Глаза мои сами закрылись…
Мне приснилось песочное пирожное, «корзиночка»… И снова летние горячие доски перрона станции Перхушково, на которой мы всегда сходили, когда добирались на электричке на дачу.
И здесь каким-то уже отдаленным сознанием, словно находящимся уже вне меня, я вспомнил, что именно сладкое видится в снах замерзающим людям. Неимоверным усилием воли я себя заставил проснуться.
Попытался разлепить смерзшиеся ресницы и… не смог. Наконец мне с трудом удалось это сделать.
Была звездная ночь – и собаки лежали. Все!
Рук не чувствую. И никого кругом. Все, думаю, конец! А понять – обморожен или нет, я не могу. Здесь критериев нет.
Помоги, Господи!
Над собой я видел колоссальное, ярчайшее созвездие Большой Медведицы. Опять я представил себе, что эта Медведица сейчас, вот именно сейчас, висит и над теми, кто в Ялте, и над моей Николиной Горой, только там созвездия не видно, потому что сейчас там у нас день.
Я зачем-то представил, как забрасываю домой спиннинг через эту Большую Медведицу, и, словно за рычаг, зацепившись на эти дрожащие звезды и крутя катушку спиннинга, начинаю выматывать, вытягивать себя из полумертвого этого состояния.
Сначала и пошевелиться было невозможно. Засыпая, я был мокрый, и теперь весь застыл. Я словно находился в панцире, в ледяных латах – буквально.
Тогда я попробовал помочь себе просто дыханием, начал им по чуть-чуть подымать и опускать грудную клетку, начал двигать прессом, чтобы хоть как-то отогреть, расшевелить все заскорузлое, примерзшее к телу белье.
Это были полярные волки – неописуемо красивые! В белой шерсти, с очень мощной грудью. Очень собранные – не вытянутые, как европейские волки, а клубок мышц!
Заледеневшая ткань сначала вообще не поддавалась моим микродвижениям, но… вот мало-помалу стала поддаваться, я сумел пошевелить пальцами, а потом и разогнуть руки…
Попробовал подняться – не получается! Но еще, еще попытка… – и вот я уже потихоньку поднимаюсь, поднимаюсь… И тут я вдруг понял, что если сейчас я встану на ноги, то сразу упаду, потому что у меня не гнутся колени!
Начал двигать ногами и так постепенно, наверное, в течение минут сорока или часа, я отогрелся и даже вспотел!
Вторая задача была – поднять собак.
Надо сказать, собаки, оставшись в открытом пространстве зимой, выкручивают под собой лунки хвостами в снегу и укладываются. Вот и мои теперь в этих лунках, мертвые уже совершенно, лежат… Надо поднять вожака. Я поднимаю буквально руками его, он ложится, я поднимаю – он ложится…
Собаки обычно кусаются, если подходит чужой человек. Но эти уже такие промерзшие, уставшие были, что даже не кусались. Я их уговаривал, целовал, дышал на них, объяснял им что-то. Дыханием им веки оттаивал… Они стали просыпаться потихоньку, отряхиваться.
Я поднял нарты, стал войтовать – за время стоянки к полозьям примерз намертво наст. Потом положил, начал подталкивать санки – с тем чтобы собаки приняли. Они приняли. Вот мы и пошли, пошли, пошли… Сначала медленно, потом быстрее, дальше, дальше, дальше…
Голова поначалу работала четко, но потом от монотонности этого бега, хоть и был он тяжелым, все стало опять притупляться. Бегу ведь – а глаза слипаются! «Вот, – думаю, – упаду сейчас, и все. Собаки убегут, и конец. Если усну, уже не встану».

Путешествие на нартах по тундре
Сел на нарту. Собаки – умницы. Тянут. Хотя в дороге они – уже почти сутки. Руки все же отогрелись. Но шарф, которым обвязано лицо, превратился в ледяной панцирь. Усы к нему примерзли, носу больно, а снять этот шарф сил нет. Верней, страшно себе даже представить, как это теперь возможно – снять рукавицы, малахай, отодрать шарф, достать другой и все снова надеть. На этом ветру да при температуре –59 °C. Руки и лицо прихватит моментально.
Сначала и пошевелиться было невозможно. Засыпая, я был мокрый, и теперь весь застыл. Я словно находился в панцире, в ледяных латах – буквально.
Но пришлось все это проделать. Снова руки отнялись – будто картонные. Страшновато стало. Опять побежал… Устал. Но «устал» – это уже не то слово. А просто стал словно пьяный… Опять упал на нарту, и опять – какие-то странные, упоительные видения: Гагра, пляж, закат, Андрон… Теннисный турнир в Москве… Потом мне показалось, что я закрыл лицо от ветра рукой в оленьей рукавице, а на рукавице той, как на экране телевизионном, светится изображение. Передают футбольный матч: СССР – Бразилия…
Я не помню, сколько прошло времени, когда увидел вдалеке перед собой одну из наших нарт. Догнали собачки! Догнали родные!..
Мы шли всю ночь. То есть весь день и всю ночь. И опять рассвет застал нас в тундре. И опять удивительная была красота. И странное дело: с восходом солнца я словно обрел второе дыхание. Но какое!..
А ведь я ни минуты не спал. Все, что называл я сном, – не сон вовсе, а какой-то обморок. Шел, падая с ног, больше суток… Но настал момент, когда я вдруг почувствовал огромный прилив сил. Почувствовал в себе какую-то победу! Может быть, это было осознание того, что, как бы ночью мне ни было трудно, я не терялся, а заставлял себя соскакивать с нарты и бежать, утопая в тяжелом снегу, и, хоть страшно хотелось спать, на привале заставил себя топать по дорожке три часа кряду, чтобы сохранить тепло, не потерять самоконтроль. И если все это происходило жуткой ночью, так уж теперь-то я с восходом солнца!..
Во всяком случае, я чувствовал второе дыхание. Каждый подъем, который и вчера, и ночью был для меня сущей каторгой – теперь я встречал с радостью. Я бежал в горку, высоко поднимая ноги, хоть это самое тяжелое. Я не держался за нарту, я ее толкал, тянул – и собачки бежали веселее, с благодарностью оглядываясь на меня.
Я продолжал внутренне быть несогласным с Зорием, зная, что на любое мое осуждение, при благополучном исходе, он ответит презрением и словами о великой пользе трудностей для творчества (что тоже будет демагогией, ибо любая человеческая ситуация для художника – благо). Но я ничего уже не отвечал ему мысленно, и вслух тоже потом не сказал. Нужно было делать дело, уж коли теперь это необходимо и дано в условии задачи.
Во мне появился покой. Я подумал о том, что в Зории меня раздражает то, что, в сущности, является и чертами моего характера: узурпаторство, самодурство, капризность и «внешность» во многом. Подумал о том, что мне тоже будет приятно бахвалиться этим походом… Но в то же время что-то родилось и новое, и именно мое, как будто глубоко внутри, – то, что должно будет помочь напоминанием об этих минутах в иные минуты, может быть, и более тяжелые.
Меня сняли с нарты, занесли в тепло, раздели и сильно растерли спиртом и медвежьим жиром.
Над горизонтом уже подымался край солнца. А при такой температуре край солнца когда поднимается, явление это рождает не ветер, нет, это такое… Как будто воздух, скованный этим инопланетным морозом (–60 °C), просто чуть качнулся – потому что где-то там согрелось. И вот этой – вроде бы слабой, но страшной – волной так тебя обдает, что начинает тошнить. Вот-вот, кажется, и рвотный рефлекс уже нельзя будет сдержать… Но ты бежишь.
И вот этот длинный подъем. Нескончаемо длинный. Но солнце все выше… И я – счастливый! Я понимаю, что точно уже победил!!!
Вот уже гребень. Из-за него я вижу дымки труб! И такой же длинный и пологий спуск.
И, выйдя на гребень, я, счастливый, плюхаюсь на нарту… И эта нарта мигом разгоняется по склону (она же тяжелая) и начинает давить моих собак! Там только вой: раз – хлестнула кровища! Хлоп – оторвалась одна!.. Собаки даже не успевают отскакивать, за нартами катятся на постромках…
«Вот, – думаю, – упаду сейчас, и все. Собаки убегут, и конец. Если усну, уже не встану».
А я ничего уже не в силах сделать. За то мгновение, что мы летим вниз, я примерз к нарте от ледяного ветра и не могу соскочить! Как я ухватился за что-то, когда на нарты там на гребне сел, таким вот замороженным кулем и ткнулся – полозьями саней – прямо в дом.
Рядом там уже стояли и другие нарты – тех моих ребят, которые пришли раньше. И кто-то, выйдя по малой нужде, нашел меня – валявшимся в ледяном коконе возле этого дома. Сам я встать уже точно не мог, у меня просто не было сил.
Меня сняли с нарты, занесли в тепло, раздели и сильно растерли спиртом и медвежьим жиром. Дали мне выпить, и я тут же уснул – на полу в сельсовете.
Помню, разбудило меня не что иное, как до боли знакомое стрекотание старого кинопроектора. В том доме на белой одеяльной наволочке показывали фильм «Привидение в замке Шпессарт». Я спросил у ребят: «Уже вечер?» «Да, уже вечер, – был ответ. – Только уже второго дня». Оказывается, я проспал почти двое суток.
В одно из ночных видений придумался вдруг старичок для картины, что на вагоне сидит. Он должен быть очень смешной и пьяненький. И еще подумалось о персонаже с длинными-предлинными рукавами. Такими же, как в системе перетянутой кухлянки, в которой оленеводы держат все то, что носят обычно в кармане. А у них карманов нет. Они просто винтообразным движением достают руку из рукава – и она оказывается за пазухой: кладет туда что надо или забирает.
Хорошая краска и костюм для Кадыркула (будущий Каюм в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих. – Современный комментарий автора). Этакий странный человек, который держит руки за пазухой, а рукава болтаются, но в любую секунду руки в них могут появиться.
Это уже Чукотка.
4. II.73
В том доме, где мы спали, холод был уникальный. Проснулись. Ждем вертолета. Хоть и солнечно, но задувает сильная поземка. И мороз, как полагается, знатный.
Снабжение в этом районе Магаданской области отличное. Практически есть все. Сидим в сельсовете. Я привел оружие в порядок. Пока все нормально.
* * *
Нобиле пишет об Арктике: «Это чувство абсолютной духовной свободы, это отсутствие заботы о вещах материального свойства, не обязательных для бытия, эта вдруг постигаемая ничтожность тех идей, принципов и чувств, которые кажутся существенными в цивилизованном мире…»
«Человеческие законы уступают здесь место законам природы, а необъятное одиночество дает каждому возможность стать хозяином своего «Я».
Стать хозяином «Я»! Удивительная мысль, хотя и старая. Видимо, для русского человека это утверждение своего «Я» заключается в соотношении себя с Вселенной. Конечности с бесконечностью…
И опять – соединение масштабов.
* * *
5–6.II.73
Пришел вертолет. Полетели в Гижигу. Там встретились с киношниками. (Записываю все коротко, ибо ничего особенного не происходило.) Торжественное возложение венков. Потом вечером – выступление, после – банкет, то бишь пьянка.
С Зорием отношения удивительно холодны. Вызывает он во мне идиосинкразию. Обидчив он, оказывается, удивительно. Но смешно, если вдуматься, – чего ему на меня обижаться? Ведь вроде бы все у него нормально. Своего добился.

Н. В. Гоголь

М. Е. Салтыков-Щедрин
Если считает меня малодушным, то чего же обижаться? – наоборот, есть возможность подчеркнуть моим фоном собственную мужественность! Ан, нет, – надут и молчалив. Удивительно. Этот человек не допускает и возможности, что может быть не прав. То есть это исключено!
И еще – он чувствует, удивительно остро чувствует, что я вижу все движения его души, все его комплексы… А ведь слабые его места должны быть безупречно скрыты.
Полетели в Эвенск. Там встречали пионеры с горнами и барабанами. Господи! Где Гоголь и Салтыков? Ведь стыдно.
Пройденные пункты:
Тигиль
Седанка
Оссоре
Корф
Хаилино
Тиличики
Каменское
Манилы
Парень
Верхний Парень
Гижига
Эвенск

