Культура как ошибка
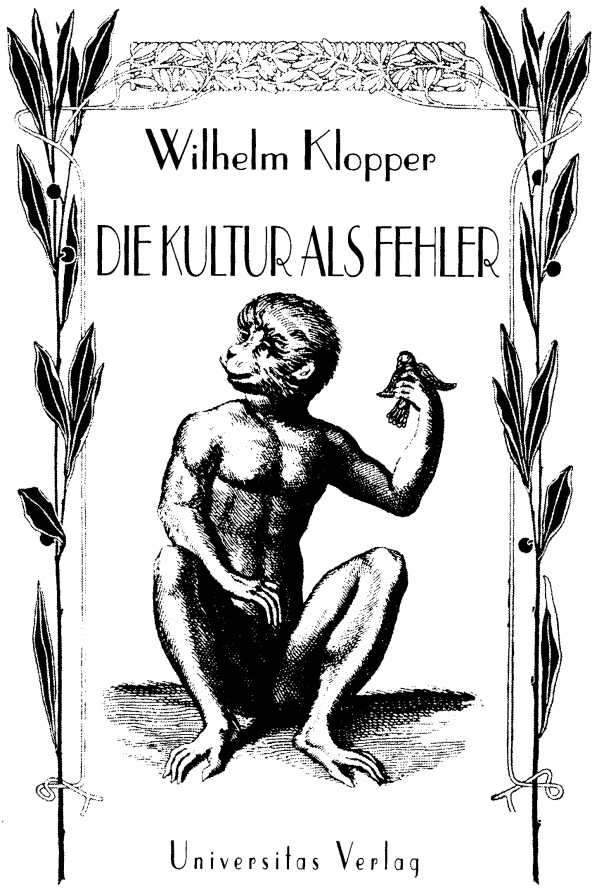
Сочинение приват-доцента В. Клоппера «Культура как ошибка», несомненно, заслуживает внимания как оригинальная антропологическая гипотеза. Но прежде чем перейти к сути дела, не могу удержаться от замечания о форме изложения. Эту книгу мог написать только немец! Склонность к классификации, к тому безупречному порядку, который породил бесчисленные справочники, превратила немецкую душу в конторскую ведомость. Дивясь бесподобной композиции, которой блистает эта книжка, нельзя не задуматься о том, что если бы Господь Бог был немцем, то наш мир, возможно, не стал бы лучше, но зато олицетворял бы собой муштру и порядок. Безукоризненность формы изложения просто подавляет – хотя нет никаких замечаний и по существу. Здесь не место вдаваться в пространные рассуждения о том, не оказало ли пристрастие к армейскому уставному строю, симметрии, равнению направо воздействия на выбор некоторых тем, типичных для немецкой философии и особенно – для ее онтологии. Гегель любил космос как Пруссию, ибо в Пруссии был порядок! Даже такой одержимый эстетикой мыслитель, как Шопенгауэр, в своем сочинении «Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde» продемонстрировал, как муштра влияет на стиль. А Фихте? Однако я вынужден лишить себя удовольствия – отклонений от темы, – что для меня особенно нелегко, ибо я не немец. Ну что же, к делу!
Клоппер снабдил свой двухтомный труд предисловием, введением и вступлением. (Идеал формы – триада!) Приступая к существу вопроса, он сначала обсуждает то представление о культуре как ошибке, которое считает неверным. Согласно этой, неверной, как утверждает автор, теории, характерной для британской школы, представленной главным образом Уистли и Сэдботтхэмом, любая форма поведения любого организма, которая не помогает и не мешает ему выжить, есть ошибка. Ведь для эволюции единственный критерий разумности поведения – это способность выжить. Животные, которые ведут себя так, что выживают успешнее других, поступают, согласно этому критерию, более разумно, чем те, которые вымирают. Беззубые травоядные с эволюционной точки зрения бессмысленны, ибо, едва родившись, должны погибнуть от голода. По аналогии с этим травоядные, которые хоть и имеют зубы, но жуют ими не траву, а камни, тоже эволюционно бессмысленны, поскольку и им суждено исчезнуть. Далее Клоппер цитирует известный пример Уистли: допустим, говорит английский автор, что в каком-то стаде павианов некий старый павиан, вожак стада, по чистой случайности начинает поедать птиц, как правило, с левой стороны.
Допустим, у него был искалечен палец правой руки, и, поднося птичку к зубам, он старался держать добычу левым боком кверху. Молодые павианы, перенимая повадки вожака, чье поведение является для них образцом, начинают ему подражать, и вот вскоре, то есть через одно поколение, все павианы этого стада начинают поедать пойманных птиц с левой стороны. С точки зрения адаптации это поведение бессмысленно, ибо павианы с одинаковой для себя пользой могут приниматься за добычу с любой стороны, тем не менее в этой группе зафиксирован именно такой стереотип поведения. Что же он собой представляет? Он представляет собой зародыш культуры (протокультуру) как поведения, бессмысленного для адаптации. Как известно, эту концепцию Уистли развил уже не антрополог, а философ английской школы логического анализа Дж. Сэдботтхэм, чьи взгляды, перед тем как оспорить их, автор излагает в следующем разделе («Das Fehlerhafte der Kulturfehlertheorie von Joshua Sadbottham»).
В своем программном сочинении Сэдботтхэм заявил, что человеческие сообщества создают культуру в результате ошибок, неудачных попыток, промахов, заблуждений и недоразумений. Люди, намереваясь сделать одно, в действительности делают совсем другое; стремясь досконально разобраться в механизме явлений, они толкуют их неверно; в поисках истины скатываются ко лжи – и так возникают обычаи, нравы, святыни, вера, тайна, маны; так возникают заветы и запреты, тотемы и табу. Придумают люди неверную классификацию окружающего мира – и появится тотемизм, создадутся неверные обобщения – и возникнет сначала понятие маны, а потом – абсолюта. Проникнутся люди ложными представлениями о строении собственного тела – и возникнет понятие греха и добродетели; будь гениталии подобны бабочкам, а оплодотворение – пению (при этом передатчиками наследственной информации были бы определенные колебания воздуха), эти понятия оказались бы совсем иными! Люди вдыхают жизнь в абстракцию – и возникает представление о божестве, занимаются плагиатом – и возникает эклектическое смешение мифов, чем, по существу, являются все основные религии. Словом, поступая бог весть как, неправильно, несовершенно с точки зрения приспособляемости, ложно оценивая поведение других людей, собственного тела, сил природы, считая предопределенным то, что произошло ненароком, а то, что предопределено, – чистой случайностью, то есть выдумывая все больше несуществующих явлений, люди обстраиваются культурой, по ее понятиям переиначивают картину мира, а потом, по прошествии тысячелетий, еще и удивляются, что им в этой тюрьме недостаточно удобно. Начинается это всегда невинно и на первый взгляд даже несерьезно, как у тех павианов, что съедают птичек, надкусывая их всегда с левой стороны. Но когда из этих пустяков возникнет система понятий и ценностей, когда ошибок, несуразностей и недоразумений наберется достаточно, чтобы, говоря языком математики, они смогли создать замкнутую систему, человек уже сам станет пленником того, что, являясь, по сути, совершенно случайным собранием всякой всячины, представляется ему высшей необходимостью.
Будучи эрудитом, Сэдботтхэм подкрепляет свои утверждения множеством примеров, заимствованных из этнологии; помнится, его сопоставления также в свое время наделали много шума, особенно таблицы «случайность и необходимость», где он сопоставил все ошибочные толкования, которые культура дает ряду явлений. В самом деле, многие культуры гласят, что человек смертен к силу некой случайности; человек, как утверждается, сначала был бессмертен, но затем лишился бессмертия либо за грехи, либо из-за вмешательства чьей-то злой воли; и, наоборот, случайное – сформированный в ходе эволюции физический облик человека – все культуры возвели в ранг обусловленной необходимости, вследствие чего основные религии и по сей день утверждают, что человек по строению тела неслучаен, ибо создан по образу и подобию Божьему.
Критика, которой доцент Клоппер подвергает гипотезу своего английского коллеги, не является ни новой, ни оригинальной. Будучи немцем, Клоппер разделил эту критику на две части: имманентную и позитивную. В имманентной он только отрицает положения Сэдботтхэма, эту часть мы опустим как малосущественную, поскольку в ней повторяются критические замечания, уже известные из специальной литературы. Во второй, позитивной части критики Вильгельм Клоппер переходит наконец к изложению собственной контргипотезы «культуры как ошибки».
Свое изложение он начинает, на наш взгляд, весьма удачно и эффектно – с наглядного примера. Различные птицы вьют гнезда из разных материалов. Более того, одна и та же порода птиц в разных местностях не сооружает гнезд из одинакового материала, поскольку полностью зависит от того, что найдет поблизости. Какой именно строительный материал – травинки, кусочки коры, листья, ракушки, камешки – птице легче отыскать, зависит от случая. Поэтому в одних гнездах будет больше ракушек, а в других – камешков, одни будут построены в основном из полосок коры, тогда как другие – из перышек и мха. Но хотя строительный материал, несомненно, сказывается на форме гнезда, все же нельзя утверждать, что гнезда являются результатом чистой случайности. Как гнезда есть орудие адаптации, хотя они строятся из случайно найденных кусочков чего попало, так и культура – это также орудие адаптации. Однако – в чем и заключается новая мысль автора – эта адаптация принципиально отличается от той, что присуща растительному и животному миру.
«Was ist der Fall?» («Каково же истинное положение дел?») – спрашивает Клоппер. Положение таково: в человеке, как в существе телесном, нет ничего обязательного. Согласно современной биологической науке, человек мог бы оказаться не таким, как в действительности, он мог бы жить в среднем не шестьдесят, а шестьсот лет, иметь иначе сформированное туловище, конечности, иметь другой аппарат продления рода, другой тип системы пищеварения: к примеру, мог быть строгим вегетарианцем, откладывать яйца, мог быть двоякодышащим, мог бы проявлять способность к размножению только раз в году, во время гона, и так далее. Правда, у человека есть одно свойство, которое настолько обязательно, что без него он не был бы человеком. А именно: человек обладает мозгом, способным к созданию речи и мышления, и, рассматривая свое тело и судьбу, которая этим телом определяется, человек покидает сферу таких размышлений крайне неудовлетворенным. Живет он недолго, к тому же много времени отнимает несознательное детство; годы самой плодотворной зрелости составляют лишь малую долю всей жизни; едва достигнув расцвета, человек начинает стареть, а в отличие от всех прочих созданий он знает, к чему приводит старость. В условиях естественной эволюции жизнь находится под постоянной угрозой и, чтобы выжить, нужно всегда быть настороже; поэтому эволюция очень сильно развила во всем живом болевые ощущения; страдания служат сигнализацией, побуждающей прибегнуть к мерам самосохранения. Зато в эволюции не было никаких причин, никаких влияющих на организмы сил, которые могли бы компенсировать это положение «по справедливости», снабдив организм в соответствующем количестве органами удовольствий и наслаждений.
Никто не станет возражать, продолжает Клоппер, что муки, вызванные голодом, жаждой или пыткой удушьем, несравненно более остры, чем удовлетворение от нормального акта дыхания, еды или питья, исключением из этого всеобщего правила асимметрии мук и наслаждений является секс. Но это и понятно. Если бы мы не разделялись на два пола или если бы наш генитальный аппарат был организован, как, скажем, у цветов, то он функционировал бы вне всяких позитивных чувственных ощущений, ибо тогда поощрение к активности было бы совершенно излишне. То, что существует сексуальное наслаждение и что над ним воздвигнуты невидимые дворцы царства любви (Клоппер, как только перестает придерживаться сугубо делового стиля, сразу же становится сентиментально восторженным!), проистекает единственно из факта существования двух полов. Представление о том, что homo hermafroditicus, существуй он взаправду, любил бы себя эротически, ошибочно. Ничего подобного, он бы заботился о себе исключительно в рамках инстинкта самосохранения. То, что мы называем комплексом Нарцисса и представляем себе как влечение, которое гермафродит ощущает к самому себе, в действительности является вторичной проекцией, последствием рикошета: такой индивид мысленно помещает в собственном теле образ внешнего идеального партнера (далее следует семьдесят страниц глубокомысленных рассуждений о возможных вариантах формирования сексуальной природы человека при наличии одного, двух и даже более полов, однако мы опустим и это обширное отступление).
Какое отношение ко всему этому имеет культура? – спрашивает Клоппер. Культура – это орудие адаптации нового типа, ибо она не столько сама возникает из случайностей, сколько служит тому, чтобы все, что в наших условиях является случайным, засияло в ореоле высшей и совершенной необходимости. А это означает, что культура – посредством созданных ею же религий, законов, заветов и запретов – действует так, чтобы недовольство превратить в идеал, минусы в плюсы, недостатки в достоинства, убогость в совершенство. Страдания нестерпимы? Да, но они облагораживают и даже спасают. Жизнь коротка? Да, но загробная жизнь длится вечно. Детство убого и бессмысленно? Да, но зато невинно, ангелоподобно и почти свято. Старость отвратительна? Да, но это приготовление к вечности, а кроме того, стариков надо почитать за то, что они старые. Человек – это чудовище? Да, но он в том не виноват, тому виною грехи предков или же дьявол, который вмешался в деяния Божьи. Человек не знает, к чему стремиться, ищет смысл жизни, несчастлив? Да, но это оборотная сторона свободы, ведь свобода является наивысшей ценностью, и не беда, если за обладание ею приходится дорого платить, ибо человек, лишенный свободы, был бы еще более несчастным! Животные, замечает Клоппер, не отличают падали от экскрементов; и то и другое для них лишь отходы жизненных процессов. Для последовательного материалиста сопоставление трупов с экскрементами должно быть столь же естественным. Однако от последних мы избавляемся незаметно, а от первых – с помпой, торжественно, обряжая во множество дорогих и сложных упаковок. Этого требует от нас культура как система условностей, которые помогают нам примириться с неприемлемыми для нас явлениями. Торжественные похоронные ритуалы – это лишь способ заглушить наш естественный протест против того позорного факта, что человек смертен. Ибо действительно постыдно, что разум, который целую жизнь наполняется все более обширными познаниями, в конце концов исчезает в луже гнили.
Стало быть, культура – это оправдательница всех возражений, возмущений, претензий, какие человек мог бы предъявить естественной эволюции, всем этим свойствам плоти, случайно возникшим и по случайности роковым, которые без спросу и согласия ему передали как наследие длившегося миллиарды лет процесса приспособления к сиюминутным нуждам. И вот с этим дрянным наследством, с этим балаганным сбродом недугов и наследственных хворей, растыканных по клеткам, скрепленных костями, перевязанных сухожилиями и мышцами, культура, рядясь в живописную тогу профессионального казенного адвоката, пытается нас примирить с помощью бесчисленных уловок, прибегая к аргументам, внутренне противоречивым, взывая то к чувствам, то к разуму, ибо для нее все способы убеждения хороши, лишь бы достичь своей цели: переделать плюсы в минусы, нашу нищету, наши увечья, наше убожество – в добродетель, совершенство и явную необходимость.
Монументальными аккордами стиля, в меру возвышенного и в меру строгого, завершается первая часть трактата доцента Клоппера, вкратце изложенная нами здесь. Вторая часть объясняет, сколь важно понимание истинного назначения культуры для того, чтобы человек мог надлежащим образом принять провозвестников будущего, которое он сам себе предуготовил, создав научно-техническую цивилизацию.
Культура – это ошибка! – возглашает Клоппер, и лаконичность этого утверждения вызывает в памяти шопенгауэровское «Die Welt ist Wille!». Культура – это ошибка, но не в том смысле, что она якобы возникла случайно, нет, ее возникновение было неизбежно, ибо, как следует из первой части, она способствует адаптации. Однако воздействие культуры умозрительно: ведь она не переделывает человека силой религиозных догм и заветов в существо действительно бессмертное, она не создает для человека случайного, homini accidentali, реального Бога-Творца, она, по существу, не отменяет ни малейшей частицы индивидуальных страданий, горестей и мук (Клоппер и здесь верен Шопенгауэру!) – все это она совершает лишь в сфере духа, толкований, интерпретаций; она наполняет смыслом то, что во внутренней своей сущности не имеет ни малейшего смысла, она отделяет грех от добродетели, благодеяние от подлости, позор от величия.
Но вот техническая цивилизация, поначалу мелкими шажками, мало-помалу продвигаясь вперед на примитивных тарахтелках, подползла под культуру – и задрожало здание, треснули стены хрустального ректификатора, ибо техническая цивилизация обещает подправить человека, оптимизировать его тело, его мозг, его душу; эта внезапно нахлынувшая исполинская сила (информация, что копилась веками и извергнулась в двадцатом веке) провозглашает возможность долгой жизни, граничащей с бессмертием, возможность быстро созревать и совсем не стареть, возможность бесчисленных физических наслаждений и сведения к нулю мук и страданий как «естественных» (старческих), так и «случайных» (связанных с болезнями), она провозглашает возможность свободы повсюду, где ранее слепой случай был обвенчан с неизбежностью (например, свободы подбирать черты характера человека, усиливать таланты, способности, ум, придавать телу человека, его лицу, мышлению произвольные формы, функции, при желании даже вечные, и так далее).
Что же надлежало бы сделать перед лицом этих обещаний, подкрепленных тем, что уже осуществлено? Пуститься в победный пляс, а культуру, эту клюку для увечных, костыль для хромых, кресло для паралитика, этот груз лет, отягчающий позор нашего тела, убожество нашего изнурительного существования, эту отработавшую свой век служанку, дóлжно признать всего лишь анахронизмом. Ибо нуждаются ли в протезах те, у кого могут вырасти новые конечности? Надо ли слепцу судорожно прижимать к груди свою белую палочку, если мы вернем ему зрение? Должен ли желать возвращения слепоты тот, кому сняли с глаз бельмо? Не лучше ли поскорее снести весь этот ненужный хлам в музей прошлого, чтобы упругим шагом направиться к ожидающим впереди трудным, но прекрасным задачам и целям? Пока природа наших тел – их медленный рост, их быстрый износ – была непробиваемой стеной, неприступной крепостью, границей существования, до тех пор культура помогала бесчисленным поколениям приспосабливаться к этому неотвратимому положению. Она примиряла с ним, более того, это она, как доказывает автор, превращала изъяны в преимущества, недостатки в достоинства подобно тому, как некто, обреченный ездить на разваливающейся на ходу, скверной и жалкой машине, постепенно полюбил бы ее убогость, стал искать в ее неуклюжести воплощения высшего идеала, в ее непрестанных поломках – законы природы и мироздания, в ее чихающем моторе и скрежещущих шестернях – деяния самого Господа Бога. Пока на примете нет никакой другой машины, это вполне правильная, вполне подходящая, единственно верная и даже разумная политика. Несомненно! Но теперь, когда на горизонте появился новый сверкающий лимузин? Теперь цепляться за поломанные спицы, приходить в отчаяние от одной только мысли, что придется расстаться с этим уродством, взывать о помощи перед лицом безупречной красоты новой модели? Конечно, психологически это понятно. Ибо слишком долго – тысячелетиями! – длился процесс подчинения человека собственному эволюционно сложившемуся естеству, это гигантское многовековое усилие, направленное на то, чтобы полюбить данную форму существования во всей ее нищете и безобразии, в ее убожестве и физиологических бессмыслицах.
В продолжение всех сменяющих друг друга культурных формаций человек столько всего нагородил вокруг этого, так сам себя загипнотизировал, так убедил себя в окончательности, единственности, исключительности, а главное, безальтернативности своей участи, что теперь при виде избавления от нее пятится, дрожит, закрывает глаза, испускает тревожные крики, отворачивается от своего технического спасителя, хочет сбежать все равно куда, хоть на четвереньках в лес, хочет этот благоуханный цветок науки, это чудо познания сломать собственными руками, растоптать и стереть в порошок, только бы не сдать в утиль давно устаревшие ценности, которые он вскормил собственной кровью, взлелеял во сне и наяву, пока сам себя не заставил полюбить их! Но эти бессмысленные поступки, этот шок, этот ужас с любой разумной точки зрения просто-напросто глупость.
Да, культура – это ошибка! Но лишь в том смысле, в каком было бы ошибкой закрывать глаза при виде света, отвергать лекарства при недуге, требовать ладана и магических заклинаний, когда у постели больного стоит ученый лекарь. Этой ошибки не существовало, ее просто не было до тех пор, пока не появилось и не поднялось на надлежащую высоту познание; эта ошибка – всего лишь запирательство, ослиное упрямство, отвращение, судороги ужаса, которые современные «мыслители» называют интеллектуальным анализом всемирных перемен. Культуру, эту систему протезов, надлежит отвергнуть, чтобы отдать себя под опеку знаний, которые переделают нас, доведя до совершенства, причем эта безупречность будет не выдуманной, не внушенной, не выведенной из хитросплетения внутренне противоречивых понятий и догм, а сугубо деловой, материальной, совершенно объективной, ибо само существование станет совершенным, а не только его истолкование, его интерпретация! Культуре, этой оправдательнице творческой бездарности эволюции, этому адвокатишке, ведущему заведомо проигранное дело, этому защитнику примитивности и соматической небрежности, надлежит удалиться прочь, когда дело переходит в иные, более высокие инстанции, когда разваливается крепостная стена дотоле нерушимых понятий. Технический прогресс уничтожает культуру? Дает свободу там, где ранее царил деспотизм биологии? Именно так! И вместо того, чтобы омывать слезами свою темницу, нужно ускорить шаг, чтобы выйти из сей мрачной обители. И тогда (это размеренными заключительными аккордами начинается финал) все, что говорится об угрозе, которую несет традиционной культуре новая технология, – правда. Но не нужно этого бояться, не нужно штопать рвущуюся по швам культуру, скреплять ее догмы булавками, противиться вторжению нового знания в нашу плоть и жизнь. Культура останется ценностью, но ценностью иного рода, а именно исторической. Ведь это она была той огромной теплицей, тем материнским лоном, тем инкубатором, в котором расплодились изобретения, в муках породившие науку. И это естественно: как развивающийся зародыш поглощает безжизненное и бездеятельное вещество яичного белка, так развивающаяся техника поглощает, переваривает и претворяет в собственную плоть культуру, ибо именно такова судьба яйца и его зародыша.
Мы живем в переходную эпоху, говорит Клоппер, и никогда не бывает так невыразимо трудно оценить и пройденный путь, и то, что еще предстоит, как в переходные моменты, потому что это – времена полной неразберихи в понятиях. Но процесс начался, он неотвратим. Во всяком случае, не следует полагать, что переход от биологического рабства к свободе самосозидания свершится мгновенно. Усовершенствовать себя раз и навсегда человеку не удастся, и процесс самопеределки будет длиться веками.
«Смею заверить читателя, – продолжает Клоппер, – что проблема, над которой бьется гуманист, придерживающийся традиционных взглядов, испуганный научной революцией, – это всего лишь тоска собаки по отобранному ошейнику. Вся проблема сводится к вере в то, что человек представляет собой клубок противоречий, от которых он не может избавиться даже тогда, когда это технически доступно, – иными словами, что нам нельзя перекраивать тело, ослаблять агрессивность, усиливать интеллект, уравновешивать эмоции, переиначивать секс, избавлять человека от старости, от родовых мук, а нельзя потому, что ранее этого никогда не делали, а то, чего никогда не делали, уже именно поэтому плохо. Гуманиста приводит в ужас необходимость излагать причины современного состояния человеческого духа и тела в соответствии с данными науки – как произвольную длинную цепь лотерейных выигрышей и проигрышей, многовековых конвульсий эволюционного процесса, которым вертели во все стороны различные землетрясения, великие оледенения, взрывы звезд, смена магнитных полюсов и прочие бесчисленные происшествия. Все, что эволюция по воле жребия нагромоздила сначала у животных, а затем у антропоидов, что свалили в одну кучу отбор и селекция, что изо дня в день закреплялось в генах подобно случайной комбинации костей, брошенных на игорный стол, нас понуждают признать неприкосновенной святыней, нерушимой во веки веков, даже толком не объясняя почему. Можно подумать, что для культуры оскорбителен наш вывод о ее работе, заведомо почтенной, об этом самом большом, самом трудном, самом невероятном и самом лживом из всех обманов, которыми обзавелся homo sapiens, за которые он ухватился, вытолкнутый на простор разумного существования из сомнительного притона, где продолжается мошенничество генов, где эволюционный процесс закрепляет в хромосомах свою шулерскую манеру передергивать карты; и впрямь, эта игра – всего лишь гнусное жульничество, которое никогда не стремилось к какому-либо высшему благу или цели, ведь в этом логове главное – выжить сегодня, и никому нет дела до того, что станет завтра с существом, которому удалось выжить лишь в силу компромисса, беспринципности – иными словами, позорно и унизительно. И поскольку все происходит совсем не так, как воображает себе трясущийся от страха гуманист, этот тупица, этот неуч, который без всяких на то оснований называет себя рационалистом, культура будет размыта, раздроблена, разобрана и исправлена согласно тем переменам, которым подвергнется человек. Там, где жизнь зависит от жульничества генов, от компромиссов адаптации, там нет никакой тайны, а есть лишь тяжкое похмелье одураченных, изжога, доставшаяся еще от предка – обезьяны; это – восхождение на небо по воображаемой лестнице, с которой в конце концов всегда падаешь вниз, схваченный за пятки биологией, и не важно, будешь ты приделывать себе птичьи перья или божественный нимб, придумывать непорочное зачатие или опираться на честно проявленный героизм. Итак, все необходимое останется нетронутым, исчезнет лишь, постепенно отмирая, строительный мусор предрассудков, толкований, уверток, втирания очков – словом, всей той казуистики, за которую испокон веков цеплялось несчастное человечество, чтобы приукрасить свое опостылевшее состояние. Из облаков информационного взрыва в грядущем веке явится Homo Optimisans Se Ipse, Autocreator, Самосозидатель, который посмеется над нашими кассандрами (если только ему будет чем смеяться). Мы должны приветствовать эту возможность, мы безусловно должны признать ее счастливым стечением космическо-планетных обстоятельств, а не биться в истерике от ужаса перед силой, которая сведет нас с эшафота, чтобы разбить оковы, которые носит каждый из нас, ожидая, когда иссякнет наконец источник наших физических сил, когда нас настигнет агония самоудушения. И даже если весь мир по-прежнему будет ратовать за то положение, которым эволюция заклеймила нас – страшнее, чем мы клеймим последнего преступника, – я никогда с этим не соглашусь и даже со смертного ложа буду хрипеть: „Долой эволюцию, да здравствует самосозидание!“»
Пространное изложение, цитатой из которого мы завершаем наш разбор, крайне поучительно. А поучительно оно прежде всего тем, что лишний раз доказывает: в мире нет явного для одних людей воплощения зол и несчастий, которого другие в то же время не могли бы считать олицетворенной благодатью и превозносить до небес. Как полагает рецензент, техноэволюцию нельзя считать панацеей от всех бед хотя бы потому, что критерии оптимизации слишком сложно связаны между собой, чтобы считать их универсальным средством (то есть заведомо безупречным практическим кодексом благих деяний). Во всяком случае, мы рекомендуем вниманию читателей книгу «Культура как ошибка», ибо она является еще одной типичной для нашего времени попыткой распознать будущее – все еще туманное, несмотря на совместные усилия футурологов и подобных Клопперу мыслителей.

