Рут
1
Шторм налетел на закате, с востока, обогнув Алеуты, скользнув вдоль побережья Аляски, и, завывая, устремился в воронку пролива Джорджии. Ураганной силы ветер вмиг погасил электричество, задув целый остров, как свечу. Только что остров был здесь — его присутствие отмечали скопления мигающих огоньков, — но в следующую минуту исчез, проглоченный тьмой, проглоченный бурей и морем. По крайней мере, именно так это выглядело бы сверху.
В следующие несколько часов ветер продолжал свои атаки на росчисть среди высоких деревьев. Домик на росчисти, обычно сиявший далеко в ночи, теперь был различим только по тусклому мерцающему квадратику окна спальни.
2
— …это оно и есть, — прочла Рут, с трудом различая буквы в тусклом свете керосиновой лампы. — Вот так и ощущается «сейчас».
Голос ее звучал так слабо и тихо в завывающей пустоте исхлестанной ветром ночи, но на единственный долгий момент эти слова заставили замереть все. Мигнула лампа. Мир затаил дыхание.
— Она догнала себя, — сказал Оливер в тишину.
Так они и сидели в кровати, бок о бок, и думали о том, что написала Нао, сознавая, что ждут, когда вновь поднимется ветер, но тишина все не отступала, и, наконец, Оливер сказал:
— Не останавливайся.
Рут перевернула страницу и почувствовала, как сердце пропустило удар.
Страница была пуста.
Она перевернула следующую. Пусто.
И следующую страницу после этой. Пусто.
Она пролистнула еще несколько страниц. В книге оставалось еще около двадцати листов, и все они были пусты. Ветер задул опять, нахлестывая деревья и полосуя тонкую жесть крыши полотнищами дождя.
В этом не было никакого смысла. Она знала, что страницы были исписаны, потому что, по крайней мере, два раза, мельком проглядывая всю книгу целиком, она проверяла, продолжала ли девочка свои записи до самого конца, и да, записи там были. Раньше слова здесь были, она была в этом уверена, но теперь они исчезли. Что с ними случилось?
Она быстро схватила налобник, висевший на столбике кровати, включила его и натянула на голову ремешок. Светодиод был ярким, как луч маяка. Она осторожно приподняла книгу и заглянула под нее, на покрывало, внимательно осмотрев крошечные холмы и долины, наполовину ожидая увидеть буквы, ушмыгивающие в тень.
— Что ты делаешь? — спросил Оливер.
— Ничего, — пробормотала она, еще раз лихорадочно проглядывая страницы, на случай, если слово-другое, отбившееся от других, осталось в книге, зацепившись за строку или застряв в переплете.
— Что значит — ничего? — спросил он. — Продолжай читать. Я хочу знать, что там дальше.
— Дальше там ничего. Это и значит. Все слова исчезли.
Он мягко выдохнул.
— Что значит — исчезли?
— Это значит, что слова там были, а теперь их нет. Испарились.
— Ты уверена?
Она подняла книгу и показала ему.
— Конечно, я уверена. Я проверяла. Несколько раз. Раньше записи продолжались до самой последней страницы.
— Слова не могут так просто взять и исчезнуть.
— Ну, эти исчезли. Это необъяснимо. Может, она передумала, или еще что.
— Ты немного преувеличиваешь, как тебе кажется? Не может же она пробраться в книгу и забрать их назад?
— Но я думаю, именно так она и поступила, — сказала Рут. Она выключила фонарик. — Будто ее жизнь просто стала короче. Время утекало у нее между пальцами, страница за страницей…
Он не ответил. Может, он размышлял. Может, уснул. Она еще долго лежала, вслушиваясь в шторм. Теперь дождь шел горизонтально, стуча в окно, будто некое существо, пытающееся проникнуть в дом. Керосиновая лампа на столике у кровати все еще горела, хотя фитиль явно пора было подрезать — он ужасно плевался и сыпал искрами. Надо было потянуться и задуть лампу, но она не любила запах керосина и дыма и потому тянула время. Керосиновые лампы и светодиоды. Новые и старые технологии, схлопывающие время в одно парадоксальное настоящее. Запах китового жира — был ли он хоть немного приятнее? В неровном свете фигура лежащего рядом Оливера была едва различима: тусклый, неверный силуэт то гас, то снова выныривал из темноты. Когда он, наконец, заговорил, голос его прозвучал так близко, что она вздрогнула.
— В таком случае, — сказал он, — под угрозой не только ее жизнь.
— Что ты имеешь в виду?
— Наше существование теперь тоже под вопросом, тебе не кажется?
— Наше? — сказала она. Это он так шутил?
— Ну да, — сказал он. — То есть, если она прекратит нам писать, может, мы тоже перестанем существовать.
Теперь его голос, казалось, звучал издалека. У нее с ушами что-то не в порядке, или это шторм? Тут ей в голову пришла другая мысль.
— Мы? — повторила она. — Она писала мне. Это я — ее «ты». Это меня она ждала. С каких это пор «я» стала «нами»?
— Мне она тоже небезразлична, знаешь ли, — сказал он. Голос его опять звучал близко, у самого уха. — Я слушал, как ты читаешь ее дневник, так что, думаю, я теперь могу считаться частью тебя. И потом, откуда ты знаешь, что она не обращалась ко мне с самого начала?
Сквозь рев ветра трудно было разобрать, но ей почудилось, будто она уловила в его голосе некую нотку, легкий оттенок скрытой усмешки. Она включила налобник и направила луч ему прямо в лицо.
— Ты думаешь, это забавно?
Он поднял руку, защищаясь от слепящего света.
— Совсем нет, — сказал он, моргая. — Пожалуйста…
Вняв его просьбе, она отвернулась.
— Я серьезно… — сказал он, исчезая во мраке. — Может, мы больше не существуем. Может, с Песто именно это и случилось. Он просто свалился с нашей страницы.
3
Снаружи, среди ветвей высокого кедра, что рос у поленницы, джунглевая ворона нахохлилась под тяжелыми каплями дождя. Ветер хлестнул меж ветвей, взъерошив блестящие черные перья. Ке-ке-ке, — сказала ворона осуждающе, но ветер не расслышал ее сквозь неумолчный гул, и ничего не ответил. Ветка качнулась, и ворона крепче сжала когти, приготовившись сорваться вперед и взлететь.
4
— Да ты еще более сумасшедший, чем я, — сказала она.
— Совсем нет, — ответил он. — Напротив. Нам нужно просто подойти к этой проблеме логически. Шаг за шагом.
Было в этой тираде что-то чересчур рассудочное, вкрадчивое, что заставило ее насторожиться.
— Ты меня заманиваешь, — сказала она. — Прекрати это.
— Если ты так уверена, что слова там были, — продолжал он. — Значит, ты должна отправиться на поиски.
— Это просто смешно…
— Слова там были, — сказал он. — А потом потерялись. А теперь подумай, куда деваются потерянные слова?
— Мне-то откуда знать?
— Потому что это твоя работа? — До того он обращался в основном к потолку, но теперь повернулся и посмотрел прямо на нее. — Ты же писатель.
Это, была, наверное, самая жестокая вещь, какую он только мог сказать.
— Но я не писатель! — вскрикнула она, и голос ее взмыл над ревом бури. — Раньше — да, была, но не теперь! Слова просто исчезли…
— Хм, — сказал он. — Может, ты слишком стараешься. Или ищешь не там.
— Что ты имеешь в виду?
— Может, они здесь.
— Здесь?
— Почему нет? — он вновь обратил взгляд к потолку. — Подумай об этом. Откуда берутся слова? Они приходят к нам от мертвых. Мы получаем их в наследство. Временно вызываем мертвых к жизни с помощью слов. — Он перекатился на бок, приподнявшись на локте. — Древние греки верили, что, когда ты читаешь вслух, на самом деле это говорят мертвецы твоими губами, чтобы вновь обрести голос.
Он наклонился, потянувшись к лампе на столике у кровати; его длинное тело нависло над ней. Он придержал ладонью стеклянную трубку лампы, чтобы задуть огонь, и на секунду свет, идущий снизу, одел его глазницы в глубокие тени, сделав его лицо похожим на череп.
— Остров Мертвых. Где же еще искать потерянные слова?
— Ты меня пугаешь…
Он рассмеялся, потом дунул в лампу. Комната погрузилась во тьму, и в воздухе призраками повисли едкие запахи керосина и дыма.
— Сладких снов, — сказал он.
5
А если я так далеко зайду во сне, что не успею вернуться, когда надо будет проснуться?
— Тогда я приду за тобой и приведу обратно.
На что похоже расставание? На стену? На волну? На поверхность воды? Световая рябь, мельтешение разбегающихся элементарных частиц? Каково это — пробиться, протолкнуться насквозь? Пальцы ее шарят по шероховатой поверхности сна, осязая и узнавая сплетение волокон, понимая, что это — бумага, что вот-вот прорвется, но она хранит еще память об упругости, о течении соков в сосудах, о высящемся стволе. Дерево было прошлым, бумага — настоящим, и все же всеми фибрами бумага помнит о том, как быть единым, неразделимым телом. Она помнит свои соки, как сон.
Но она не ослабляет давления, пока волокна не поддаются, как камбий под топором, как плоть под ударом ножа…
Перед ней расступаются ветви, и вот она идет по тропинке, что вьется и кружит, и становится все уже и уже, заводя в густеющий лес. Дождь прекратился. Поют кузнечики. Аромат храмовых благовоний — кедр и сандал — висит в воздухе.
Что-то привлекает ее внимание, там, вдалеке — кластер пикселей, очертание, фигура? Трудно сказать. Оно мечется от дерева к дереву. Птица? Пиксели смыкаются, темнея, образ становится размытым и исчезает. Она напрягается, пытаясь вновь его различить, тянется к нему, и тут вспоминает. Может, ты слишком стараешься. Она прекращает стараться.
Иногда сознание уже здесь, а слова — еще нет.
Иногда ни сознания, ни слов.
Откуда взялись эти слова? Она уже и не идет больше. Она сидит на мягкой лесной подстилке у корней гигантского кедра. Мшистый дерн образует что-то вроде подушки, прохладной и сырой, но сидеть вполне удобно.
Сознание и слова — это временная сущность. Наличие и отсутствие — это временная сущность.
Паучок свешивает серебряную нить с ветки у нее над головой. Легкий ветерок качает верхушки деревьев. Туман и влага после дождя льнут к травам и папоротникам лесной подстилки. Каждая капля содержит в себе полную луну.
Какое-то движение на периферии зрения. Она поворачивает голову и видит пятку. Пятка в темном носке, а рядом с ней — вторая, такая же, и они болтаются, в метре или около того, над парой дешевых ботинок без шнурков, аккуратно выставленных рядком на изумрудно-зеленом ворсе мха. Она глядит вверх, на молчаливые тела, свисающие в тенях между ветвей, и знает, что все не так, но встать и бежать она больше не может. Тело ее стало тяжелым и беспомощным, как у этих повешенных, оно медленно вращается в густых, как грязь, потоках воздуха.
Или это вода? Да, теперь она плывет. Ей холодно, и она плывет; и море — черное и густое; и вокруг полно мусора. Она начинает тонуть, и густая жижа смыкается над ней.
Звуки сливаются и разделяются, гармонируют и диссонируют. Слова мерцают, они мечутся под поверхностью воды, как стайка рыбешек. Неуловимо. Мы спим всевместе в одномбольшомпомещении, лежим рядами, как мелкаярыбешка, которуювывеселисушиться…
Но что-то у слов пошло не так со временем — слоги продолжают звучать, отказываясь раствориться, упасть в тишину — и теперь звуки громоздятся друг на друга, как машины, столкнувшиеся на скоростном шоссе, обращая смысл в какофонию, и, поначалу даже не сознавая, она вносит свою лепту в общий шум — бессловесный, беззвучный крик поднимается у нее в горле и длится, и длится, бесконечно. Время вздымается, накрывая ее с головой. Она пытается не впасть в панику. Пытается расслабиться и отдаться на волю событий, противясь инстинктивному напряжению и желанию бежать. Но куда бежать? Она вспоминает лифт Дзико. Когда верх глядит вверх, верх — это низ… Но здесь нет верха. Нет низа. Нет «внутри». Нет «снаружи». Нет ни «вперед», ни «назад». Только эта холодная, всесокрушающая волна, этот безымянный континуум, растворяющий и объединяющий все и вся. Она теряет почву под ногами, отчаянно пытается выбраться на поверхность.
Чувства лижут край сознания, как волны — прибрежный песок. Дзико протягивает ей очки, и Рут берет их и надевает, потому что знает: иначе нельзя. Мутные линзы размывают мир, и сквозь нее струятся фрагменты прошлого монахини: призрачные картинки, запахи и звуки; мельком — женщину вешают за измену родине, шея ломается в петле; траурный плач юной девушки; вкус крови во рту, вкус сломанных зубов сына; вонь охваченного пламенем города; облако в форме гриба; парад марионеток под дождем. Мгновение она колеблется. Вот они, слова, на кончиках пальцев. Она чувствует их очертания, она может ухватить их и вытянуть, но она также знает, что ей осталось здесь недолго. За долю секунды она принимает решение, раскрывает кулак сознания и отпускает. Она не сможет удержать прошлое старой монахини и одновременно найти Нао.
Нао, — думает она. — Нао, now, nooo…
Взмах хвоста, и рыба уплывает, ускользает прочь, но она упорно преследует ее, руки и ноги движутся под водой в такт далекой музыке, как у пловчихи-синхронистки в ролике из старого фильма, пока ее не охватывает изнеможение, раскалывая мир, превращая в калейдоскоп фракталов — бесконечно ветвятся стволы, рябь на волнах — что, вращаясь, складываются в комнату с круглой кроватью «под зебру». Прекрасно, думает она; я, верно, уже близко. Она ищет взглядом Нао в зеркале — это логично, но видит только собственное отражение, которое ей не знакомо.
— Кто ты? — спрашивает она.
Отражение глядит на нее в ответ и пожимает плечами, отчего зеркальное стекло идет рябью, как поверхность пруда, куда кинули камень. Волны утихают, и отражение в зеркале уже другое, немного не такое, как было, но все равно это не она.
— Я тебя знаю? — спрашивает она.
Я тебя знаю? — беззвучно передразнивает ее отражение.
— Что ты здесь делаешь? — спрашивает она.
Что ты здесь делаешь? — немым эхом отзывается отражение.
— Ты насмехаешься надо мной? Почему? — спрашивает она.
Отражение отвечает, выдернув челюсть из суставов. Его рот, кроваво-красный, истекающий слюной, зияет жутким провалом. Вот он расплывается в улыбке, и из недр горла, как из тоннеля, выползает длинный раздвоенный язык и, извиваясь, вздымается вверх, как змея, готовая ужалить.
— Прекрати! — кричит она и тут замечает стоящую позади себя в зеркале юную девушку. Девушка обнажена, за исключением накинутой на плечи мужской рубашки. Галстук небрежно повязан вокруг шеи. Глаза их встречаются, и девушка начинает застегивать рубашку, но когда Рут поворачивается, девушка уже исчезла, и кровать «под зебру» пуста.
Не дай себя провести! — завывает ее отражение, и комната взрывается водоворотом света и зеркал.
— Подожди! — кричит она, но когда ее границы начинают уже растворяться в ослепительном свете, краем глаза она замечает что-то — что-то черное, быстро движущееся, дыру, промежуток, скорее отсутствие, чем присутствие. Затаив дыхание, она ждет, не смея повернуться и посмотреть прямо. Маленькая черная дыра начинает чистить перышки, пиксели сливаются, и вот она слышит тихое, но знакомое карканье.
Ворона?
Слово появляется на горизонте, черное на фоне невыносимого сияния, и, приближаясь, оно начинает вращаться и менять очертания, удлиняя свои «О», образующие спину и гладкое брюшко, поворачивая «А», которое превращается в голову, широко раскрывая клюв, «Р» уплощается, становится хвостом, «Н» поджимает лапки. «В» расправляет крылья, взмахивает ими раз, другой, третий, и вот, уже совершенно оперившись, она летит.
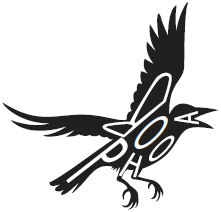
Это джунглевая ворона прилетела ее спасти! Вновь собравшись с духом, она бросается за вороной, которая перелетает с ветки на ветку, но ей приходится бежать по земле, и тропа усеяна камнями. Каждый раз, как она спотыкается или замедляет бег, ворона садится на ветку и поджидает, склонив голову набок и наблюдая за ней черной бусиной глаза. Она, похоже, куда-то ее ведет. Издалека доносятся звуки большого города; вот она взбирается по каменистому склону и оказывается посреди широко раскинувшегося городского парка, над искусственным озером. Края водоема заросли лотосами и камышом, но середина чиста. Уже закат, но несколько прогулочных лодочек пастельных цветов в форме длинношеих лебедей все еще скользят по зеркальной поверхности воды, оставляя за собой V-образные следы, пестрящие мазками розового, желтого, голубого. Пруд замыкает в кольцо широкая асфальтированная дорожка с расставленными через равные интервалы скамейками, будто цифры на часах.
На одной из скамеек, под плакучей ивой, сидит человек. Он бросает кусочки хлеба шайке задрипанных ворон, которые скачут, хлопают крыльями и склочничают друг с другом. Ворона приземляется у ног человека, подняв облако пыли; остальные отскакивают. Рут идет следом и садится на скамейку рядом с ним.
— Вы — участник? — спрашивает он.
— Участник?
— Клуба?..
— Не думаю.
— Ох. — Он явно падает духом. Смотрит на часы.
Она замечает пластиковый пакет у его ног.
— Брикеты? — спрашивает она, и видит, как он испуганно съеживается. — Странное время для барбекю.
Она глядит на пастельные лодочки, рассекающие озерную гладь. У них длинные, изящные шеи в форме вопросительных знаков и проникновенные лебединые глаза.
Человек прочищает горло, будто там что-то застряло.
— Вы уверены, что вы — не та, кого я жду?
— В общем, да.
— Может, вы здесь тоже с кем-то встречаетесь?
— Да, — говорит она. — С вами.
— Со мной?
— Да. Вы — Харуки № 2, верно?
Он глядит на нее во все глаза.
— Как вы узнали?
— Мне сказала ваша дочь. — Она бросается в разговор очертя голову, на честном слове и на одном крыле.
— Наоко?
— Да. Она, ммм, сказала, вас можно найти здесь.
Теперь он преисполнился подозрений.
— Откуда вы знаете мою дочь?
— Я ее не знаю, — отвечает она. Ее мысль лихорадочно работает. — То есть мы… подруги по переписке.
Он оглядывает ее.
— Вы немного староваты, чтобы быть ее подругой по переписке, — ляпает он.
— Ну, спасибо.
— Я не имел в виду… — начинает он, но тут ему в голову приходит другая мысль. — Вы с ней в интернете познакомились? Вы — из этих интернет-маньяков?
— Конечно, нет.
— Ну, слава богу, — отвечает он, расслабляясь. — Интернет — это просто отхожее место. Простите за выражение, — он бросает кусочек хлеба воронам. Вновь погружается в себя. — Никогда мы не думали, что все так получится…
— Ничего страшного, — говорит она. — Вообще-то, я ее на пляже встретила. На прогулке. Это было после шторма.
— А, — говорит он, кивая. — Это хорошо. Ей бы нужно побольше бывать на свежем воздухе. Мы часто бывали на пляже, когда еще жили в Калифорнии. Я беспокоюсь за нее. Знаете, она учебу бросила.
— В школе?
Он кивает, потом бросает воронам еще крошек.
— Я ее не виню. Ей приходилось сносить издевательства. Они страшные вещи про нее в интернет выкладывали.
Повесив голову, он вздыхает.
— Я программист, но сделать ничего не могу. Как только что-то туда попадает, оно там и остается, понимаете? Навсегда к человеку прилипает.
— Вообще-то у меня противоположенный опыт, — говорит она. — Иногда я ищу что-то, и в одну минуту информация здесь, вот она, а в следующую — пффф!
— Пффф?
— Уничтожена. Стерта. Вот так, — она щелкает пальцами.
— Уничтожена, — говорит он. — Хммм. И где же вы получаете такие результаты?
— Ну, в основном на острове, где я живу. Мы немного отстаем от остального мира во времени, и связь с большой землей у нас не слишком надежная.
Он поднимает брови.
— Интересная идея, — говорит он. — Мне самому всегда казалось, что время — штука не слишком надежная.
Приятно сидеть с ним на скамейке в парке и болтать, но мозг внезапно сводит судорогой, и она понимает, что время ее на исходе. Она встряхивается и пытается сосредоточиться.
— Вы хотите выслушать послание дочери или нет?
Она видит, как его перекашивает, но потом он кивает.
— Конечно.
— Хорошо, — она поворачивается на скамейке лицом к нему, чтобы он понял — это всерьез. — Она говорит: «Пожалуйста, не делай этого».
— Не делай чего? — спрашивает он.
Она указывает на пакет у его ног.
Его взгляд следует за пальцем, и плечи у него опускаются.
— О. Это.
— Да, это, — говорит она сурово. — Она беспокоится о вас, знаете ли.
— Правда? — В глазах у него вдруг загорается искорка какого-то чувства, но так же быстро угасает. — Что ж, потому-то лучше и покончить с этим как можно скорее, чтобы ничто не мешало ей жить своей жизнью.
Этот ответ ее бесит.
— Вы уж простите, что я вам это говорю, но нельзя быть таким эгоистом.
У него удивленный вид.
— Эгоистом?
— Конечно. Она — ваша дочь. Она любит вас. Как вы думаете, каково ей будет, если вы ее бросите? Это не то, что она сможет пережить. Она знает, что вы задумали, и если вы доведете дело до конца, она тоже намеревается покончить с собой.
Его бросает вперед; скорчившись, уперев локти в колени, он прячет в ладонях лицо. Воротник белой рубашки влажен от пота; сквозь ткань просвечивают контуры майки без рукавов. Тощие лопатки дергаются, как крылья у только что вылупившегося птенца — толку от них немного.
— Вы всерьез верите, что это правда? — спрашивает он сквозь пальцы.
— Да. Я уверена. Она сказала мне. Она собирается покончить с собой, и вы — единственный, кто может ее остановить. Вы ей нужны. И она нужна нам.
Он медленно качает головой из стороны в сторону, потом трет ладонями лицо. Глядит на пруд. Так они сидят долгое время, разглядывая веселые лодочки. Наконец, он заговаривает вновь:
— Я не понимаю, — говорит он, — но если то, что вы говорите, — правда, я не могу рисковать. Я еду домой, я поговорю с ней…
— Дома ее нет. Она на автобусной остановке в Сендай. Ваша бабушка…
— Да? — он поворачивается к ней, но ожидание у него на лице быстро сменяется тревогой. — Вы в порядке? — спрашивает он. — Вы так побледнели.
Ей еще столько всего хочется ему сказать, но слова не приходят. Мозг сводит судорогой, время ее почти истекло, но что-то еще она обязательно должна сделать, вспомнить бы… Она встает, и ее накрывает волной головокружения. Облезлые вороны каркают и ссорятся у ее ног, требуя добавки. Озираясь, она ищет взглядом джунглевую ворону, но та, похоже, исчезла.
— Ворона! — вскрикивает она, и тут гравитация подводит ее, и мир разжимает объятия, ускользая из-под ног, и ее сдувает куда-то назад.
Цветочная метель в лунном свете. Ночное кладбище при храме. Ветер терзает древнюю вишню, срывает цветы с ветвей, и сумрак полнится бледным хаосом лепестков, что кружат у ее плеч, опускаясь на древние каменные плиты. Деревянные таблички на могилах стучат и трещат, точно гнилые зубы призраков, и сквозь ветер она слышит голос, не голос даже, а, скорее, впечатление. Кажется, он произносит: «Только при полной почти луне…», этот голос, который даже не голос, а, скорее, вздох ветра в горлышке пустой бутылки. Почему здесь? — спрашивает она. Бросает взгляд вниз и видит, что сжимает в руках старую тетрадь, тщательно обернутую в измятую вощеную бумагу, и вдруг она вспоминает. Ей известен путь через храм к алтарю в кабинете. Ей известно, где лежит коробка, высоко на полке, и ей совсем недолго развернуть белую ткань, поднять крышку и вложить внутрь сверток с тетрадью. Она слышит шум и видит, что старая монахиня стоит в дверях, наблюдая. На ней черная ряса; она протягивает руки, охватывая мир, и рукава вздуваются. Они все больше, все шире, и вот они уже широки, как ночное небо, и, когда они уже могут вместить в себя все, Рут, наконец, может расслабиться и упасть в эти объятия, в это молчание, в эту темноту.
6
Буря ушла ночью, и в холодном свете дня она стояла у кухонной стойки в ожидании, когда закипит чайник. Было уже поздно, технически еще утро, но на деле ближе к полудню. Оливер проснулся раньше и ушел посмотреть, много ли повалило деревьев и не объявился ли Песто, но теперь он вернулся, и сидел на своем табурете у стойки, где сидел всегда, как правило, с котом на коленях. Он пил чай и проверял почту на айфоне, пока Рут пыталась рассказать ему о своем сне. Кот так или иначе ощущался где-то около него, но, скорее, своим отсутствием, такой котообразной дырой.
— Так и не смогла найти ее слова, — говорила Рут. — Я все искала, искала, но найти не смогла. Вернулась с пустыми руками.
Растопырив пальцы, она принялась разглядывать свои такие бесполезные ладони.
— Ну, — сказал он, — по крайней мере, ты попыталась.
— Вообще-то, в какой-то момент мне показалось, я что-то ухватила, прямо на кончиках пальцев, но потом поняла, что это — история старой Дзико, не Нао, так что я отпустила. Не хотела отвлекаться, понимаешь?
Оливер кивнул. Отвлекаться он умел, как никто. Она услышала характерный звук отосланного сообщения, потом он отложил телефон и отхлебнул остывшего чая.
— «Друзья Плейстоцена» спрашивают, когда будет готова моя монография, — угрюмо сказал он. — У меня уже должна бы быть готова рукопись. Почему я не могу сосредоточиться? Почему они так спешат?
Вопросы были риторические, и отвечать она не стала. Подлила ему кипятку в чашку, потом налила чаю себе.
— Единственные слова, которые я там нашла, принадлежали Харуки, — сказала она. — Те, из его тайного французского дневника, но их мы уже читали, так что я оставила их там.
— В том-то и сложность с плейстоценом, — сказал он. — Вечно им надо скорей, скорей, скорей. Хотят, чтобы все было готово еще вчера.
— Я положила их в коробку с его останками, прямо перед тем, как проснуться. Мне показалось, это было правильно — так поступить.
— Но они не виноваты, — сказал он. — Я знаю. Все из-за меня. Я просто не могу сосредоточиться без Песто.
— Ты слышал хоть слово из того, что я сказала?
Он поднял на нее взгляд.
— Конечно, слышал. Ну и сон у тебя был. Ты уже проверяла дневник?
Она отставила чашку.
— Ох, — сказала она. — Думаешь, надо?

