Нао
1
Трудно писать о вещах, которые случились в прошлом давным-давно. Вот Дзико рассказывает мне все эти дико интересные истории из своей жизни — ну, как ее идола, знаменитую анархистку и антиимпериалистку Канно Сугако, повесили за измену Родине, или как мой двоюродный дед Харуки № 1 погиб, атакуя американский военный корабль, выполняя самоубийственное задание, — и все кажется таким реальным, пока она говорит, но потом я сажусь записывать, и истории ускользают, ощущение реальности уходит. Прошлое — странная штука. Нет, правда, оно вообще существует? Ощущение такое, что существует, но где? И если оно существовало, но сейчас не существует, то куда оно делось?
Когда старушка Дзико говорит о прошлом, глаза у нее словно обращаются внутрь, она будто вглядывается во что-то, погребенное в глубине, в мозге костей. Глаза у нее мутно-голубые из-за катаракт, и, когда она вглядывается вот так внутрь себя, она будто уходит в иной мир, замерший в глубине льда. Дзико называет свои катаракты куугэ, это значит «цветы пустоты». Мне кажется, это красиво.
Прошлое старой Дзико очень далеко, но даже о прошлом, которое случилось не так давно, как, например, моя собственная счастливая жизнь в Саннивэйле, писать довольно трудно. Эта счастливая жизнь кажется реальнее, чем моя реальная жизнь, существующая сейчас, но одновременно это как воспоминание какой-то совершенно другой Нао Ясутани. Может, той Нао из прошлого на самом деле никогда и не было, кроме как в воображении этой Нао из настоящего, сидящей здесь, в кафе французских горничных в Акиба, Городе Электроники. Или, может, все ровно наоборот.
Если тебе приходилось когда-нибудь вести дневник, ты знаешь — проблема с описанием прошлого скрывается в настоящем: даже если пишешь очень быстро, все равно вечно застреваешь в тогда и никогда не успеваешь за тем, что происходит сейчас, а это значит, что сейчас обречено на вымирание. Безнадега, правда. Нельзя сказать, что сейчас всегда бывает таким уж интересным. Сейчас — это, как правило, всего лишь я, сижу в захудалом кафе с горничными или на каменной скамейке у храма по пути в школу, двигаю ручкой по странице туда-сюда тысячу миллионов раз, пытаясь догнать саму себя.
Когда я была еще совсем ребенком в Саннивэйле, я вдруг стала одержима словом now. Дома мама с папой разговаривали на японском, но все остальные говорили по-английски, и иногда я застревала между двумя языками. Когда это случалось, повседневные слова и их значения вдруг теряли друг друга, и мир становился странным и нереальным. Слово now казалось мне особенно странным, потому что это была я, по крайней мере, по звучанию. Нао стала now, получив в придачу еще целое второе значение.
В Японии у некоторых слов есть котодама — это дух, который обитает в слове и придет ему особую силу. Котодама слова now был похож на скользкую рыбу, гладкого толстого тунца с большим животом и головой и хвостиком поменьше и выглядел примерно так:
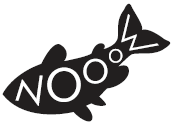
По ощущению NOW был вроде большой рыбы, которая глотала маленькую, и мне хотелось поймать его и заставить прекратить это занятие. Я была всего лишь ребенком и думала, если смогу по-настоящему понять смысл большой рыбы NOW, у меня получится спасти маленькую рыбку Наоко, но слово вечно ускользало от меня.
Думаю, в то время мне было лет семь или восемь, и я, бывало, сидела сзади в нашем «вольво-универсале», глядя на поля для гольфа, и торговые центры, и ряды домов, и фабрики, и соляные пруды, несущиеся мимо вдоль фривея Бейшоу, а вдалеке сверкали синие воды залива Сан-Франциско, и окно я держала отрытым, чтобы сухой, горячий, пахнущий бензином воздух обдувал мне лицо, и шептала: «Now!.. Now!.. Now!..» снова и снова, быстрее и быстрее, бросая слова ветру, пока мир пролетал мимо, и пыталась поймать момент, когда сейчас становится NOW.
Но пока ты произносишь «сейчас», оно уже кончилось. Оно уже превратилось в тогда.
Тогда — это противоположность сейчас. Так что сейчас уничтожает собственное значение, когда его произносишь. Вроде как слово совершает самоубийство, или типа того. Так что я начала его сокращать… now, ow, oh, o… Пока это не стало просто россыпью невнятных маленьких звуков, вообще совсем даже не словом. Это было безнадежно, все равно, что пытаться удержать снежинку на кончике языка или поймать пальцами мыльный пузырь. Пойманные, они прекращали существовать, и я чувствовала, что исчезаю тоже.
Подобные штуки могут свести с ума. О таких вещах мой папа думает постоянно, читая «Великих умов философии Запада», и, наблюдая за ним, я поняла, что рассудок свой надо беречь, потому что, если этого не делать, можешь закончить головой на рельсах.
2
Папин день рождения был в мае, а похороны мои случились месяц спустя. Папа был настроен довольно оптимистично, ведь он сумел прожить еще целый год, а еще он только что занял третье место в «Великих войнах насекомых» со своим Cyclommatus imperator, а это было нехилым достижением, потому что сделать расправленные крылья очень и очень непросто. Так что дела у папы шли совсем неплохо для личности с суицидальными наклонностями, и у меня все тоже было о’кей, для жертвы пыток. Ребята в школе все еще делали вид, будто я — невидимка, только теперь этим занимались все девятые классы, не только мой. Понимаю, это звучит достаточно дико, но в Японии это дело обычное, даже название для этого есть, а именно дзэн-ин сикато. Так что вокруг меня разворачивалось масштабное дзэн-ин сикато, и когда я проходила по школьному двору или по коридорам, или пробиралась к парте, то слышала, как одноклассники говорят что-нибудь вроде: «Переводная ученица Ясутани неделями не является в школу!». Они никогда не называли меня Нао или Наоко. Только «переводная ученица Ясутани» или просто «переводная ученица», будто у меня даже имени не было. «Переводная ученица болеет? Может, у переводной ученицы какая-нибудь мерзкая американская болезнь. Может, министерство здравоохранения поместило ее в карантин. Переводной ученице самое место в карантине. Она байкин. Фуу, надеюсь, она не заразная! Она заразная, только если ты займешься с ней этим. Фу, гадость! Она бомжиха. Я бы с ней не стал! Ага, это потому, что ты импотент. Заткнись!»
Ничего нового. Обычно все это говорилось мне в лицо, вот только теперь они говорили это друг другу, но все равно рядом со мной, чтобы мне слышно было. Другие штуки они тоже делали. Когда приходишь в японскую школу, сразу попадаешь к рядам шкафчиков, где тебе нужно снять уличную обувь и надеть сменку. Они ждали, пока я останусь в одном ботинке, вторая нога на весу, а потом врезались в меня, сбивали с ног и шли прямо по мне, будто меня тут не было. «Фууу, воняет!» — говорили они. «Че, кто-то на собачье дерьмо наступил?»
Перед физкультурой нужно переодеваться в спортивную форму, но школа моя была настолько убогой, что у них не было даже нормальных раздевалок, как в Саннивэйле, так что все переодевались прямо в классе, у своих парт. Девочки — в одном классе, мальчики — в другом, и надо было стоять здесь и снимать одежду и натягивать эту идиотскую форму, и, как только я раздевалась, девочки зажимали носы и рты и говорили: «Нанка кусай йо! Что-то сдохло?». Может, так у них и возникла идея похорон.
3
Примерно за неделю до летних каникул у меня возникло жуткое чувство, будто что-то опять изменилось. Перемены были незаметными, почти неощутимыми, но я сразу врубилась, и, если тебе приходилось когда-либо проходить через дедовщину, или пытки, или за тобой охотились, или преследовали, ты поймешь — это правда. Читать знаки учишься быстро, потому что от этого зависит твоя жизнь, вот только в этот раз не происходило практически ничего. Меня больше не сбивали с ног и не наступали в гэнкане, и никто не отпускал замечаний, что я больна или воняю. Вместо этого они все ходили вокруг меня очень тихо, с исключительно печальным видом, и когда кто-то из мелких зубрил вдруг не выдержал и начал хихикать, когда я проходила мимо, ему быстро дали пенделя. Я знала, вот-вот что-то произойдет, и это сводило меня с ума. Потом в обеденный перерыв я заметила, как они передают что-то из рук в руки, вроде как сложенную бумагу, типа карточек, но мне, конечно, никто ничего не передавал, так что пришлось ждать до второй половины дня, когда заканчивались клубы, чтобы что-то узнать.
В тот день я вернулась после школы домой, как обычно, и болталась по квартире, притворяясь, что делаю уроки, и пытаясь выдумать предлог, чтобы пойти на улицу опять, и тут папа начал шебуршать повсюду, явно что-то разыскивая, а потом я услышала вздох, и это значило, что искал он сигареты, и пачка была пуста.
— Урусай йо! — сказала я сердито. — Табако катте койо ка?
Мое предложение было исключительно щедрым. Папа не любит выходить на улицу, хотя автоматы с сигаретами — всего в паре кварталов от нас, но я, как правило, отказываюсь ходить ему за сигаретами, потому что из всех способов покончить с собой курение — самый глупый и самый дорогостоящий. Если вдуматься, зачем давать деньги и так богатым табачным компаниям за то, что они тебя убивают, верно? Вместо пластиковых шлепок, которые мы надевали, когда шли куда-нибудь по соседству, я натянула кроссовки для бега и по пути к двери сунула в карман маленький кухонный нож. Сбежала вниз по переулку и притаилась за рядом торговых автоматов, которые продают сигареты, порножурналы и энергетики.
Ждала я Дайсукэ-куна. Он был из моего класса и жил с мамой в том же доме, что и мы. Был он помладше меня, маленький и тощий, как насекомое-палочник, а мама его была не замужем и хостесс, так что к нему цеплялись почти так же, как и ко мне. Дайсукэ-кун был исключительно жалким созданием, и вот, наконец, он показался — брел, спотыкаясь, по улице, прижимая сумку к груди, держась поближе к высокой бетонной стенке. Он был из тех ребят, которые даже в штанах выглядят так, будто им следовало бы надеть шорты. Несуразная головенка, вертящаяся на длинной тощей шее, выпученные глаза стреляют во все стороны, хотя никто за ним не шел, — один его вид просто сводил с ума и страшно меня взбесил, и когда он проходил мимо автоматов, я выпрыгнула, схватила его и затащила в переулок, и, думаю, адреналин у меня зашкалил от ярости, придав мне сверхчеловеческие силы, потому что справиться с ним было легче, чем снять с веревки носок. Честно, это было отпадное ощущение. Я чувствовала себя такой крутой. Могущественной. Именно так, как представляла себе, когда фантазировала о мести. Я сбила с него школьную фуражку и схватила за волосы и толкнула на колени перед собой. Он скорчился и замер, как малютка-таракан, когда включаешь свет на кухне, за секунду до того, как раздавишь его тапком. Я задрала ему голову и прижала к горлу кухонный ножик. Нож был острым, и было видно, как на его тщедушной шее пульсирует вена. Перерезать ее ничего не стоило. И ничего бы не значило.
— Наками о мисеро! — сказала я, пиная его сумку носком кроссовки. — Выверни ее!
Мой голос звучал низко и грубо, как у сукэбан. Я даже сама удивилась.
Он открыл школьную сумку и начал вываливать все, что было внутри, к моим ногам.
— У меня совсем больше нет денег, — заикаясь, сказал он. — Они уже все забрали.
Конечно, забрали. Заводилы нашей школы, под предводительством настоящей сукэбан по имени Рэйко, организовали маленький такой бизнес — разводили на деньги неудачников вроде меня и Дайсукэ.
— Мне не нужны твои вонючие деньги, — ответила я. — Мне нужна карточка.
— Карточка?
— Которые они раздавали в школе. Я знаю, у тебя есть. Дай ее мне. — Я пнула его пенал с ультраменом; ручки и карандаши разлетелись веером. Опустившись на четвереньки, он шарил среди учебников. Наконец он протянул мне карточку, свернутую из бумаги, тщательно стараясь не смотреть мне в глаза. Я схватила карточку.
— На колени, — сказала я. — Закрой глаза и наклони голову. Руки под себя.
Он засунул руки под колени. Эта поза была хорошо ему известна, так же, как и мне. Так играют в игру под названием «кагомэ кагомэ»; играют в основном маленькие дети — это японский вариант всем известной детской игры «Сиди, сиди, Яша». Один из детей становится они и должен встать на колени в центре круга с завязанными глазами, а остальные ребята водят вокруг хоровод и поют такую песенку:
Кагомэ кагомэ
Каго но нака но тори ва
Ицу ицу деяру? Йоакэ но бан ни
Цуру то камэ га субетта
Юширо но шумэн дарэ?
Значит это примерно вот что:
Кагомэ, кагомэ,
Птичка в клетке,
Когда, когда ж ты улетишь?
Вечерочком на рассвете
Журавль и черепаха уж на том свете,
Кто там сзади, угадай?
Под конец песни хоровод останавливается, и они пытается угадать, кто из детей стоит позади него, и если угадал, то меняется с ним местами, и новый ребенок становится они.
Таковы правила игры, но в школе был в ходу другой вариант. Можно сказать, это был своего рода апгрейд под названием кагомэ ринчи, очень популярный в наши дни среди учеников старшей средней школы. В кагомэ ринчи ты должен стоять на коленях в кругу, руки подсунуты под колени, а остальные ходят вокруг, отпуская тебе тычки и пинки, и поют песенку-кагомэ. Когда песенка заканчивается, даже если ты еще способен говорить, ты не посмеешь назвать имя того, кто сзади, и даже если угадаешь, ты все равно будешь не прав, и они начнут все заново. В кагомэ ринчи, если ты становишься они, ты всегда будешь они. Игра обычно заканчивается, когда ты уже не можешь больше стоять на коленях и падаешь.
Так что Дайсукэ-кун стоял на коленях в переулке, крепко зажмурившись, и ждал, когда я ударю его, или пну ногой, или порежу его кухонным ножом, но я не торопилась. Было еще рано, в это время в переулке никого не бывало, потому что хостесс не в силах даже мусор вынести, пока не стемнеет. Я развернула карточку, которую он мне дал. Это было объявление о поминальной службе, выписанное кистью, в хорошей каллиграфии. Аккуратный формальный почерк, как у взрослого, и я подумала, может, это Угава-сэнсей написал. Поминальная служба должна была состояться на следующий день во время последнего урока перед летними каникулами. Усопшей была бывшая переводная ученица Ясутани Наоко.
Дайсукэ все еще стоял на коленях у моих ног, голова опущена, глаза закрыты. Я схватила его за волосы и вздернула ему голову, а потом сунула в нос бумагу.
— Что, доволен этим?
— Н-нет, — промямлил он.
— Усоцукэ! — сказала я, дергая его за волосы. Ну конечно, жалкое насекомое лгало мне. Если ты никто, ты всегда доволен, когда кого-то истязают вместо тебя, и я хотела наказать его за это. Волосы у меня в руке казались противными на ощупь, слишком жесткие для ребенка его возраста, будто волосы старика на голове мальчика, а еще они были жирные, будто он пользовался гелем маминого бойфренда. Мне стало противно. Я ухватила его посильнее и почувствовала, как фолликулы вылезают из пор. Я взяла нож и прижала лезвие к горлу. Кожа у него была бледной, почти синеватой — девичье горло. Натянутые сухожилия дрожали, и вены пульсировали под металлическими зубчиками лезвия. Время замедлило ход, и каждый момент разворачивался в будущее, исполненный бесконечных возможностей. Это будет так просто. Перерезать артерию и дать алой крови хлынуть, запятнать землю, и пусть его глупая ничтожная жизнь вытечет из его глупого ничтожного тела. Или освободить его. Отпустить жалкое насекомое. Что выбрать, было совершенно не важно. Я прижала лезвие чуть-чуть сильнее. Насколько сильно придется надавить? Если тебе приходилось разглядывать клетки кожи под микроскопом на уроке биологии, ты поймешь, как зубцы на лезвии ножа способны разрывать клетки на части, пока не пойдет кровь. Я подумала о своих завтрашних похоронах, и какой это будет хороший способ все прекратить. Дать им настоящий труп. Не мой.
Дайсукэ застонал. Глаза у него были закрыты, но рот будто размяк, и лицо было странным образом расслаблено. Капелька слюны стекла из уголка потрескавшихся губ. Казалось, он улыбается.
Мой кулак, сжимавший нож, выглядел очень серьезно, и рука тоже производила впечатление сильное и властное. Мне это понравилось. Стоя вот так, мы были заморожены во времени, я и Дайсукэ-кун, и его будущее было моим. Что бы я ни выбрала, в этот единственный момент Дайсукэ-кун принадлежал мне, и его будущее принадлежало мне. Странное это было чувство, пугающее и немного чересчур интимное, потому что, если бы я убила его сейчас, мы были бы связаны на всю жизнь, навсегда, и поэтому я его отпустила. Он скорчился у моих ног.
Я смотрела на свои руки, будто они принадлежали кому-то другому. Пряди его отвратительных волос пристали белыми луковицами фолликул к моим пальцам. Я вытерла руки о юбку.
— Уходи отсюда, — сказала я. — Иди домой.
Дайсукэ медленно поднялся на ноги и отряхнул коленки.
— Надо было тебе просто это сделать, — сказал он.
Эти слова застигли меня врасплох.
— Сделать что? — тупо спросила я.
Он присел на корточки на тротуаре и начал медленно собирать учебники обратно в сумку.
— Порезать меня, — проговорил он и, моргая, посмотрел на меня. — Перерезать мне горло. Я хочу умереть.
— Хочешь? — спросила я.
Он кивнул.
— Конечно, — сказал он, а потом продолжил собирать бумаги.
Некоторое время я наблюдала за ним. Мне было его жалко, потому что я понимала, что он имеет в виду, и я даже было подумала предложить ему сделать это еще раз, но момент был упущен. Ну да ладно.
— Прости, — сказала я.
Он потряс головой.
— Все в порядке, — промямлил он.
…Я понаблюдала за ним еще, как он ползает на коленях и шарит под торговым автоматом в поисках карандашей. Мне почти захотелось ему помочь, но вместо этого я повернулась и ушла, не оборачиваясь. Я не боялась, что он кому-то расскажет. Он знал, как и я, что этого делать не стоит. Я дошла до самой станции, где были автоматы получше, и купила папе пачку Short Hopes, потому что это был единственный бренд, который я согласна была ему покупать, из-за названия, а потом я купила себе в автомате с напитками баночку «Палпи». Это такой апельсиновый сок с кусочками мякоти внутри — я люблю лопать их зубами.
4
Прощальная церемония у меня была красивая и очень реалистичная. У всех моих одноклассников на рукавах были черные повязки, а у меня на парте они устроили алтарь со свечой, курительницей для благовоний и моей школьной фотографией — ее увеличили и украсили черными и белыми лентами. Один за другим мои враги подходили к парте и отдавали мне дань уважения, возлагая к фотографии белые бумажные цветы, и весь класс стоял у своих парт, ладони сложены вместе, глаза опущены долу. Может, так им было легче сдерживать смех, но не думаю, что они смеялись. Атмосфера была серьезной и грустной, и все это очень напоминало настоящие похороны. Дайсукэ-кун сильно побледнел, когда настала его очередь, но справился, возложил свой цветок и глубоко поклонился, и я даже немного им гордилась — знаю, звучит слегка извращенски, но, видимо, к людям, которых ты пытала и чье будущее было в твоих руках, начинаешь как-то проникаться.
Все то время, пока они это делали, Угава-сэнсей нараспев читал буддийский гимн. Я этот гимн тогда не узнала, потому что выросла в Саннивэйле, не слишком подвергаясь воздействию буддийской традиции, но потом, услышав его еще раз в храме у старой Дзико, я ее спросила, что это. Она ответила мне, что это — Мака Ханья Харамита Шингьо, что значит что-то вроде Великая Совершенномудрая Сутра Сердца. Единственный кусок, который мне запомнился, звучит примерно так: «Шики фу ику, ку фу и шики».
Это довольно абстрактно. Старушка Дзико пыталась мне это объяснить, и не знаю, насколько правильно я все поняла, но, кажется, смысл в том, что ничто в этом мире не материально и не реально, и все вещи — деревья, и животные, и камешки, и горы, и реки, и даже мы с тобой — вроде как просто течем сквозь время, пока не закончимся. Думаю, это правда, и это очень обнадеживает, и жаль только, что я не понимала это во время похорон, когда Угава-сэнсей читал эти строки, потому что это было бы очень утешительно, но, конечно, я не понимала ничего, потому что эти сутры написаны на старом языке, который больше никто не понимает, если ты не как Дзико и это не твоя работа. На самом деле не так уж важно, понимаешь ли ты каждое слово, — ты чувствуешь их глубину и красоту, и голос Угавы-сэнсея, обычно такой нудный и противный, вдруг смягчился и стал грустным и добрым, будто он всерьез принимал каждое слово. Когда он подошел к моей парте, чтобы возложить цветок, выражение у него было такое, что мне захотелось плакать, — его лицо вдруг исказилось и отразило его собственные горести. Пару раз я действительно заплакала, когда увидела свой портрет с черными и белыми лентами и как уважительно относятся ко мне мои одноклассники — склоненные головы, бумажные цветы. Они, наверно, все вместе собирались в клубах после школы и делали эти цветы, чтобы украсить ими мою фотографию. Такие серьезные, исполненные достоинства. Я почти любила их.
5
В школу я в тот день не пошла, так что в реальности на своих похоронах я не присутствовала. После встречи с Дайсукэ я вернулась домой, отдала папе сигареты и легла в кровать. Когда мама вернулась тем вечером с работы, я заставила себя стошнить на пол в ванной и сказала ей, что больна. На следующее утро я сделала так, что меня вырвало еще раз, для подстраховки, и поскольку это был последний день перед летними каникулами, она позволила мне остаться. Я так обрадовалась, решив, что мне удалось избежать всего этого мероприятия, но вечером я получила анонимный мейл, в теме которого стояло: «Трагическая и безвременная кончина переводной ученицы Нао Ясутани». В теле письма была ссылка на портал с видеохостингом. Кто-то заснял мои похороны на телефон-кейтай и запостил в интернет, и следующие пару часов я наблюдала, как накручивается счетчик просмотров. Не знаю, кто там это смотрел, но ролик получил сотни, а потом и тысячи кликов, будто стал вирусным. Странно, конечно, но я практически ощущала гордость. Приятно было почувствовать себя популярной.
Только что вспомнила последние строки Сердечной сутры, они такие:
Гатэ гатэ пара гатэ,
Парасм гатэ, бодхи сова ка…
Эти слова на самом деле — на каком-то древнем индийском языке, даже не на японском, но Дзико сказала мне, что они значат что-то вроде:
Ушли, ушли за пределы,
Совершенно ушли за пределы, пробуждены, ура…
Я все думаю о Дзико, какое это будет для нее облегчение, когда все наделенные сознанием сущности, даже мои кошмарные глупые одноклассники, пробудятся и просветлятся и уйдут, и она, наконец, сможет отдохнуть. Думаю, к тому времени она будет совершенно вымотана.

