Послесловие
1802–1850
Дома
Мне восемьдесят девять лет.

Глава семьдесят вторая
Седьмая группа голов
И вот я тут. Наверху. В окружении моих вещей. Вон на стене висит мой портрет кисти Жака-Луи Давида. А там в ящике под стеклом посмертная маска дядюшки Куртиуса. Цела и изготовленная Эдмоном деревянная кукла, мое подобие, а рядом с ней манекен, изображающий мужчину, которого я некогда знала. Там же восковое сердце, а около него восковая селезенка-хандра, и там же моя восковая голова, вылепленная Куртиусом, когда мне было семь, и папенькина нижняя челюсть, не потерянная за все эти долгие годы, ну и наконец, вернее, самое главное – безликая кукла Марта, маменькин подарок. Все это со мной, и я с ними. А где мы все? Мы в Лондоне. Мы в богадельне? Нет. Разве у обитателей богадельни имеются дорогие им вещи? Мы в собственном доме, мы его владельцы, и мы весьма преуспели в жизни. Мы вскарабкались на верхотуру высшего общества Лондона, который представляет собой самую исполинскую кучу дерьма, какую довелось наложить человеку, уродливый нарост циклопических размеров. Должна, однако, признаться, что я сохранилась не целиком. Теперь я состою из трех частей. Мои зубы давно выпали, и их заменили новыми: я их вставляю, верхние и нижние, и щелкаю челюстью, как папенька. Когда я их вынимаю, мое лицо сморщивается, и нос свисает к подбородку, так что они едва не соприкасаются. Я ношу очки с толстенными стеклами, в круглой проволочной оправе. Без их помощи я никого и ничего не вижу ни вблизи, ни вдали.
Мой дом стоит на Бейкер-стрит, и это подходящее название, потому что в каком-то смысле мы здесь выпекаем людей. Наш дом очень большой, просто какой-то огромный слон, гигантский монстр. В этом здании хранится история. Мы демонстрируем наших людей, наших кукол, в первом и втором этажах и в подвале. У нас тут есть зал с королевскими особами и прочими важными персонами, где собраны все знаменитости последних лет. В третьем этаже располагается наш производственный цех, где ежедневно мы плавим воск и отливаем людей, а люди приходят, и люди уходят. А я наблюдаю за этим многолюдным цирком жизни. Всех их хлебом не корми – дай только прославиться. Наконец я в полной безопасности. Я вспоминаю, как вдова Пико считала себя в безопасности, прячась за крепкими воротами. Но ни один дом не обеспечит тебе безопасность, все дома норовят рухнуть. А внизу, в подвале, вдали от солнечного света, во тьме, мы держим совсем других людей, бесславных, тех, кто совершал дурные поступки. Всегда находятся такие. Сегодняшние негодяи в одной компании со вчерашними. Там наша Комната ужасов. Только вчера, когда я спустилась в подвал, какой-то юнец, из простонародья, стоял перед Жан-Полем Маратом в кровавой ванне и пялился на жалкое тело, вылепленное Эдмоном, и рану, которая до сих пор кажется совсем свежей, и этот самый юнец преспокойно жевал пирог со свининой.
Я постоянно совершаю такие обходы, инспектирую их всех, брожу вокруг старых фигур. Иногда осматриваю новые, но вообще-то меня тянет к прошлому. Я всех пережила. Я смахиваю пыль с Наполеона, расправляю парчовый камзол Людовика XVI. В карман ему я сунула карту острова Робинзона Крузо. В его лице я угадываю черты его младшей сестры.
Люди приходят сюда, чтобы потрогать меня. Одни именуют меня Дама-История, другие – Матушка-Эпоха. А многие называют Мадам Двойка Мечей. Я прямо как общественное здание. Когда-то я рассказывала посетителям историю своей жизни. И они все гадали, правда ли это. Воск, уверяла я их, не умеет лгать.
Я больше не в силах сидеть за столом в вестибюле и взимать плату за входные билеты. Я такая хрупкая, что могу сломаться. Вместо меня деньги берут другие люди. Франсуа и Жозеф, приняв эстафету ремесла, сделали меня из воска. Иногда после обеда я прихожу в зал и ненадолго составляю компанию своему дубликату. Публике нравится смотреть на нас двоих рядышком. Это даже вдохновило мистера Крукшенка нарисовать карикатуру, озаглавленную «МАДАМ ТЮССО ВЫШЛА ИЗ СЕБЯ». По правде сказать, ему не удалось добиться точного сходства. Но зато я узнаю себя в восковой скульптуре, в этом сморщенном огрызке человеческого существования, в этом морщинистом дряхлом создании, смахивающем то ли на паука, то ли на жука или бескрылого мотылька, в этой сгорбленной фигуре, слепленной из праха и земли, одетой во все черное – от капора до ботинок. Вдова Пико, раз в квартал приходит человек и выдергивает волоски из моего подбородка. Перепуганные дети визжат при виде меня. Потом я им снюсь по ночам, они просыпаются и снова визжат. И детям – не взрослым – сегодня рассказывают всякие сказки, потому как сегодня эти сказки годны лишь для малышей. Дети распевают «Мерцай, мерцай, звездочка, в ночи» на мотив, впервые записанный в год моего рождения. Я такая же древняя, как эта дурацкая мелодия.

Один за другим, кто-то второпях, а кто-то неспешно, все умерли. Луи-Себастьян Мерсье во сне, так и не сняв башмаков. Жак-Луи Давид в опале, в изгнании. Жозефина, Плакса-Роз, лишенная трона императрицы. Даже Наполеон – на своей скале посреди Тихого океана. Франсуа Тюссо-старший, муж, так и не расплатившись с долгами. И наконец, Андре Валентен, поднявшийся высоко по служебной лестнице и обвиненный в растрате государственных средств империи, был разрублен на два куска, которые разлетелись в разные стороны.
Обезьянник, давно опустевший, издал последний вопль бабуина, выплюнул облако пыли и рухнул, обратившись в груду щебня, который потом вывезли прочь.
Там теперь все застроено новыми домами.
Никто из живущих меня не понимает. Только мои куклы.
Меня иногда навещает мистер Диккенс, автор романов. Тот еще прохиндей. Я ему все рассказываю. Он записывает. У меня внизу, возле Марата, стоят Берк и Хэр, шотландские похитители тел, одного я вылепила с натуры, другого – после смерти. Герцог Веллингтон частенько наведывался в гости к моему восковому Наполеону. А теперь у меня восковой Веллингтон стоит.
Есть такое состояние между жизнью и смертью, называемое восковой фигурой. Я живу в верхнем этаже дома, занимая несколько комнат, со всем своим семейством. За дверью, на которой висит табличка ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН – НЕ ВХОДИТЬ – ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА. Это моя спальня. Тут хранятся мои личные вещи, не предназначенные для посторонних глаз, не выставляемые напоказ публике. Моя личная коллекция, моя личная история.
И сюда он приходит каждый день, мой седьмой и последний врач, доктор Маркус Хили. Лысеющий мужчина, располневший, хотя он и пытается это скрыть, все обо мне заботится, хлопочет. Он передвигает меня, как будто я сама не могу двигаться, суетится, носится со мной, как ребенок с любимой игрушкой.
Сегодня мир стал механическим. Этот новый мир сделан из железа. Жизнь отяжелела, все приходится толкать – паром и поршнями. Вместо свечей люди освещают себя газом, который дает свет, лишенный загадочности. И еще признак почтенного возраста: люди больше не выглядят так, как прежде. Мужчины отращивают бакенбарды, так что в конце концов становятся больше похожими на спаниелей, чем на мужчин, а густую растительность на лице умащивают воском, придавая ей аккуратную форму. И еще кое-что новенькое. Франсуа боится, что оно может погубить наше предприятие. Эта новомодная штука называется дагерротип. Она запечатлевает разные жизненные ситуации, создает изображения людей на полированной серебряной пластинке. И эти картинки получаются гораздо быстрее, чем восковые изваяния. К тому же там гарантированно можно избежать ошибок. Вот, хотят сделать мое изображение с помощью этой машины. Еще чего! Только через мой труп!
Я лежу в постели, мне трудно дышать. Я отчетливо вижу свой конец – все случится в этой комнате. Мне восемьдесят девять лет. До девяноста я уже не доживу. Я – Анна-Мария Тюссо, урожденная Гросхольц. Крошка.
Теперь она уж никуда не денется.
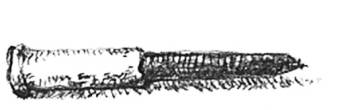
Назад: Глава семьдесят первая
Дальше: Благодарности

