Книга: Самая страшная книга 2020
Назад: Кирилл Малеев, Иван Белов Идущие в Рай
Дальше: Благодарности
Максим Кабир
И наступила…
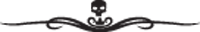
Когда Арбенин заговорил – заговорил совсем не из той части комнаты, в которой находился, – присутствующие умолкли. Воцарилась почтительная пауза. И Арбенин окаменел, лишь дымок вился над его ореховой трубкой да потрескивал табак. Цепкие, но сейчас – растерянные глаза вперились в угол, в точку, где обосновался звуковой фантом. Гости застыли, приготовившись аплодировать в финале представления. Француз, впутавший Арбенина в эту авантюру, шевелил навощёнными усами, как голенастый и пузатый таракан. Валики вращались, из раструба лилась речь. Фонограф зачитывал отрывок из «Анны Карениной»:
«Да, на чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положения, в котором жизнь не была бы мученьем, что все мы созданы затем, чтобы мучаться, и что мы все знаем это и все придумываем средства, как бы обмануть себя».
Встревоженный Арбенин слушал запись. Слушал собственный голос со стороны, и разрекламированное чудо казалось скверной. Да! Голос, прославивший знаменитого чтеца, был искажен и осквернен. Зловеще потрескивали гласные, шуршали шипящие, как клубки гадюк внутри чертовой шарманки. Француз улыбался, ожидая восторгов. Но Арбенину хотелось заткнуть уши, рявкнуть: «Довольно!» Своим настоящим, не изувеченным голосом.
А валики крутились, как средневековый пыточный инструмент, перевирая интонации. Публика понимающе кивала. Никто из них – даже Анна – не слышал омерзительной фальши. Побледневший чтец испугался, что это будет длиться вечно. Что, хотя он надиктовал полстранички, аудиодвойник прочтет всего Толстого. Бедный Лев Николаевич! Бедный Арбенин Лев Федорович!
Обученные попугаи, перекривляющие учителей, звучали человечнее го́лоса, похищенного творением Эдисона!
– Достаточно, – сказал кто-то.
Верно, нашелся здесь достойный господин с разумом и слухом.
Гости повернулись к Арбенину. До него дошло, что суховатый приказ выплюнул он сам, не признав своего голоса. Вот к чему приводят дьявольские фокусы.
– Вам не понравилось? – спросил, пряча усмешку, француз. Он говорил монотонно, на одной высоте, не смягчая слова, отчего в вопросе поселился сохатый лось.
Арбенин ощущал себя голым. Ограбленным и расщепленным. Неспешно, собираясь с мыслями, он постучал трубкой о пепельницу.
– В Лондоне, – ответил он, посмаковал, скорректировал темп, – в Лондоне я видел чревовещателя с мертвой обезьянкой. Губы его были сомкнуты, но слова – шутки и скабрезные анекдоты – доносились из пасти чучела. Тот трюк впечатлил меня сильнее, господа. Анна, – он протянул молодой супруге руку. Слуги заторопились, подавая трости и салопы.
Уходя, Арбенин бросил раздраженный взор на фонограф. Этот вампир мог высосать жизнь из голосов лучших певцов.
– Что на тебя нашло? – спросила Анна в подъезде.
Голос жены был светлым, дневным, в противовес его вечернему баритону. Гармоничное колебание связок позволяло словам скользить, как конькобежцы скользят по льду. По-детски прозрачный, идущий вразрез с полной грудью, голос Анны всегда успокаивал Арбенина.
Они вышли под снегопад.
– Что, если все это заговорит?
– Что? – удивилась Анна.
– Это все! Город! Рекламные вывески! Фаэтоны! Газеты! Галдеж отовсюду! Купи! Возьми! Найми! Воюй! Ешь!
– Ты перегибаешь палку, Лев.
– Пока эта палка безмолвствует! – сострил Арбенин мрачно. – А в каком-нибудь двадцать пятом веке забубнят палки, камни, книги!
Фантазия нарисовала далекое будущее, летающие поезда над алмазным городом, и те новые петербуржцы включают серебристые приборы, чтобы услышать голоса мертвецов, и его, Арбенина, голос!
На проспекте мать чахоточным кваканьем отчитывала визгливое дитя. Гундосил дворник, метя мостовую. В шорохе метлы чудились механические нотки.
– Тебя должно это радовать. Голоса уже путешествуют по железным проволокам. «Русские ведомости» писали, наш соотечественник, Голубицкий…
Арбенин перебил:
– Ах, позволь моему голосу оставаться моим!
Он резко замер и повторил: «Моим!»
Получалось «мим». Точно что-то полое задребезжало фанерными стенками, точно гитара упала плашмя. Он поводил языком по деснам, выискивая потерявшуюся «о», нашел и отчеканил:
– Моим!
– Да поняла я. – Анна махнула извозчику. Арбенин представил вдруг, как с губ молодой жены срывается мужской бас и как гнедая лошадь лепечет, словно ребенок.
Дома он сказал, цокая вилкой по фаянсу:
– Я чувствовал себя композитором, чью музыку играет бездарный оболтус, и в этой грубой игре выявляются все недостатки произведения.
– Ты никак не успокоишься, – вздохнула Анна. – Твоя декламация была прекрасной. Я не услышала разницу.
Звонкие согласные когда-то влюбили Арбенина в юную Аннушку. Но сегодня и они не утешали. Напряжение скорректировало фонацию.
– Вот как? – Он стукнул вилкой. Зеленый горошек вновь улизнул от зубцов. – Вот как? Следует, и в жизни я скрежещу и пускаю петуха?
– Ты несправедлив к себе. И раз уж на то пошло, к бедному французу.
– Бедный француз! С’est un abruti! Singe sale! Клянусь же, мертвая обезьяна…
Он запнулся. Вилка дрогнула в пальцах.
– Что еще? – вскинула брови Анна.
– Что-то не так.
Арбенин задышал, короткие и частые интервалы выбрасывали воздух из легких:
– О-о-о. Коловорот. Молоко. Ты слышишь?
– Что? – простонала Анна.
– Буква «о». Она изменилась. Стала пустой.
– Пустая буква?
– Да, черт дери! «О» – пустая буква, как дырочка в речи. Озеро. Оно.
– Лев, твое «о» такое же, как было с утра. Твой голос безупречен.
Горошек сбежал за пределы тарелки, окончательно разъярив.
Лежа на перинах, Арбенин выпускал в потолок долгое «о» и дегустировал результат.
– Протухла. Испортилась. Она невкусна!
– Милый. – Анна взяла со столика кипу фотокарточек: афиши с завтрашним Пушкинским концертом. Арбенин позировал, попыхивая трубкой. – Если я пририсую твоему портрету рога, отрастут ли они в действительности?
– Что? Боже, нет. Надеюсь, никакой из твоих поступков не приделает мне рога.
– Так почему же ты рассуждаешь как дикарь, послушав запись своего голоса? Индейцы и северные племена боялись, что фотографические камеры похитят их души.
– Это другое. Ну как же так? Друг-о-о-е. Дыра! Отверстие!
– Mutter Gottes!
Ему приснился француз, продающий на рынке буквы «а» и «о». Арбенин кричал, что это его собственность и никто не имеет права наживаться на ворованных гласных, но вместо четких претензий изо рта валились комья словесной каши.
Днем Арбенин посетил Ивана Чародетского, старого петербуржского педагога. Чародетский преподавал технику речи и основы ораторского искусства. Выпалывал сорняки московского аканья из огорода румяного мальчишки, будущего актера. Мальчишка читал Жуковского:
– Занялся от страха дух. Вдруг в него влетает слух. Тихий, легкий шепот…
– Боги! – патетично воскликнул педагог. – Не нужно мелодекламировать. Не нужно пучить глаза, певческий стиль уродует балладу.
Арбенин ностальгически улыбнулся, вспомнив уроки Ивана Игнатьевича и как сам вырабатывал ясность голоса. Шесть слогов в секунду, сто с лишним слов в минуту…
– Читайте, – велел Чародетский ученику, и вынырнул с Арбениным в коридор. – Друг сердечный, чему обязан вашим визитом?
Арбенин рассказал смущаясь. Заметил неуместное вибрато, укротил.
Чародетский смотрел на бывшего ученика, как врач на пациента, даже трогал себя под веком, точно поправлял несуществующий монокль. Нижний грудной регистр педагога выстраивал доверительную атмосферу.
– Помилуйте, Лева! Голос не ткань, чтобы издырявливаться. Ваш – благороден, холен и чист.
– Верно, я переволновался, – признал Арбенин, – этот глупый фонограф! Словно спирит вызвал мой собственный призрак из загробного мира!
Они поболтали немного, и Чародетский вернулся в класс. Арбенин потоптался, слушая, как старается мальчишка:
– Темно в зеркале. Кругом мертвое молчанье.
«Как же не ткань? – спросил себя Арбенин. – Как же не ткань?»
Анна приехала к театру в платье из синего бархата, похожем на меццо-сопрано. Шепот интимен, богат модуляциями. В противовес, гардеробщик говорил, будто стекло крошил челюстями.
– Пушкин-с? Послушаем-с.
Придаточные слоги вились, как лысые крысиные хвосты за тельцами слов.
Зал был полон. В шесть Арбенин вышел на подмостки, поклонился и начал без предисловий и размусоливания:
– На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн. И вдаль глядел. Пред ним широко река неслася; бедный челн…
Что-то не так. Ох, проклятые «о»! В черепной коробке скрежетали цилиндры и вращались барабаны, игла корябала по канавкам, мембрана вибрировала, перевирая текст.
– Отсель грозить мы будем шведу! Здесь будет город заложен.
Уже лучше. Опытный чтец управлял мелодикой текста. Дирижировал акцентами. Повышал интонацию, взвивался до пуанты, и ставил точку.
– Люблю тебя, Петра творенье…
Вот снова. Бездонная яма посреди «творенья», меж «в» и «р». Разлом в береговом граните Невы. Отсутствие фрагмента в чугунной ограде.
«Что же это? – ужаснулся чтец. – Фальшивинка на фальшивинке!»
Строфы выбивались из строя, распухали, бухли, загустевали до киселя, до жирных сливок. «Т» толкалось в резцы тараном, норовя выбить зубы. На «ч» язык, чавкая, прилипал к нёбу.
Взор суетливо забегал по зрителям. Никто не видел. Никто не понимал. Разве что Анна уловила смену эмоций, смятение, но не сметану, коей стало журчащее молоко пушкинских строк.
– Красуйся, град Петров, и стой…
Искажение звукового ландшафта!
– Неколебимо, как Россия!
Тремоло! Простолюдин, потехи ради напяливший одежды принца!
Он дочитал, едва живой от стыда. Ковылял среди почитателей и друзей. Руки хлопали по плечам: «Браво!», «Как обычно, великолепно!».
– Тебе нехорошо? – участливо спросила Анна.
Он ответил хрипло:
– Мигрень. Езжай домой. Я прогуляюсь.
И это его тембр, насыщенный обертонами? Эта вот неуправляемая дрянь с назальными согласными, где был объемный баритон?
Он брел по набережной в потемках. Прохожие гнусавили, каркали, откашливали, ударения рассыпались просом в произвольных точках. Фыркали кони: лабиодентальные фонемы казались надсадными плевками. Полушепот женщин пронизывала вульгарная двусмысленность, городовой говорил, будто сиську сосал.
Арбенин ускорил шаг. За решетками сада звучали голоса, притушенные, как газовые рожки. Чуть тлели в темноте, пахли дымом и шкварками. Фон из астматического сипа. Пошленькое сопрано инженю. Под дых – вилами фальцета!
Акустика города была балаганной безумной какофонией, визгом, шепелявым картавым старческим заикающимся козлогласованием, город замедлял ритм, чтобы припустить галопом. Эти частые модуляции вне логики, но с эхом, с тенями, с отзвуками, как страшные кометы, вспахивали улицы, изрыгались из перекошенного рта.
Арбенин понял, что бормочет себе под нос, читает «Всадника» фонарям и сфинксам. И чем дольше читает, тем тоньше становится речь, а в ней черные дыры, и видно уже, что там, под голосом. А там тьма. В гортани, за связками – беззвездная тьма.
В понедельник он говорил с собой и истрепал букву «ю».
Во вторник спазм голосовой щели проделал отверстие в «а».
Чародетский покачал головой: «Четкая дикция. Ваш голосовой аппарат в порядке!»
Буква «к»! Буква «р»! Вечером в среду «л» и «э». Зараза распространялась, пожирая акустические сигналы. Живое, немыслимое, темное тыкалось изнутри в тонюсенькие стенки речи. Костная коробка черепа выдавала фальцет.
Анна умоляла навестить врача. Он вскочил из-за стола, опрокидывая бокалы. Вскричал, сглатывая слоги:
– Ты слепа и глуха! Что-то пробует вылезти из моего голоса, сначала из гласных, теперь отовсюду!
– Да послушай себя! – вскричала Анна.
– Я слушаю! Оно свербит! Скребется, путь ищет, и, когда я говорю, оно вытекает в наш мир, да как же ты не поймешь! Оно подчинило себе даже паузы! Обычный поток речи состоит из сорока процентов пауз, и это хуже, чем говорить без умолку!
– Кто – оно? Кто, скажи?! – женский голосок требовал защиты.
Арбенин схватился за горло, словно жаждал придушить себя.
– Я осознал, когда фонограф говорил голосом мертвеца! Несчастная женщина носит в чреве мертвого младенца, а я носил труп голоса, и труп гнил, черви копошились в звуках! Я не могу найти иного сравнения – это акустические черви, пожирающие голос!
Глухой крик оборвался чахоточным фырканьем. Воздух шипел в гортани, грудь вздымалась и опадала.
– Врача! – ахнула Анна.
Три дня Арбенин безмолвствовал, мертвенно-бледный на бирюзовых перинах. Лоб пылал. Приходил к постели провинциальный говорок. Приходил глухой бас. Приходило придыхание. Голос жены струился, окутывал, окуривал голубым дымом.
Он думал о немоте. О червях, которые съедят последнюю букву и примутся за другие звуки. За стук сердца. За пульсацию крови в ушах и оглушительные хлопки ресниц. Черви съедят легкие, съедят веки, черви наполнят грудную клетку холодным скользким месивом.
Арбенин попытался подняться, но рухнул на подушки.
Пожалуйста!
Поажлуйста!
Поалжуйста!
«Ж» ползло по немому крику, как жирная муха. Жадные рты глодали.
Тук-тук-тук, – скандировало сердце.
Тук-тук.
Тук.
Анна влетела в спальню, роняя пузырьки с лекарствами.
Муж сидел в кровати, голый по пояс. Мышцы брюшного пресса казались гамаком, на котором скачут невидимые дети, диафрагма и межреберные мускулы ходили ходуном. Зрачки Арбенина закатились, глаза остекленели, челюсть отвисла до ключиц. Он напоминал дохлую обезьяну в руках чревовещателя. Он вопил на одной долгой страшной ноте. Изо рта, из черного зева, дул пустынный ветер, зловонный сирокко, гасивший свечи, жаркий поток вони, запах гнили, дохлятины, старой крови, мертвых слов.
– Иисусе! – закричала Анна, и огромные когти разорвали на куски имя ее бога. Потому что из темноты за голосовыми связками явились падальщики, потому что черви съели все, и наступила
Назад: Кирилл Малеев, Иван Белов Идущие в Рай
Дальше: Благодарности

