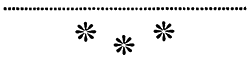Глава третья
Последние отголоски Дела. — Дебаты в Палате депутатов в апреле 1903 года. — Майор Дрейфус и генерал Пикар.
— Невольная дань уважения «старика со странным лицом». — Июнь 1908 года: Пантеон. — Влияние Золя на мировую литературу.
— «Единственный писатель, который сумел вырваться из царства буржуазии».
— Его интуиция в области кино. — Поэт и архитектор. — Живой Золя.
Подобно тому как жизнь человека заключена не только под его телесной оболочкой, физиологическая смерть не означает смерти социальной. Человек продолжает жить, хотя судебный врач и констатировал его смерть. Золя не умер. И никто не знает, когда он умрет.
В 1902 году трагедия продолжается. Дрейфус отказывается от амнистии с тем, чтобы еще раз мог быть поставлен вопрос о пересмотре его дела. И еще раз нужны новые факты. Матье и Альфред Дрейфус почерпнут их в дебатах, состоявшихся в апреле 1903 года в Палате депутатов. Жорес продолжает борьбу, начатую Золя. Благодаря некоторым его акциям Дело вновь ставится на ту правильную платформу, на которую его поставил в свое время романист, обладавший поразительным чутьем. В частности, одной из таких акций была выдвинутая великим оратором дилемма: «Либо националистическая партия уверовала в реальность существования этих документов и в истинность этой легенды — и в таком случае ни одна партия никогда еще не обнаруживала столь низкого уровня умственных способностей… либо она в это не верила — и в таком случае политическая партия никогда еще не падала так низко с точки зрения элементарной честности».
Дебаты в Кассационном суде начинаются 3 марта 1904 года на открытом заседании. Дю Пати обвиняет генерала Гонза, что тот использовал его для своих целей. Три новых эксперта (один из них Анри Пуанкаре) доказывают научную несостоятельность аргументов Бертильона. Причастные к делу генералы Цурлинден, Роже и Мерсье, оказавшись в безвыходном положении, выдвигают виновность Дрейфуса в качестве постулата и утверждают, что самому Дрейфусу надлежит доказать свою невиновность! Рошфор избегает прямого высказывания, Мильвуа признается, что никогда не видел документа, о котором он говорил Сюрену! Гнойник прорвался!
Три палаты принимают решение о кассации приговора военного суда в Ренне. Офицерам дю Пати, Цурлиндену и в первую очередь Мерсье публично вынесено порицание. Судья Бодуэн заявляет, что если бы не амнистия, то генерала Мерсье ожидало бы место на каторге. Именно к такой оценке ответственности этих лиц придет постепенно история полвека спустя.
В Лондоне в промежутке между двумя раздачами бесплатных обедов для бедняков Эстергази подтверждает Дрюмону:
«То, что бордеро было составлено мною, известно каждому, и еще лучше, чем кому-либо, известно тем, кто это бессовестно отрицает, будь они из Политехнической школы, Эколь нормаль или из сумасшедшего дома в Шарантоне. Но я повиновался приказу Сандгерра».
12 июля 1905 года, в полдень, председатель суда Балло-Бопре выносит окончательное решение:
«Ввиду того что при последнем рассмотрении Дела установлено, что обвинение, выдвинутое против Дрейфуса, ни на чем не основано и что после отмены приговора военного суда по-прежнему нет никаких фактов, которые можно было бы квалифицировать как преступление или проступок… Кассационный суд отменяет приговор военного суда в Ренне и заявляет, что этот приговор был ошибкой и несправедливостью…»
Дрейфус восстановлен в должности, в чине майора, а Пикар произведен в бригадные генералы. Вскоре он станет военным министром в кабинете Клемансо.
14 июля 1906 года газета «Оссерваторе романо», официальный орган Ватикана, сообщила в статье, озаглавленной «Ultima parola»:
«Капитан Дрейфус полностью оправдан. Мы не только одобряем это решение, но и восхищаемся им и поздравляем друг друга. Мы осуждаем тех, кто ради своих тайных побуждений, ради своих вероломных целей подделал документы, скрыл правду, прибегнул к лжи и коварству, чтобы осуществить свои темные намерения».
В марте 1903 года г-жа Золя, весьма обремененная обширным наследством, доставшимся ей от мужа, продала в отеле «Друо» ряд картин из его коллекции. Разумеется, она начала с Сезанна! За «Похищение» было заплачено 4200 франков, за «Натюрморт с ракушками» — 3000. В связи с этим Анри Рошфор писал в «Энтрансижан»:
«Что можно подумать о главе школы, который строил из себя владельца меданского замка и который способствовал распространению живописи, доведенной до абсурда?.. Мы часто говорили о том, что дрейфусары появились задолго до возникновения Дела Дрейфуса. Все больные умы, вывернутые наизнанку души, все свихнувшиеся и калеки вполне созрели для прихода Мессии Предательства. Если видеть природу такой, какой ее видел Золя и его посредственные художники, то нет ничего удивительного, что понятия патриотизма и чести являются вам в облике офицера, передающего врагу секретные планы и схемы обороны страны…»
Озлобленный старик со странным лицом, как называл его Аполлинер, помимо своей воли отдавал дань высокого уважения врагу. Связав симпатии Золя в области живописи с его творчеством и с Делом, Рошфор воссоздавал цельный человеческий облик Золя. Революция импрессионистов, революция натуралистов, революция дрейфусаров — все эти революции порождены одной и той же идеей. Золя не ошибался, когда торжественно провозгласил, что Республика будет натуралистической — или ее не будет вовсе. История выдвинула этот союз единомышленников в борьбе против рошфоров, дрюмонов, кабанелей, мейсонье, абу и прочих франсуа коппе.
Во второй раз похороны Золя состоялись в Пантеоне, в июне 1908 года, под звуки «Марсельезы», «Похоронного марша» из «Героической симфонии», «Песни выступления» и «Прелюдии» из «Мессидора». Среди присутствовавших находились президент Республики Фальер, Жорж Клемансо, ставший председателем Кабинета министров после судебного процесса над Золя, во время которого он взирал порой на писателя со своей странной монгольской улыбкой, а также все члены правительства. Гастон Думерг произнес надгробную речь, посвященную Эмилю Золя. В его выступлении «по случаю» не обнаружишь ничего, что могло бы запомниться. В присутствии г-жи Золя, Денизы и Жака Эмиль-Золя (они теперь носят имя отца) и Жанны Розеро гроб опускают в крипт. Он был установлен в третьем крипте слева, на южной стороне, где покоился прах Виктора Гюго.
Толпа, как всегда, на своем месте.
Обстоятельства требуют, чтобы еще кто-нибудь обратился к Золя. Говорит Клемансо:
— Были люди, которые давали отпор могущественнейшим королям; но очень мало было людей, которые давали отпор толпам… которые, когда требовалось сказать да, осмеливались бы гордо вскинуть голову и сказать нет.
На улице горланят молодчики из Лиги патриотов, которых науськали Баррес и Леон Доде. Журналист-националист Грегори делает два выстрела из револьвера в Дрейфуса и ранит его в руку. Подстрекательства Дрюмона, Рошфора и их друзей к убийству с опозданием приносят свои плоды.
Дрейфус умер 11 июля 1935 года, окруженный своими друзьями, сделав скромную, заурядную карьеру.
Однако Дело к тому времени еще не кануло безвозвратно в вечность. В 1939 году Даладье запретит демонстрацию фильма Дитерля о Золя, образ которого создал Поль Мюни. Этот председатель Совета министров, убежденный дрейфусар, не мог допустить, чтобы в погруженных в темноту залах прозвучали отголоски атаки Золя против Генерального штаба.
И на сей раз, как прежде, цель оправдывала средства. Золя предали его же сторонники.
Это было не ново: во время дебатов в 1908 году в Палате один левый депутат, выступавший за то, чтобы прах Золя был перенесен в Пантеон, согласился с Барресом, что Золя-писатель не заслуживает высокой оценки и что торжествующая республика радикал-социалистов собирается почтить память не столько создателя романа «Жерминаль», сколько автора письма «Я обвиняю!..». Один лишь Жорес выступил против такой оценки творчества Золя, но его довод прозвучал малоубедительно для его друзей:
«Слава Золя, его заслуга в том, что искусство его не похоже на искусство Барреса, которое подобно меланхоличному и мутному пруду; искусство Золя — это большая река, которая течет, унося все сложные переплетения жизни, все дерзновенные явления действительности».
Оставалось еще вырвать писателя из объятий его сторонников!
Достаточно обратиться к сведениям в публичных библиотеках, чтобы убедиться, что читатели подтвердили суждение Калибана, кричавшего на Монмартрском кладбище: «Жерминаль! Жерминаль!»
Трудно определить, сколько было продано экземпляров книг Золя (этого не знал даже его издатель), но известно, что к моменту опубликования «Доктора Паскаля» было выпущено 500 000 экземпляров «Ругон-Маккаров», а к 1924 году только из типографии издателей Шарпантье и Фаскеля вышло 2 500 000 экземпляров эпопеи Золя!
К 1923 году было продано 265 000 экземпляров «Разгрома», 256 000 экземпляров «Нана», 233 000 — «Земли», 203 000 — «Западни», 171 000 — «Жерминаля». Таким образом, наибольшим успехом у читателей пользовались «Разгром» и «Нана», романы о войне и продажной любви, насилии и эротизме. Это подтверждает, таким образом, вывод психоанализа, который видит в агрессивности и эротизме главные стихии, обусловливающие поведение и поступки человека-зверя. Что касается романов, пользовавшихся наименьшим успехом, то это были произведения, в которых излагалась история семьи или которые служили «мостиком» к другим произведениям: «Его превосходительство Эжен Ругон» (48 000 экземпляров к 1923 году), «Завоевание Плассана» (48 000), «Карьера Ругонов» (55 000).
После 1923 года возникло множество издательств, и это затрудняет дальнейший подсчет. Издательство «Ливр де пош», а также издательства различных клубов и по сей день продолжают продавать сотни тысяч книг Золя. Безусловно, роман «Жерминаль» переместился со своего места, приблизившись к книгам, выпущенным в наибольшем количестве, но в основном данные на 1923 год не устарели.
Во Франции есть целый легион писателей, которые чем-либо обязаны Золя: Жюль Ромен и унанимисты, Дюамель, Роже Мартен дю Гар, популисты и различные представители получивших дальнейшее развитие реализма и натурализма, которые от Ромена Роллана до Марселя Эме, от Люсьена Декава до Л.-Ф. Селина, Блеза Сандрара и до более молодых — Эрве Базена, Сержа Груссара, Жоржа Арно и многих других — продолжают обогащать жанр романа.
За пределами Франции Золя пользуется успехом, равным успеху Гюго, Бальзака, Стендаля и Флобера, причем его издают больше, чем последних двух писателей. Вот некоторые данные, позволяющие судить о влиянии Золя за полвека. Чехов, Куприн и Толстой отмечали значение Золя. Герхарт Гауптман заимствовав из «Жерминаля» идею своих «Ткачей». Генрих Манн, этот «немецкий Золя», изобразил в «Учителе Унрате» сестру Нана. Марлен Дитрих создала позднее в фильме, поставленном по этому произведению, чувственный образ, который до сих пор не дает спокойно спать юношам из киноклубов и маститым кинорежиссерам. Другой пример, более близкий к нам по времени: Ремарк и Пливье. Нельзя не упомянуть также Горького, который говорил: «Мне нравится угрюмая, темными красками живопись Золя…» Влияние Золя испытал и Кнут Гамсун. Нужно назвать также Бласко Ибаньеса, Пио Бароху, Витторини, Стриндберга, Силона, Лиама О’Флаэрти, Феррейра де Кастро и др.
Англичане оказались более устойчивыми, однако друг Золя Георг Моор, Арнольд Беннет, Голсуорси и в особенности Д. Г. Лоуренс и Джеймс Джойс, не будь Золя, не стали бы тем, кем они стали.
Среди американцев прежде всего следует назвать Теодора Драйзера, «американского Золя», Шервуда Андерсона, Синклера Льюиса и во вторую очередь (только потому, что это более свежие примеры) — Стейнбека, Колдуэлла, Генри Миллера и др. У Драйзера такой же творческий метод: поведение героя обусловлено его темпераментом. Он заимствует даже терминологию и усваивает детерминизм Золя. И разве неясно, чем обязан автору «Ругон-Маккаров» Джон Дос-Пассос, написавший «Манхеттенский поток» (1925) и «42-ю параллель» (1930), хотя он пользуется и иной литературной техникой?
Если представить себе общую картину развития доброкачественного американского романа — «Три солдата» Джона Дос-Пассоса, «Прощай, оружие» Хемингуэя (см. «Разгром»), «Непобежденный» Фолкнера, «Табачная дорога» Колдуэлла (см. «Нана» и «Западня»), «Тропики» Генри Миллера и «Гроздья гнева» Стейнбека (см. «Жерминаль»), то невозможно будет отрицать влияние Золя на современную литературу США.
Генри Джеймс, один из крупнейших американских писателей, которые отлично знали Францию и которых так плохо знают во Франции, сказал, воздавая дань уважения Золя: «„Ругон-Маккары“ — это беспримерный акт мужества в истории литературы».
А Эптон Синклер заметил: «Именно так мне хотелось бы писать».
Вместе с Бальзаком, Гюго — автором «Отверженных» и Эженом Сю, которого не следует забывать, Золя стоит у Истоков той мировой литературы, которая не является ни интроспективной, ни таинственно-непостижимой, у истоков романа, который приемлет существование внешнего мира и соглашается черпать в нем свои темы. Более того, нельзя не видеть, что он изобразил в своих романах нового героя (и это было революционным новшеством) — физиологического человека, заполонившего затем всю литературу, человека, все функции которого отныне на виду.
Это влияние совершенно не связано ни со стилем Золя, искаженным в переводах, ни с его идеями экспериментирования, ни с тем наспех созданным архитектурным построением, которое и является натурализмом и которое, как старались нас убедить поверхностные критики, и составляет главное в творчестве Золя. Критикам это было необходимо для изничтожения писателя.
За границей и по сей день живут не теории Золя, а воплотившееся в его творчестве, представляющем собой значительную научную ценность, отношение писателя к человеку, социальной среде и внешнему миру, его изумительная любовь к людям.
В стране социалистического реализма, далеким предшественником которого он в известной мере являлся, Золя занимает третье место среди французских романистов, и книги его издаются там миллионными тиражами.
Ганс Рейфиш, автор замечательной книги «Дело Дрейфуса», писал недавно Жюлю Ромэну:
«Мы придаем очень большое значение Золя. Ни один писатель XIX века не является для нас столь актуальным. Творчество Золя более актуально, чем творчество Толстого, чем творчество Достоевского, даже чем творчество Бальзака. Золя отобразил в большей степени, чем эти писатели, новое положение в мире, новые проблемы коллективной жизни и жизни пролетариата. Он единственный писатель, который сумел вырваться из царства буржуазии».
Это самое лучшее суждение о его творчестве.
В 1902 году, когда умер Золя, в ярмарочных балаганах показывают первый фильм, снятый по мотивам «Западни» — «Жертвы алкоголизма» (бесстыдная подделка, подобная тем, какими занималось в ту пору кино, блуждавшее в потемках). От этого фильма осталось лишь резюме его содержания в каталоге Пате за 1902 год:
«1. Жилище счастливой и процветающей рабочей четы. — 2. Первые посещения винной лавочки. — 3. Губительные последствия злоупотребления алкоголем. Его жена приходит за ним в кабак. — 4. В мансарде. Нищета. — 5. Сумасшедший дом. Палата для буйнопомешанных. Белая горячка».
Зекка тоже поживился за счет Золя: «Забастовка» (1903), «В черном краю» (1905). В 1909 году он выпускает фильм «Западня», который будет демонстрироваться один час. Фильм «Жерминаль» будет создан в 1912 году Альбером Капеллани. Антуан, основатель Свободного театра, увлекшийся кино, будет разрабатывать в этой области свои темы и поставит фильм «Земля».
Такой убежденный натуралист, как Жан Ренуар, чувствующий себя хорошо, лишь когда имеет дело с Золя и Мопассаном, создает шедевр — фильм «Человек-зверь».
Теперь уже не счесть, сколько было фильмов «Нана» или «Тереза Ракен» (последняя версия «Терезы Ракен» — прекрасная, но очень далекая от оригинала, принадлежит Марселю Карне). Благодаря Стелио Лоренци Золя заинтересовалось и телевидение. Влияние Золя связано и с самыми лучшими достижениями итальянского веризма. Этот расцвет искусства, первые робкие шаги которого он имел возможность наблюдать, несомненно, привел бы его в восторг; сегодня кино — самый мощный источник распространения сюжетов и образов Золя. Нужно посмертно поставить ему в заслугу следующее: благодаря его любви к фотографии, его таланту Надара-любителя, благодаря кинематографической технике его «монтажей» произведения Золя можно рассматривать как почти законченные сценарии. Стоит лишь прочесть отрывки из режиссерских сценариев, посвященных поездам («Человек-зверь»), походу забастовщиков («Жерминаль»), или сценарий фильма «Нана», получившего Большую премию, и сразу станет ясно, что он все уже создал на бумаге, начиная с чередующихся крупных планов и общих картин, вплоть до панорамы.
И это еще один пример того, что после своей смерти Золя сам входит в непосредственный контакт с толпой.
Золя — писатель исключительной мощи (за целый век подобных ему можно пересчитать по пальцам), творец миров, своего рода литературный вол и, по выражению Жана Фревиля, сеятель бурь. Разумеется, критерием оценки писателя не могут служить лишь масштабы его творчества и количество написанного. Но и то, и другое нельзя не учитывать, что бы ни говорили эстеты, влюбленные в маленькие совершенные вещицы. Можно обожать Нерваля. И тем не менее Гюго более велик, чем Нерваль.
Значение Золя равно значению величайших романистов XIX века, с которыми он столь добросовестно соперничал: Бальзака, Гюго, Санд, Достоевского, Толстого, Диккенса.
Но особой, присущей только ему чертой, на которую менее всего обратила внимание критика, является сочетание лиризма и мастерства композиции. Золя был великим лириком, которому помогал великий зодчий. Романтизм, присущий сыну инженера, хотя он и отрицал это, сочетался с талантом строителя, добившегося поразительнейших результатов. Яркое свидетельство тому — роман «Жерминаль», который мы анализировали.
О поэзии в творчестве Золя говорили многие — от Верлена и Малларме до Кокто, именно поэты распознали ее. Поэзия трепетала, стянутая железным ошейником доктрин и обручами неумолимых методов работы. Эта поэзия была не там, где, как ему казалось, ей надлежало быть: в юношеских поэмах или в романах-поэмах, созданных в старости. Она заключалась в романической галлюцинации. Волнующая встреча Сильвера и Мьетты, наклонившихся над краем каменной кладки общественного колодца и говоривших тихо, чтобы лучше услышать друг друга; гигантская статуя Магудо из «Творчества», которая тает и снова превращается в глину; нож с надписью — «Любовь» на рукоятке, которым Жанлен убивает солдата-бретонца в «Жерминале»; фантастическая смерть папаши Фуана в голубоватом спиртовом пламени, в котором он сгорает и от него ничего не остается, хотя наукой и доказано, что подобного случая не может произойти в действительности; золотистая муха Нана, гниющая на своей парадной кровати, в то время как толпа вопит: «На Берлин!»; Анжелика из «Мечты», Анжелика, которая отдается Лазарю; подрумяненный император верхом на коне и несущиеся в атаку гусары Бисмарка; вакханалия невежд, разгуливающих по залам Луврского музея из «Западни»; паровоз Лизон, брюхо которого вспорото страшным ударом рога, околевающий в снегу, как некое механическое чудовище; ребенок, кровь которого капает на лубочные картинки; великий черный сон; горячка Купо, осаждаемого обезумевшими мышами; мистическая свадьба потерявшего память аббата Муре и чистой Альбины на фоне участвующей в этом таинстве растительности гигантского Параду и проклятия козлоподобного брата Арканжиаса; природа, предающаяся страстному соитию в пламенных объятиях солнца (О, Рембо!); Альбина, задохнувшаяся от запаха цветов в запущенном саду; Рим, город резкого света и черной растительности, — все это восхитительные создания поэта, занимающие место как раз между романтизмом и сюрреализмом, то есть то самое место, которое история литературы отводит Золя.
Что касается архитектуры его произведений, то это архитектура античного Рима. Из-за слепоты, присущей нашей эпохе, на нее обращается внимание в последнюю очередь. Она превосходна не только в романе «Жерминаль», она ясно вырисовывается во всем наследии; и в «Трех городах», и в «Ругон-Маккарах», где последний том перекликается с первым, где изображенные в романах бурные периоды истории сменяются спокойными периодами, и, наконец, в недостроенном здании «Четырех Евангелий».
Этот редкий сплав, поставленный на службу изумительному темпераменту, поэтическому воображению, великолепному романтизму и архитектуре, сплав, который был плохо подмечен слишком спешившими поколениями читателей, — сводит на нет, в плане искусства, самую обоснованную критику в его адрес и придает ему законченный облик поэта-зодчего.
Ранним весенним утром над Меданом и Сеной сияет солнце. Дорожный рабочий занят своим делом. На тропинке, ведущей к реке, веет кисловатым запахом бузины. Г-жа Золя недавно продала остров, к которому когда-то причаливал в лодке Мопассан, так гордившийся своим загаром, сильными и мускулистыми руками гребца, своей майкой в голубую и белую полоску, которую так любили носить гребцы, изображенные Мане, и своим изменчиво-молодецким видом. На берегу — сооружение из цемента, здесь устроен пляж, но по-прежнему плещется вечная вода, стихия Золя. От проходящих в направлении Гавра поездов из «Человека-зверя» сотрясается домик, приютившийся у подножия обвитой плющом башни «Нана», где птицы свили себе гнезда. Жалобно гудят буксиры, словно все еще оплакивая смерть Флобера. Ужасный белый бюст, который ненавидела Дениза Ле Блон и который ненавидит Жак Эмиль-Золя, гипсовый бюст озабоченного пророка, возвышается огромной глыбой над аллеями и фруктовыми деревьями. Но утро — великолепное…
Вдруг окна и двери дома распахиваются и появляются женщины в белых халатах, и вскоре раздаются детские крики, веселые и пронзительные, наполняя утреннюю тишину своей ликующей радостью. При виде стаек этих ребятишек вы испытываете глубочайшее волнение, которое столько раз охватывало Золя. Жизнь кипит на аллеях! Дети постарше бегут в сад, малыши щебечут в комнатах. Повсюду слышится смех воспитательниц в ответ на мелодичный говорок ребятишек, они вновь радуются жизни, бледненькие мальчики и девочки с улицы Гренель, из Обервилье, из этого Латинского квартала, где всегда царит бедность и где Золя вертелся как белка в колесе, переезжая постоянно с квартиры на квартиру, из Батиньоля и из этого квартала Барбес, где Дюпон построил новый кабак на месте «западни» папаши Коломба. В рабочем кабинете, откуда Золя тайком наблюдал в бинокль, как играют на холме вместе с Жанной Розеро его дети, роза и тростничок, находятся гимнастические снаряды, которые поджидают ребятишек, относящихся к ним, впрочем, лишь как к игрушкам. Это чудо совершила буржуазная дама г-жа Золя, передав меданский дом в распоряжение Общественной благотворительности. Как не понять, что все эти ребятишки — пропавшие дети Жервезы и Нана, сотни малюток потомства Матье, множество детей из «Плодородия», этой страстной мечты об отцовстве, — как не заметить того, что все они — воплощенная мечта великого романиста, переживавшего расцвет своего старческого романтизма! Они здесь! У него! Живые дети! «О боже мой!» — как восклицал он часто, не веря в бога:
«Внизу, под окном, по-прежнему играли веселые дети. Слышались крики малышей, смех старших, — то звучало ликование человечества, идущего вперед, ко все более полному счастью. А дальше расстилалось беспредельное голубое небо, на горизонте сверкало ласковое солнце, податель жизни, отец, чью творческую силу удалось захватить и приручить… И Люк испустил дух, вступил в поток мировой любви, вечной жизни».
Жизнь — последнее слово «Плодородия». И последнее слово «Ругон-Маккаров» тоже — жизнь!
Золя спит в Пантеоне, доме без окон, куда иногда помещают писателей, которые были мудры. Он спит великим черным сном. Но жизнь бурлит около Сены, на берегу прекрасной тихой реки, чтобы засвидетельствовать с невозмутимым спокойствием: человек так много мечтает оттого, что его мечты порой осуществляются. Жизнь бурлит около Реки, жизнь, которую он любил столь сильно, что обожествил ее. Жизнь.