Дэвид Дж. Шоу
Птицы войны
Дэвид Шоу, наверное, больше всего известен своими произведениями в поджанре сплаттерпанк (говорят, это он и придумал его название), но писал он также и чистую беллетристику, детективы и киносценарии, в том числе к таким фильмам, как «Ворон» и лучшие серии «Техасской резни бензопилой» (назову «Техасскую резню бензопилой: Начало»). «Птицы войны» – ошеломляющее, полное удивительных подробностей воссоздание бомбардировок Германии во время Второй мировой войны и мощное изображение тех сил, которые вырываются на свободу, когда люди начинают воевать. «Я думаю, тогда, в той войне, мы разбудили нечто, – говорит старик Йоргенсон. – Всю ту ненависть. Все те жизни…» Это может (или не может) объяснить то, что видели члены экипажа «Авантюристки», когда вокруг них летали пули и взрывался воздух.

– Птицы войны были реальны, – сказал старик, сидевший за столом напротив меня. – Я их видел. Они реальнее, чем, скажем, гремлины, но менее реальны, чем тяжесть пистолета, который держишь в руке.
Я проделал несколько сотен миль, чтобы послушать воспоминания этого человека о моем покойном отце, а он плел мне сказку про летающих монстров, наблюдая, казалось, из-под своих паучьих белых бровей, сколько этого бреда я способен проглотить. Мы никогда прежде не встречались, и все доверие, которое, как подразумевалось, установилось между нами, было просто данью вежливости, так сказать, стоянием по стойке «вольно», пока что-нибудь более фундаментальное не заменит его.
Меня бы больше заинтересовал рассказ о, фигурально выражаясь, тяжести пистолета.
– Хорошим человеком был твой отец, – сказал Йоргенсон, в прошлом старший воздушный стрелок. В бомбардировщике B-24D его позицией была турель Мартина. Спасибо выполненной домашней работе: я знал места, которые занимал каждый член экипажа. Многие мои догадки основывались на найденной мною фотографии 1943 года – одной из немногих, где был изображен костяк команды, продержавшийся достаточно долго, чтобы успеть сфотографироваться вместе. Я добавил каждому из них фамилию, в моем списке у них не было полных имен, только прозвища. В те времена прозвища имели все, обычно это были уменьшительные формы их собственных имен: Бобби, Вилли, Фрэнки – как у детей во дворе. Да они, в сущности, и были детьми. Когда я сидел и пил кофе, приготовленный сестрой Йоргенсона Кейти, этой размытой черно-белой фотографии было уже шестьдесят пять лет, а большинству членов экипажа на фотографии тогда едва исполнилось девятнадцать. По меньшей мере двое из них солгали, называя свой возраст, чтобы их зачислили в авиацию. Йоргенсону теперь было не под, а, скорее, за восемьдесят. Он страдал артритом, отчего руки у него скрючились, как клешни. Он не признавался, что глуховат, хотя его слуховой аппарат был прекрасно виден – старый громоздкий аппарат с заушиной и плетеным проводком так называемого «телесного цвета», тянущимся к коробочке, спрятанной в нагрудном кармане. Глаза у него были голубые, с подернутыми желтоватой патиной склерами. Отполированные очки. Он был сутул, но не согнут временем и ждал, что я поверю его рассказам, потому что, в конце концов, для меня он был старейшиной, а что могут знать дети?
Бретт Йоргенсон, как большинство членов экипажей бомбардировщиков во время Второй мировой, закончив учебку, приземлился в Европе сержантом. Он шутил, что до высадки в Нормандии немецкие лагеря для военнопленных были переполнены тысячами сбитых сержантов. Он выдавал такие факты, чтобы раскусить меня: насколько серьезен мой интерес и понимаю ли я, о чем говорю, или я еще один «наземный летчик», готовый выбросить последнюю Великую войну из истории и памяти?
– Сержантами и лейтенантами, – сказал я, вытряхивая химическую пудру в свой едва теплый кофе.
Йоргенсон выпил свой – черный, естественно, – одним глотком. Если вы повторяете последнее из того, что сказал вам человек, он обычно проясняет сказанное.
Йоргенсон сначала откинулся от стола, потом снова придвинулся. Ему было трудно занять чем-то руки, поскольку они были деформированы до такой степени, что могли выполнять только простейшую хватательную функцию. Я почувствовал укол жалости к нему, и не в первый раз.
– Твой отец тоже был сержантом, из Чикаго. Он пытался тренироваться на АТ-6, но оказался не очень хорошим пилотом. – Йоргенсон издал сдавленный смешок и поискал салфетку. – Как-то раз ему поджарила задницу спаренная зенитная пулеметная установка: пуля прошила фюзеляж, разодрала его летный комбинезон и с шипением воткнулась пониже спины.
– Да, он мне рассказывал об этом. Аэродром Бернбург входил во внешнее оградительное кольцо вокруг Берлина, третье боевое задание, март сорок четвертого.
– А ты внимательно слушал, – похвалил Йоргенсон. – Ну, тогда, может, эта история и не покажется тебе такой уж чудно́й. Ты ж смотрел кино про войну. А бой когда-нибудь видел?
– Нет, сэр. – Я еще заканчивал школу, когда был введен выборочный призыв на военную службу, и я оказался в самом низу списка.
– Ну, воздушный бой – это особая мясорубка, ни на что не похожая. В основном он состоит из страшного шума и паники, и если тебе каким-то образом удалось уцелеть, ты потом пытаешься сообразить, почему все же остался жив. Твоя собственная машина распадается на части, бомбы летят на землю, десять огромных зенитных батарей всё разносят в щепки, вражеские истребители выпаливают тебе прямо в рыло двенадцатимиллиметровые артиллерийские снаряды, и ты видишь, как вокруг тебя, повсюду вокруг тебя, падают другие самолеты, а в них парни, которых ты знаешь, – дымный хвост, взрыв в воздухе, и ты хочешь увидеть, как они выбрасываются с парашютами, но времени нет. Ты когда-нибудь слушал тяжелый металл?
Он нарисовал такую живую и яркую картинку, что я моментально перенесся в нее и окунулся с головой.
– Что? А, да. Слушал.
– Мне хеви-метал никогда не нравился, – сказал Йоргенсон и сделал паузу, чтобы я мысленно представил себе его уютно сидящим и слушающим диск с самыми знаменитыми хитами «Блэк саббат». С привкусом треш-метала «Мадхани». Может, еще чуточку какой-нибудь норвежской смягченной спид-метал-группы.
– Знаешь почему? Он звучит как воздушный бой, вот почему.
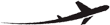
В-24 «Либерейтор» по прозвищу «Строптивый», согласно надписи на его фюзеляже, врезался в землю, изрыгнув пылающие обломки на обочину взлетной полосы, а членов его экипажа разметало. Двоих, в термостойких костюмах, расплющило взрывом. Еще один не успел даже попытаться выскочить. Пожарные команды метнулись от одного полупотушенного пожара к этому, новому, между тем как покалеченные тяжелые боевые машины петляли в воздухе, увертываясь от обломков, и старались приземлиться. «Либерейторы» – девятнадцать тонн каждый, это без груза – кружили на подлете к аэродрому и чуть ли не падали с неба. Диспетчер на башне считал возвращающиеся самолеты и суммировал потери.
Погода, типичная для Англии, представляла собой гнетущую туманную мглу под сплошными облаками. Пылающие самолеты прожигали больно слепящие глазки́ в мглистой пелене – горящие точки, от которых в небо штопором тянулись следы черного дыма.
Уитроу, только что прибывший на базу нижний стрелок, уроженец Оклахома-Сити, простодушный и пшенично-блондинистый, как и его имя, бросился к Гарри Марсу, лейтенанту, который был вторым пилотом «Авантюристки». Марс стоял, засунув руки в задние карманы, – поза, которую он обычно принимал, когда не знал, за что хвататься в первую очередь.
– Господи Иисусе! – сказал Уитроу. – Чем это его так садануло?
– Приземлился с искривленным колесом передней опоры – наверное, не видел ни одного фильма про авиакатастрофы, – ответил Марс. – Добро пожаловать в Шипдем, малыш.
Шипдем был одним из округов Норфолка, к северо-востоку от Лондона, сейчас здесь базировались 44-я бомбардировочная эскадрилья и союзнический береговой пункт сбора для выполнения военных задач в Европе. Это открыточное британское скопление пабов и коттеджей было испоганено ниссеновскими бараками, рассечено взлетно-посадочными полосами и опоясано зенитными батареями, а потом наводнено бравыми американскими летчиками, желавшими знать, что тут на самом деле происходит. Обычно они вели себя шумно и отъявленно бестактно – культурный шок в его крайнем проявлении.
Наблюдать, как подбитые В-24 возвращаются домой, было потрясением, почти возвышенным в своем экстравагантном ужасе. «Либерейторы» были толстопузыми птицами, которые переставали выглядеть неуклюжими только в полете. На воду они обычно приземлялись плашмя, что уменьшало вероятность выживания раз в десять по сравнению с «летающими крепостями». Капитан «Строптивого» орудовал проклятым штурвалом, с которым раньше имел дело только по учебнику, флюгируя два еще работающих двигателя, хлопая закрылками и стараясь как можно дольше удержать нос над бетонной полосой. Заблокировавшееся правое колесо шасси вдруг неожиданно выстрелило, завалив самолет в грязь и срезав правое крыло между двумя гигантскими двигателями «Пратт энд Уитни». А потом что-то загорелось. В самолете не было бомбовой нагрузки, осталось мало боеприпасов и мало топлива, но что-то на борту все же взорвалось, как петарда в пивной бутылке, и разорвало эту тварь пополам прямо посередине.
Впрочем, практически всё внутри этих самолетов было легковоспламеняющимся, и вездесущая холодная серая грязь вместе с насыщенным влагой воздухом Соединенного Королевства не могли погасить огонь.
Плохие новости узнавали в столовой от Медсена, и вдвое больше от него же – в зале для брифингов. Уитроу проверил, есть ли на доске расписаний боевое задание для «Авантюристки». Их строчка была по-прежнему пуста. Медсен был молодцеватым британцем, опоясанным ремнем с портупеей, с офицерским стеком, который он использовал как указку, тыча в карту, когда обращался к полному составу нервничающих офицеров и сержантов в сдвоенном гофрированном ангаре.
– …в общей сложности сто девять и две десятых тонны пятисот- и тысячефунтовых бомб, сбрасываемых из носовой части с интервалом в одну десятую, а из хвостовой – в четверть секунды, были успешно сброшены с высоты от восемнадцати до двадцати тысяч футов. Помимо завода Мессершмитта в Регенсбурге… – Стек Медсена резко ткнулся в карту, что вызвало всеобщее оживление. – Да-да, – Медсен переждал шум, – были поражены и две другие цели в этом районе, а также успешно разрушены объекты в воздухе, на воде и линии электроснабжения. Пропеллерный завод и завод резиновых изделий. Конечно, некоторые узлы производства поддаются восстановлению, но только после серьезного ремонта и основательных испытаний.
Около девятисот зажженных сигарет образовали инверсионный слой дыма под куполом ангара. Уитроу узнал нескольких новичков, имен которых не запомнил – они только что прибыли из Каспера, штат Вайоминг. Это были ребята, с которыми он вместе записывался добровольцем. Но сейчас он был потрясен составом своего нового экипажа: «свежее мясо» на их тарелке. Он сидел рядом с сержантом Йоргенсоном, раскачивавшимся на своем складном стуле.
– Вечно этот англичанишка об одном и том же, – заметил Йоргенсон, – пропеллеры, резина…
Элвин Тьюкс, ковбой из Калифорнии, перегнулся через Йоргенсона и, указав пальцем на штурмана «Авантюристки», сказал:
– А лейтенант Макс женился на англичаночке, как только ступил на берег. Ба-бах – и готово!
Под пристальным взглядом лейтенанта Кита Стэкпоула, бомбардира и носового стрелка, Тьюкс тут же подобострастно съежился. В конце концов, он говорил об офицере.
– О, черт, – пробормотал он. – Простите, сэр.
Стэкпоул, один из самых взрослых среди них (ему было двадцать два года), выставил вперед раскрытую ладонь, как заграждение. Держи, мол, свою болтовню при себе. Пока они бомбили «ось», аналогичный военный контингент английских леди совершал налеты на янки, тоскующих по дому в сильнодействующей атмосфере плотских лишений и неотвратимости смерти. Макс Джентри, их зеленоглазый штурман, претендовал на другое. Он влюбился. Разумеется, этим он навлек на себя лавину зубоскальства и сплетен, но Стэкпоул восхищался тем, с каким спокойным достоинством он сносил это, вполне овладев местным обычаем сохранять сдержанность в любой ситуации. Пока Джентри не нацепил на себя дежурную улыбку и не начал говорить в нос, Стэкпоул считал, что штурман «Авантюристки» остается на высоте.
Стэкпоул передал сигарету сержанту Джонсу, радисту, который разломил ее и протянул половину сержанту Смиту, своему лучшему другу, бортинженеру и бортовому стрелку. Смит и Джонс. Иногда приходится смеяться, чтобы не заплакать.
– К черту все эти подсчеты, – проворчал Джонс. – Сколько?
– Сорок, пятьдесят, что-то около того, – ответил Смит. Они прикурили от одной спички.
У Уитроу окаменело лицо.
– Из скольких?
– Сотен из двух, что-то вроде этого. – Поскольку мест больше не было, Джимми Бек встал у них за спиной. Хвостовой стрелок в очках военного образца переложил сигарету из одной руки в другую, чтобы позволить лейтенанту Марсу и их пилоту, лейтенанту Коггинсу, тоже втиснуться. Все статистические показатели, независимо от точности, были у них чем-то вроде.
У Уитроу перехватило дыхание.
– Из двух сотен?!.
– Из общего числа в сто семьдесят семь В-24, – бубнил Медсен с невысокого помоста впереди, – по меньшей мере сто двадцать семь, а возможно, сто тридцать три, достигли цели и сбросили бомбовый груз. Сорок два самолета были сбиты или потерпели крушение ан-рут…
– Нрут? – повторил Тьюкс, новичок, еще не привыкший к склонности британцев говорить не по-английски.
– …из которых пятнадцать, по нашим оценкам, были потеряны над целью.
– Нам опять не дали задания, – сказал Стэкпоулу Коггинс.
– Плюс к этому, – продолжал Медсен, – восемь машин сели в нейтральной Турции и были интернированы. Сто четыре вернулись на базу, а еще двадцать три приземлились на других дружественных базах. Таким образом, общие потери составили пятьдесят самолетов. Потери в живой силе на данный момент – четыреста сорок человек убитыми и пропавшими без вести. Нам известно, что двадцать пропавших без вести экипажей удерживают в плену страны «оси».
Уитроу почувствовал, как у него свело желудок. Одно задание – и почти четыреста парней потеряно. Экипажи сорока пяти самолетов. Что-то вроде этого.
– Проклятые фрицы, – пробормотал Йоргенсон.
Медсен перешел к той части брифинга, которая должна была послужить слабым утешением:
– Был сбит пятьдесят один вражеский истребитель.
– Сила! – воскликнул Тьюкс. – Почти по одному истребителю на каждый наш бомбардировщик, набитый парнями.
Кое-кто все же зааплодировал.
Лейтенант Марс уже отвлекся от брифинга и начал подкалывать Бека.
– Эй, Джимми, знаешь, каковы шансы на выживание в бою у хвостового стрелка?
Это была старая шутка между юнцами. Минимум трое из них хором выкрикнули:
– Девять секунд!
– Благодарю, друзья, – ответил Бек, выпуская дым изо рта. – Мне стало намного легче. Потеплело внутри.
Коггинс молча наблюдал за реакцией своего экипажа. Крупные потери заставят их еще немного больше ненавидеть фюрера завтра, и, вероятно, эта ненависть поможет ему привести их назад живыми, а не поджаренными в развалившемся бомбардировщике, как те бедные сукины дети на борту «Строптивого», чей штурман теперь продавливал койку в госпитале с левой рукой «средней прожарки, с кровью» и ногой, сломанной в четырех местах.
Это была война. И это было важно. В 1941-м, за полгода до Перл-Харбора, Воздушный корпус армии США был переименован в Военно-воздушные силы США под командованием генерала Арнолда по прозвищу Счастливчик, и этим заполнившим ангар воинственным американцам было что защищать. Много чего. Но теперь их гордость каждый день оказывалась уязвленной. Воздушные воины были почти такими же законными и самостоятельными подразделениями, как Военно-морской флот и наездники-танкисты. После того как Штаты вступили в схватку, военное ведомство реорганизовало наземные и военно-воздушные силы, сделав их равноправными родами войск, однако в результате такой перетасовки еще не возникло нечто, именуемое Военно-воздушными силами США, – это случилось только после войны. Многие летчики-ветераны с понятным чувством собственного достоинства по-прежнему носили знаки отличия Воздушного корпуса, даже несмотря на то что все были теперь частью Союзных военно-воздушных сил.
Гордость мало что значит, когда вас вытряхивают из койки в час ночи. Половина парней в казарме почувствовали появление непрошеного гостя еще до того, как он включал свой фонарь. Это должен был быть Карлайл, командир части, это луч его фонарика высветил лысый, как бильярдный шар, череп Коггинса в холодной темноте.
– Коггинс, – прошептал Карлайл, – подъем!
– Я не сплю, – прохрипел Коггинс, переворачиваясь.
Карлайл сел на край его койки.
– Послушай, мне очень жаль будить тебя, но…
– Который час?
Теперь уже все, кроме Тьюкса, проснулись.
– Четверть второго. Послушай… есть задание. Ты можешь участвовать?
– Конечно, – ответил Коггинс так, словно не существовало ничего, в чем бы он не был уверен.
– Мы сегодня утром ведущие в Восьмой, и нам потребуется вся группа, чтобы совместно приложить максимум усилий.
– Что он говорит? – спросил Уитроу, растирая лицо, чтобы окончательно проснуться.
– Ш-ш-ш, – перебил его Бек. – Это сюрприз.
– Крупная операция, – продолжал Карлайл, теперь уже – ко всеобщему удовлетворению – громче. – Сначала массированный зенитный обстрел, потом истребители. Нефтеперерабатывающий завод. Я знаю, твой экипаж еще недостаточно готов к бою, но мы не можем дать тебе более опытного второго пилота, потому что…
– Мой экипаж готов к бою, сэр, – возразил Коггинс, и никто не стал ему перечить.
Итак, вот оно. То, что Коггинс впоследствии охарактеризовал как «бойню». Самолет, на котором Коггинс воевал в Северной Африке, он назвал «Авантюристкой». Его зеленая команда уже несколько дней спала в казарме, которую до нее занимал другой экипаж, теперь значившийся пропавшим без вести. Кто будет тут завтра – одному Богу известно. Технически они выполнили четыре из двадцати пяти положенных по норме вылетов, но их всегда отзывали раньше времени или снимали с выполнения задания каким-то иным образом. Они еще даже ни разу не перелетали через Канал. Их хваленая первая миссия закончилась полным конфузом, когда они потеряли компрессор наддува на высоте трех с половиной тысяч метров и вынуждены были вернуться назад, сбросив свой бомбогруз над Северной Атлантикой. Их правый бортовой стрелок, техасец по фамилии Маккардл, был временно откомандирован в активно действовавший, выполнявший свой двенадцатый вылет боевой экипаж «Девчонки из родного города», оставив пустой пулеметную щель, которую теперь заполнил Уитроу.
Нижний стрелок с «Дабл дайамонда» сообщил Коггинсу: «Я видел, как «Барахольщик» поймал «восемь-восемь» прямо в кабину, перевернулся с полной бомбовой нагрузкой и разрезал «Девчонку» пополам. Никаких парашютов я не заметил». Жив ли Маккардл или мертв? Никто не знал, но тревожились они недолго: чрезмерная обеспокоенность в бою помеха.
И вот они, обжегшись горячим кофе, скрипя суставами в проклятой британской сырости, с трудом втиснувшись в летные комбинезоны, с еще затуманенными сном глазами, превращаются в неваляшек-летунов: комбинезоны с подогревом, бронежилеты, наспинные парашюты у пилотов, нагрудные – у остальных, «Мэй Уэсты», шлемы, летные очки, кислородные маски. Ото всех пахло мокрыми овечьими шкурами.
– Проклятый туман, – сказал Тьюкс, когда грузовик вез их к летному полю. – Слишком жидкий, чтобы есть, но слишком плотный, чтобы пить.
Видимость была нулевая.
– Придется рулить за джипом, чтобы найти взлетную полосу. Где наше место в построении? – спросил Стэкпоул.
– В «гробовом углу», – ответил Коггинс, постаравшись, чтобы это прозвучало небрежно.
– Потрясающе, – проворчал Бек, оператор БРЭО.
– Что? – переспросил Уитроу. Мокрые светлые волосы облепили его голову под пилоткой.
Вердикт огласил лейтенант Марс:
– Наружный край «коробочки», в хвосте.
– Чтобы зениткам было легче нас подстрелить, – пояснил Бек.
Йоргенсон похлопал Уитроу по раздутому рукаву.
– Это позиция для новичков. Необстрелянных.
– Предполагается, что мы будем тащиться в хвосте, пока не встроимся на место выбывших, – сказал Коггинс.
По крайней мере, они переросли стадию снятия с выполнения задания. Коггинс плоскогубцами вытащил проволоку из обода своей пилотки, чтобы она смялась, когда он наденет наушники.
Стэкпоул насвистывал «Как ты выглядишь сегодня».
Внезапно перед ними замаячила «Авантюристка», заполнив собой их мир. Уныло-зеленая, любовница небес, сукина мать, их лоно, их судьба.
Сорок четвертая бомбардировочная эскадрилья, известная под названием «Летающие восьмые шары», была первым авиаподразделением «Либерейторов» в Союзных военно-воздушных силах, хотя и не первым в Европе – эта честь принадлежала Девятой воздушной армии США, эскадрилье «Пирамидеров». «Восьмые шары» совершили свой первый вылет, сопровождая и поддерживая «Летающие крепости», в ноябре 1942 года, и когда все другие эскадрильи были переведены на ночные полеты, «Восьмым шарам» досталась незавидная доля единственной эскадрильи «Либерейторов», осуществлявшей дневные бомбардировки. Много разговоров было об одном «Либерейторе» под названием «Бумеранг», входившем в состав 93-й бомбардировочной эскадрильи, которая совершала налет на Лилль 9 октября. Он вернулся на базу, имея в обшивке тысячи дыр и годный лишь на металлолом, но его капитан и команда боролись за него, они залатали пробоины от пуль алюминием, и их самолет стал первым В-24 в эскадрилье, который выполнил пятьдесят боевых заданий. Его экипаж защищал честь своей машины, и она отплатила им добром, сохранив всем им жизни. Если называть вещи своими именами, откинув в сторону шутки, то налет на Лилль стал также переломным моментом для командования, которое вынуждено было безоговорочно признать, что В-24 – лучший бомбардировщик, чем гораздо более сексуальный на вид, «гламурный» В-17. «Либы» были быстрее, оснащены более современным вооружением, обладали большей дальностью полета и способностью нести больший бомбогруз.
В сущности, история «Восьмых шаров» и составила во время войны сагу о «Либерейторах»; начало войны в воздухе породило их, а ко Дню победы над Японией они уже морально устарели и практически не использовались. Многие «двадцатьчетверки» прибыли в Шипдем с новым вооружением, протектированными топливными баками, турбокомпрессорами и убираемыми подфюзеляжными шаровыми турелями «Сперри».
Вот к такой-то турели и направился в то утро Уитроу.
– Толстопузая сука, – сказал Марс, вторя словам штурмана по имени Кейт Шуйлер.
– А я люблю крупных женщин, – откликнулся Тьюкс. – Есть за что подержаться.
– Для такой крупной дамы она очень шустрая, – произнес Коггинс.
«Вероятно, он имел в виду свою жену, оставшуюся в Штатах, а может, свою боевую машину, – подумал Йоргенсон, как будто это имело какое-то значение. – Возможно, размах крыльев и у его старушки был больше, чем длина фюзеляжа».
Наземная команда закончила загрузку пятисотфунтовых снарядов в бомбовый отсек «Авантюристки», десять «Восьмерок» были уже под завязку набиты пятью тоннами боеприпасов в рассыпных патронных лентах. Люди Коггинса начали подниматься внутрь через люк в брюхе самолета. В нем им предстояло провести следующие двенадцать часов в почти невыносимой тесноте, отливая в мочеприемники, всасывая искусственный воздух и сражаясь, чтобы не умереть. И помогай бог тому, кого в разгар выполнения задания настигнет понос.
Марс вскарабкался в кресло второго пилота справа от Коггинса, заметив, что штурман, как обычно, зафиксировал спинку своего кресла в строго вертикальном положении. Естественно было предположить, что для бомбардировщиков идеально подходят мужчины маленького роста, но шутники где-то в Сан-Диего или Форт-Уорте любили устанавливать педали вне пределов досягаемости даже для человека обычного роста.
– Может, выдастся спокойный рейс, – сказал Марс, устраиваясь в кресле.
– А может – кошмарный, если истребители возьмут нашу группу под обстрел, – возразил Коггинс, не глядя на него, и надел наушники, примяв теперь уже лишенную проволочного каркаса пилотку.
Вместе с бортинженером они начали предполетную проверку приборов. Марс открыл защелку люка у себя над головой (ее всегда держали закрытой, чтобы крышка случайно не ударила его в лицо во время полета) и высунулся посмотреть, как двигаются элероны, закрылки и предкрылки. Самолет должен был завестись от аэродромного аккумулятора, поэтому зажигание он отключил. Инженер на земле вручную крутанул пропеллеры – по шесть оборотов лопастей каждый, по и против часовой стрелки, – начав с номера три. Процесс был нудным, рутинным и механическим, но любой недосмотр на этой стадии мог стать причиной взрыва – от закрытого радиатора внутреннего охлаждения до неправильного положения выключателя компрессора наддува. Бортинженер зафиксировал стояночные колодки и встал рядом с портативным огнетушителем в руках в ожидании запуска моторов, начиная с третьего, чтобы проверить работу гидравлического привода. При 1000 оборотах в минуту прибор показал нужные цифры: давление масла – 45–50 фунтов, вакуумный насос 4,5 дюйма, давление в аккумуляторе около 975 фунтов. Коггинс снизил мощность до одной трети, а Марс установил показатель топливной смеси на уровне «обедненная рабочая». После выруливания Марс запустил все четыре двигателя на холостом ходу, чтобы «поупражнять» винты.
Коггинс включил радио.
– Проверка внутренней связи.
– Господи Иисусе, ничего не видно дальше носа самолета. – Марс вернулся в машину, когда члены экипажа по внутренней связи подтверждали свою готовность к вылету. Как обычно, туман должен был рассеяться, только когда они поднимутся над ним.
Голос Стэкпоула:
– Бомбардир. Роджер. – Он сидел внизу, подо всеми, рядом с Джонсом, радистом, который произнес:
– Радист. Чек.
– Роджер. Левая талия, – сказал Джонс.
– Роджер-доджер, старый коджер. – Это был Тьюкс, сидевший напротив Смита у правого бортового пулемета.
– Верхнефюзеляжная турель. Йоргенсон на месте. – Если бы Коггинс или Марс обернулись, они могли бы увидеть ботинки Йоргенсона, упершиеся в основание турели.
– Уитроу. Шаровая турель. Все в порядке. – Бедный парень был зажат в своей собачьей конуре и спущен под фюзеляж без парашюта. Для парашюта там не было места. Чтобы надеть его, ему пришлось бы – с чьей-то помощью – вскарабкаться внутрь самолета, накинуть и закрепить стропы, и все это – теоретически – сделать, пока самолет будет камнем лететь к земле, охваченный огнем. Проще простого.
Лейтенант Джентри высунулся, как чертик из табакерки, из своего закутка и выставил большие пальцы вверх, давая добро.
– Держим хвост пистолетом, Джимми! – сказал Коггинс.
– Хвост готов, капитан, – откликнулся Бек из своего отсека, который Йоргенсон называл «задним местом».
В этот момент Коггинс как бы отжался от воображаемой тяжести штурвала. Марс удивленно приподнял брови. На лице Коггинса, как трещинка, появилась полуулыбка, и он сказал:
– Это чертово кресло слишком короткое.
Несмотря на громоздкое одеяние, тяжелое вооружение и ощущение невыспанности, стоило «Авантюристке» взмыть в небо, как у всего экипажа появилось чувство, будто они едут в лимузине. Наконец-то им довелось увидеть немного дневного света и синего неба. И даже такая малая толика вознаграждения была для них очень важна.
На высоте около тысячи метров все дружно закурили, потому что после трех тысяч метров им предстояло надеть кислородные маски. После чего они будут ощущать только запах собственного пота, пока самолет, опорожнив бомбовый отсек, не развернется и не покажет континенту свой хвост.
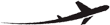
– На нас обрушились «Фокке-Вульфы», – рассказывал Йоргенсон. – Сто девяностые. Они были повсюду. После зенитного обстрела всегда появлялись истребители. А следующее, что я помню, это как Марс кричит по внутренней связи, что «Варгас долл» горит прямо рядом с нашим левым крылом. Я от своей турели не мог этого видеть. Зенитный снаряд взорвал кислородный баллон рядом со стариной Джонси и разнес на части его радио. У Уитроу закоротило систему обогрева в костюме, и он загорелся. Все вопили, палили все пулеметы. «Фокке-Вульфы» проносились так близко, что до них можно было доплюнуть. Тьюкс дернул страховочный шнур своего пистолета и, пытаясь прикончить одного из этих сукиных сынов, случайно отстрелил наш правый стабилизатор, после чего мы начали трястись, как старая шлюха. И именно в тот момент я в первый раз увидел ее.
– Птицу войны, – догадался я.
Кейти вовремя налила нам свежего кофе. Старшей сестре Йоргенсона тоже было за восемьдесят. Последняя миссис Йоргенсон умерла лет за десять до того.
– Поначалу я подумал, что это один из их пикирующих бомбардировщиков, – сказал Йоргенсон. – Они, когда ныряли, издавали такой же зловещий вой. Потом обратил внимание, что она хлопает крыльями, и подумал: это не самолет. Она была почти такого же размера, как истребитель. С крыльями, как у летучей мыши, и остроносой мордой. Глаза оловянные. – Он прокашлялся. – Ты теперь, должно быть, думаешь: этот старый дурак с катушек слетел, так ведь? – Его брови-перья осуждающе изогнулись.
– Нет, сэр. Мне никогда не удавалось разговорить отца насчет войны, но некоторые другие члены экипажа «Авантюристки» – а у меня годы ушли на то, чтобы их найти, – кое-что рассказали. Так что я и не такое еще слышал.
Судя по всему, Йоргенсон внутренне принял какое-то важное решение.
– Ладно, тогда пока Кейти возится на кухне или смотрит свое мыло, или как там еще она убивает свое свободное время…
Из глубины дома не последовало никаких протестов, поэтому Йоргенсон, довольный тем, что можно говорить конфиденциально, продолжил:
– Я подумал тогда то же самое, что, наверное, ты подумал сейчас: что это галлюцинация. Но я действительно видел, как это огромное невероятное существо летело прямо на меня, выпустив когти. Следующее, что я помню, это что весь плексиглас у меня над головой исчез, и я лежу на полу кабины с пробитой головой. До сих пор шрам сохранился. – Он отвел назад волосы, чтобы показать зигзагообразный белый рубец, тянувшийся от левой брови куда-то к макушке. Он напоминал след от ножевой раны. – Черт, я чуть не потерял глаз. К тому времени, когда мы вернулись на базу, я был в шоковом состоянии от потери крови. Почти не помню, как меня увезли. Позже мне сказали, что подфюзеляжную турель сорвало, когда мы шли на посадку, вместе с Уитроу, тем новым парнем.
– Всю турель оторвало от самолета?
– Ага… Просто артиллерийским снарядом или пулеметом это было бы трудно сделать. К тому же мы все почувствовали бы прямое попадание зенитного снаряда. Фрицы использовали стодвадцативосьмимиллиметровые снаряды, если бы такой попал в Уитроу, мы бы знали, потому что уже горело бы полсамолета. Мы несли больше трех тонн зажигательных средств, и крылья были под завязку залиты высокооктановым керосином.
– Вы думаете, что…
Он перебил меня:
– Я не думаю. Я подозреваю. Кое-что знаю. Так вот, я подозреваю, что случилось с беднягой Уитроу. А что я думаю, я тебе скажу: я думаю, что такая сокрушительная война не кончается только потому, что кто-то с кем-то обменялся рукопожатиями и подписал какие-то документы.
– Или с помощью ядерной бомбы превратил два города в пар с японским ароматом. – Я сам не ожидал, что это прозвучит так резко, но Йоргенсон невозмутимо продолжил, то ли проигнорировав мое замечание, то ли из вежливости.
– Ты только подумай: весь мир охвачен войной. Она продолжается годы. Приходит очередной день рождения, очередное Рождество, а война все еще тут, с нами. Потом мы все вдруг становимся жутко цивилизованными и соглашаемся притвориться, будто никакой войны нет. Иногда я думаю… иногда… – Он замолчал.
Чего он кипятится? Я – всего лишь случайный знакомый, зеленый юнец, отпрыск одного из старых товарищей по экипажу, Джимми Бека, который умер пять лет назад и который ни разу не прислал ему даже поздравительной открытки.
– Речь не о героях и славе, – сказал он, меняя направление атаки. – Когда ты там, в воздухе, когда все вокруг стреляют, когда парни истекают кровью и истошно орут, когда взрывы следуют один за другим, речь идет лишь о том, чтобы спасти свою шкуру. Просто о выживании. Если ты веришь в Бога, то непрерывно молишься про себя: «Господи, не дай мне умереть во время этого вылета». Если ты веришь в свой счастливый талисман, ты постоянно прикасаешься к нему. У Стэкпоула была тряпичная кукла, которая надевается на руку, – в солдатской форме, ему жена сшила, – и мы все считали этого солдатика членом своей команды, предназначенным охранять нас во время выполнения задания. У Джентри был медальон с изображением святого Христофора. Уитроу носил при себе кроличью лапку, хотя удачи она не принесла ни ему, ни кролику. А у твоего папы был такой ритуал. Прежде чем проверить свой пулемет, он вынимал из ленты первую пулю, писал на ней дату и клал пулю в нагрудный карман, возле сердца.
Пули для ствола пятидесятого калибра были длиной больше пятнадцати сантиметров и весом с банковскую упаковку четвертаков. Мой отец участвовал минимум в восьми успешных полетах над вражеской территорией. Интересно, что сталось с его коллекцией пуль?
– У всех у нас есть такие причуды, – сказал я, хотя отцовская причуда была мне в новинку. – Не нужно участвовать в боях, чтобы верить в подобные ритуалы и амулеты. Какой от них вред?
– Ты упускаешь главное. – Йоргенсон пренебрежительно махнул рукой.
Мне казалось, что я – персонаж какого-то большого полотна, висящего прямо у меня за спиной, часть панорамы, которую видит он, но которая скрыта от меня. Он смотрел на нее в этот самый момент.
– Это ощущение, ощущение боя, оно возвращается, – сказал он. – Каждый день. Сначала по чуть-чуть. Но с каждым днем все больше. Это не картинки-воспоминания, не нервная дрожь. Я не слабоумный, черт возьми. Это так же реально и четко, как пробор у тебя в волосах. А сейчас я скажу тебе то, во что безоговорочно верю. Если ты расскажешь об этом кому-нибудь еще, я заявлю, что ты врешь, но тебе я расскажу это из уважения к твоему отцу.
Он собирался передать мне нечто, какую-то тяжесть, бо́льшую, чем я ожидал, и единственное, что я мог сделать, это не перебивать его своими современными «мудростями».
– Думаю, тогда этой враждой, всей этой поднявшейся со дна ненавистью, жизнями, шедшими на прокорм войны, мы разбудили что-то. Что-то настолько сильное, что его уже нельзя было просто остановить: в один день оно было с нами, в другой уходило. Наверное, оно нажиралось и на время засыпало. Конечно, случались и другие войны, но они были не такими, как эта. У этой войны был ребенок. Она родила нечто ужасное. Оно просыпа́лось от недолгого сна, сознавало, что снова голодно, но не вырывало из воздуха нас всех там, куда приходило насыщаться.
– Птица войны. Но почему именно вы? И почему теперь, после стольких лет?
– Ты требуешь от меня логики? У меня ее нет. Единственное, что у меня есть, так это догадка, что некоторым из нас уже тогда было предназначено умереть, но этого не случилось. Но оно знает, кто мы и где, у него есть небольшой контрольный список вроде меню. Оно выжидало и дождалось. Мы теперь – легкая добыча: мы больше не наполнены спермой и жизненной энергией. Не можем убегать и отстреливаться. И Птица войны снова встала на крыло, подъедает остатки, но все это совершенно не важно, потому что кто, черт побери, поверит такому старому ворчливому хрычу, как я.
– Мистер Йоргенсон, мой отец умер от сердечного приступа. Тромбоз. С формальной точки зрения он умирал четыре раза, прежде чем умер по-настоящему. К тому времени, когда он действительно испустил дух, ему поставили четыре шунта, сделали ангиопластику сосудов, и у него в груди было два кардиостимулятора. Что касается смерти, то не было человека, который сопротивлялся ей упрямее, чем он. И умер он без страха и боли. Он принял смерть. Он не вел себя, как… – было ужасно неприятно, что мне приходилось подыскивать подходящее слово, – затравленный.
– Да, – сказал Йоргенсон. В его взгляде сквозь слезы, которые он мужественно сдерживал, читалось: «Ну да, понятно!» Мужчинам его поколения не пристало плакать, ни при каких обстоятельствах. – Но ты сказал, что он никогда не говорил с тобой о войне, так?
– Зато вы рассказали мне о Птице войны.
Он не разыгрывал меня, как какой-нибудь чокнутый интернет-затейник. Он был абсолютно серьезен, и признание стоило ему дорого: он эмоционально выворачивал себя наизнанку, вываливал потроха наружу и неуклюже выставлял их на всеобщее обозрение. Заслуживал ли я такого доверия или нет, но я провалился в эту причудливую брешь, которая побуждает людей делиться с чужим человеком интимными излияниями, которых они никогда бы не открыли самым близким и любимым. Я получил объяснение. И теперь было бы нечестно задним числом навязывать предварительные условия.
– Рассказал, не спорю, – согласился он, снова уходя в себя. – Это было глупостью с моей стороны. Прости, молодой человек. Мне жаль твоего отца и жаль, что я навалил на тебя это. Ты кажешься надежным парнем. Я был бы горд служить вместе с тобой. Но пожалуйста, не делай этой глупости, не позволяй никому запугивать тебя. Для меня это все уже позади. У меня уже нет выбора, время от времени я что-то слышу, – ирония заключается в том, что со слухом-то у меня как раз плохо. Физиологическое старение может нести и избавление. Спорим, ты не думал, что я знаю такие слова, как «физиологическое старение», а? Я их в словаре нашел.
Позднее тем же вечером Бретт Йоргенсон приставил к подбородку дуло своего допотопного «люгера» и разнес себе затылок девятимиллиметровой пулей.
Я оставил его одного и позволил ему это сделать. Принес свои извинения, попрощался и искренне пообещал поддерживать связь. Как я понял позднее, я его бросил.
Позже я сложил кусочки мозаики и сообразил, что он хранил этот пистолет больше полувека.
Бретт Йоргенсон, человек, с которым мне довелось поговорить лишь один раз, был сыном норвежских эмигрантов из Осло. Его среднее имя было – Эрик. После войны он, воспользовавшись Законом о правах военнослужащих, окончил факультет политологии Университета штата Миссури. Был женат два раза, имел троих детей. Некролог был коротким: оттрубил свой срок в брокерской фирме и вышел на достойную пенсию. Его простецкая манера речи была в значительной мере игрой. Никому особо не было дела до того, что он когда-то каждый день рисковал жизнью, чтобы уничтожить военную машину «оси». С 1939 года он ежедневно выкуривал по две пачки «Лаки», и никакой рак к нему даже не подступался.
Судя по всему, он несколько раз попытался написать предсмертную записку, но сжег все черновики в пепельнице размером с чашу для пунша, видимо, сочтя это сентиментальным вздором. Рядом с пепельницей, набитой окурками, стояла металлическая рамка с фотографией Терезы, его первой жены, его большой военной любви, девушки, ждавшей его с фронта. Он похоронил ее в 1981 году, после того как патологоанатом выковырял из ее внутренностей опухоль размером со сдувшийся волейбольный мяч. Вопреки расхожему клише, он снова влюбился, но похоронил и вторую жену, Миллисент, на том же кладбище в Нью-Джерси.
Его «люгер» не был военным трофеем. Йоргенсон сражался с Германией абстрактно, если можно так выразиться, он никогда не видел вблизи ни одного нациста, за исключением, быть может, единственного раза, когда, как он клятвенно утверждал, различил гримасничавшее за летными очками под кожаным летным шлемом лицо пилота, целившегося залпами своей двадцатимиллиметровой пушки прямо ему в башку на высоте трех тысяч метров, среди чужеземных облаков. Это был их шестой боевой вылет, кажется, на сортировочную станцию Бремена. А может, то был налет на Гамбург, на завод боеприпасов. Или на какой-нибудь другой завод – что-то вроде того.
Он никогда не думал, что доживет до старости. Хотя только об этом они и говорили тогда, сидя в Шипдеме и совершая боевые вылеты: жениться на той, которая ждала дома, поднять семью, урвать свой кусок красно-бело-синего пирога. А главное – выжить, чтобы все это осуществить.
После Кеннеди он не доверял ни одному политику. Он помнил, какой гнев охватил весь мир из-за его убийства, помнил, где он сам был и что делал в тот момент, когда услышал эту новость. Теперь всем известно, что Кеннеди был, можно сказать, распутником и похабником. Грязные разоблачения, дурно пахнущие. Джон Ф. Кеннеди был героем войны, катись оно все к чертовой матери. Если все, что теперь говорят, правда, тогда за что же сражался в те давние дни Йоргенсон? Как-то раз он увидел карикатуру с подписью: «Мы столкнулись с врагом, которым оказались мы сами» и подумал: «Хотелось бы мне знать, когда состоялась эта встреча, потому что я ее пропустил». У его страны был тот же флаг, но Йоргенсон видел слишком много лицемеров – мужчин и женщин, – которые, стоя под этим флагом, откровенно лгали. Даже его политологическая степень, казалось, сыграла с ним злую шутку, позволив слишком многое разглядеть, и он перестал верить в такие понятия, как «сражаться за родину», в которой для него, похоже, не осталось достойного места.
В половине четвертого, сидя в одиночестве в гостиной, в каких-нибудь четырех метрах от того места, где мы с ним пили кофе, он зарядил пистолет. Ему был хорошо знаком звучащий в воздухе гул истребителей, наших и чужих. То, что он слышал в тот момент, не было ни полицейским вертолетом, ни колонной грузовиков, ползущих по местному шоссе. Чтобы убедиться в этом, он вынул из уха наушник слухового аппарата, и остался только пронзительный визг, какой не мог издавать ни один самолет, даже пикирующий бомбардировщик.
Конечно, это только мои домыслы, но я вижу эту картину ясно, как сквозь начищенный столовый хрусталь: старик отбрасывает слуховой аппарат, и жизнь вокруг него смолкает. Перестают тикать часы на каминной полке, стихает и отдаляется мир за окном, скрип половиц внутри дома перестает нарушать тишину ночи, и он остается один на один с воем Птицы войны. Он допивает свой бурбон, гасит сигарету – глаза его закрыты, никаких слез – и спускает курок, надеясь, что сестра поймет его и простит. Раздается громкий выстрел, и война изливается из его головы.
Просто самоликвидировался еще один старый хрыч.
А кроме того, я теперь тоже слышу звуки. Звуки, которые невозможно спутать ни с какими другими. Я вижу в ночном небе странные черные силуэты. Голодные, по-прежнему ненасытные, возвращающиеся за новой добычей.
Назад: Джо Хилл Вы свободны
Дальше: Рэй Брэдбери Летающая машина

