Столыпин
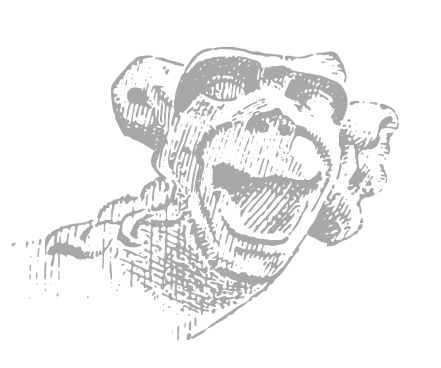
Тюремный вагон мягко покачивало на рельсах.
В этих движениях чудилось что-то принудительно-эротическое: словно бы столыпина уже несколько часов долбил в дупло другой вагон, такой авторитетный, что лучше было даже не знать, что у него внутри – ракета «Буревестник», делегация парламентариев или часть золотого запаса Родины.
Обиженные кумовскими колесами рельсы удивлялись и радовались такому развитию событий – и повторяли то и дело свое веское: «Да-да!»
Во всяком случае, именно такие мыслеобразы посещали зэков – то ли от долгого отсутствия женской ласки, то ли от омерзения к ее тюремным эрзацам, на которые гулко намекал каждый удар колес.
Иногда наваливался тревожный дневной сон – и, помучив кого-нибудь пару минут, отпускал, будто мог одолеть арестантов только поодиночке.
– Привет, драконы! – раздался громкий голос за серой проволочной решеткой, отделявшей клетку от вагонного коридора. – Ссать подано!
В коридоре стоял конвойный.
В руках у него было пять или шесть двухлитровых бутылок из-под «кока-колы». Прижимая их к туловищу, он попытался вставить ключ в замок, выронил одну бутылку, другую, а потом, чертыхнувшись, отпустил их все – и принялся отпирать дверь.
– Нате! Ловите!
Бутылки по одной стали влетать в клетку. Плотно сидящие на нижних шконках чертопасы поджимали ноги, чтобы случайно не зашквариться – непонятно было, ссали в эти бутылки раньше или нет.
Закончив с бутылками, конвоир запер дверь.
– Чтобы на сегодня тары хватило. Не хватит, кипятку больше не спрашивать. На дальняк сегодня не проситься – ремонт. Срать завтра поведем. Вчера с утра предупреждали…
Когда конвойный ушел, темнота над «пальмами» – самыми верхними шконками – веско сказала:
– Эй, чертяка… Че, не слышишь? Я с тобой говорю…
Худенький молодой зэк с краю нижнего топчана поднял голову.
– Я?
– Да, ты. Ну-ка, возьми бутылку, отверни пробку и понюхай – чем пахнет. Ссаками или «кока-колой».
Чертяка послушно взял бутыль, отвернул крышечку и понюхал.
– Вроде «кока-колой», – сказал он. – Да, точно. Тут даже жидкость осталась.
– Ясно, – ответила темнота. – Значит, руками брать не зашквар.
Всем в клетке, конечно, понятно было, что за драма разыгралась секунду назад. На пальмах ехали два крадуна, два самых настоящих жулика. Ослушаться их было опасно. Но простое повиновение их команде от зашквара, увы, не спасало. Парень рисковал – и в этот раз, тьфу-тьфу-тьфу, остался невредим.
– Зашквар не зашквар, – сказал сиплый голос, – а ссать все равно больше некуда.
Это произнес Басмач – грузный восточный человек в перемотанных скотчем очках, ехавший на второй полке.
– Тоже верно, – согласилась верхняя тьма вторым своим голосом, кавказским. – Я другого не догнал. Чего это он нас драконами обозвал? Че за погоняло?
– Нехорошо он нас назвал, – ответил Басмач. – Очень нехорошо. Я сам человек не особо авторитетный, но много лет назад на Чистопольской крытой слышал, как бродяги этот вопрос разбирали. Дракон – тот же петух, только с длинным гребнем.
– Кумчасть на беспредел высела, – выдохнул кто-то из чертей.
– Че ж высела, – ответил другой, – она всегда там сидит.
– А я не согласен, – раздался вдруг голос со средней полки.
Это сказал сосед Басмача, Плеш – мужчина лет сорока, интеллигентного вида, украшенный, как и констатировало погоняло, заметной плешью.
– С чем не согласен? – спросила верхняя полка.
– Что дракон это петух, – ответил Плеш. – Я вам так скажу, петух с реально длинным гребнем – это уже не петух. Или, вернее, такой петух, что он уже по другим базарам проходит. Тут все от гребня зависит.
– Бакланишь ты не по делу, – веско сказала верхняя полка. – Обоснуй.
Плеш коротко глянул вверх.
– Обосновывать не обязан, – ответил он, – потому как пиздеть имею право. Но пояснить могу.
Черти снизу одобрительно закивали головами – Плеш прошел между Сциллой и Харибдой уверенно и точно: не поддался наезду, но и в отрицалово не ушел. Как и положено умеренно козырному фраеру со второй полки.
Конечно, если прикинуть по-серьезному, козырным фраером со второй полки Плеш никак не был. Настоящее его космическое место было все-таки внизу. И к его соседу Басмачу это относилось тоже. На средних полках по всем правилам и понятиям должны были отдыхать два крадуна, что чалились сейчас на верхних пальмах.
Но места так распределил сам начальник конвоя – и, сделав пометки в блокноте, предупредил, что за любое нарушение, как он выразился, внутривагонной дисциплины температура кипятка будет снижена до пятидесяти градусов Цельсия, строго по инструкции. А значит, поняли все, чифиря не заваришь.
Вот так Плеш из черта временно стал фраером.
– Ну поясни, умник, поясни, – усмехнулся крадун сверху.
– Долгий рассказ будет, – ответил Плеш.
– Спешить нам вроде некуда. Расцепка через день.
– Расскажу, если чифирьку отхлебнуть дадите. Свежего.
Клетка замерла. Даже в качестве вписанного на вторую полку фраера Плеш вряд ли мог претендовать на чифирек с первой заварки. Такое не светило ему ну никак. Но он, похоже, собрался обменять свою историю на глоток чайку, и это было требованием аванса. Требовать он, конечно, мог – но за аванс потом можно было и ответить. Особенно учитывая рискованность заявленной темы.
Кружку ему все-таки дали – видимо, крадунам стало интересно.
– Благодарствуйте…
Плеш отхлебнул бурой жидкости и сморщил лицо в гримасу омерзения. А потом быстро передал кружку соседу Басмачу, который тоже хорошенько отхлебнул, прежде чем вернуть кружку наверх. Верхняя тьма не сказала ничего.
– Слушайте… И не перебивайте, босота.
В купе стало тихо – даже на нижних шконках, кажется, отложили карты (хотя на мелких чертиков, по четверо сидевших на каждом из двух нижних топчанов, уважительное обращение «босота» распространялось вряд ли).
– Сидел я тогда по своему первому делу, – начал Плеш, – настолько надуманному и запутанному, что даже не хочется посвящать вас в суть. Не занес, не поделился и так далее. Как сейчас принято выражаться, социальный лифт дернулся и полетел в шахту. Порвался, значит, социальный трос. Но виноват я не был. Оговорили…
– А то, – усмехнулась верхняя полка. – Понятное дело. Тут все по наговору сидят.
– И вот, значит, суд да дело, дошло до этапа. Посадили нас в столыпина. Вагон, помню, был такой же почти, как этот, только еще старее. Пованивал. Окна в коридоре старые, треснутые. В плевках. Я тогда первый раз эти вот бельма увидел…
Плеш кивнул на окно в коридоре напротив дверной решетки. Вместо положенного прозрачного стекла в нем была матово-белая панель. По ней изредка пробегали расплывчатые тени. Иногда – наверное, когда поезд нырял под мост или в туннель – панель становилась заметно темнее.
– Так давно уже делают, – сказал Басмач. – Чтобы через окно нельзя было подать знак сообщникам на станции…
– Возможно. Но для меня тогда все это было в новинку. И тени, мелькавшие в этом мутном телевизоре, отчего-то очень меня пугали. Словно бы смотришь мультик на быстрой перемотке и никак не можешь уловить суть происходящего… А мультик, между тем, про тебя…
– Вяжи про мультики, – сказала верхняя тьма. – Базар был за петухов.
– В клетке нас ехало всего пять человек, – продолжал Плеш, – и это, господа, было роскошно. Вот этот ништячок, – он указал на серую доску, соединяющую средние полки в одну широкую плоскость, – мы даже опускать не стали. Ехали как будто на воле в плацкарте. У каждого своя полка, и одна пустая. И вот, значит, на одной сцепке вводят в нашу клетку шестого.
Плеш поглядел на своего соседа.
– Похож он был, вот не гоню, на тебя, Басмач.
– Я на шестого похож, ты хочешь сказать? – спросил Басмач, подозрительно косясь на рассказчика. – Фуфлогон ты.
– Я тебе не предъявлял, что ты на шестого похож, – ответил Плеш. – Я сказал, что шестой, кого в клетку ввели, был похож на тебя. Разница есть, да? Такой же представительный и солидный. Тоже в очках, и ясно, что с Востока. Только он чуть помоложе был.
– Ты паспорт ему проверял, что он с Востока? – спросила темнота сверху.
– Не проверял. Он сам, когда вошел в хату, вместо «Здорово, братва» сказал «Общий салям». Понятно, что не из Парижа человек.
– Вошел в хату? В какую хату? – спросил тонкий голос снизу. – Вы же в столыпине ехали.
– Клетка, хоть и на колесах, по распоняткам тоже хата, – ответил Плеш. – Иначе тут и на пол ссать можно, и вообще что хочешь делать. Пусть братва подтвердит.
– Вроде так, – сказала верхняя темнота. – Давай дальше рассказывай.
– И вот, значит, после такого приветствия садится он на свободную нижнюю лавку – я напротив сидел – и, как положено, объявляет статью. Сейчас уже не помню точно, что-то такое хозяйственное для госслужащих. Фраерское, в общем, без позора…
– Типа как у тебя, – хохотнула верхняя полка.
– Ну типа да, – улыбнулся Плеш. – Ему тогда и говорят – наполовину в шутку, проверяют на вшивость – если госслужащий, значит сука? А он отвечает, если так, то и вы тут все суки…
– Это и сказал?
– Да. А с нами серьезные пацаны ехали. Тогда не конвой места назначал, сами делили. Двое самых крутых на средней полке – они ночью на откидухе этой, – Плеш постучал по доске, соединявшей его полку с полкой Басмача, – в нарды играли. Один был вор в законе, называть права не имею, а другой киллер новолипецких. Вверху тоже два таких ехали, что не приведи бог, хоть и фраера. Они там чаек делали на бездымном факеле, и со средней полкой делились – вот прямо как вы сейчас… Авторитетные арестанты, в общем, с такими не шутят. Вопросов серьезных к новому ни у кого не возникло – так, посмеяться хотели. Считай, повезло. Ему бы отшутиться и после этого молчать в тряпочку. А он…
Плеш вздохнул.
– Да, – сказала верхняя полка, – попал твой фраерок. И че дальше было?
– Его переспрашивают – ты, значит, нас суками объявил? Он говорит, вы сами себя объявили. Его спрашивают, когда было и кто слышал? Да только что, отвечает. Когда про госслужащих говорили. Потому что вы на самом деле такие же государственные служащие, как те мусора, что в купе для кумчасти едут. Своего рода спецназ внутренних войск.
– Серьезная предъява, – сказал кто-то из чертей.
– Ему говорят, ну-ка обоснуй. А че обосновывать, отвечает. В чем, по-вашему, заключается уголовное наказание? Как в чем, ему говорят. Лишают свободы. А он отвечает, неправда. Свобода – понятие абстрактное и философское. Как ее можно лишить, если ее и так ни у кого на этой планете нету. А русское уголовное наказание, напротив, очень конкретное и простое. Оно по своей природе родственно древнекитайской пытке и заключается в том, что человека надолго запирают в клетку со специально выдрессированными системой садистами и придурками, которые будут много лет издеваться над беднягой под веселым взглядом представителя власти… Поэтому тюремные садисты и придурки – это те же самые госслужащие. Примерно как служебные собаки. То есть чисто суки, что бы они про себя ни думали. Как лагерная овчарка себя понимает, мы ведь тоже не знаем…
В купе установилась густая тишина. Настолько густая, что это, видимо, показалось странным конвою, и за серой решеткой, отделяющей коридор от клетки, появился хмурый человек в камуфляже. Он осмотрел клетку, убедился, что арестанты на месте – и, для виду постояв за решеткой еще с минуту, неспешно ушел в коридор.
– Что, в натуре так и сказал? – спросил наконец один из чертей с нижнего топчана.
– Так и сказал, – подтвердил Плеш и зашелся мелким тревожным смехом. – Мы, натурально, все припухли. Молчали минут пять, прикидывали. Даже гаврилка-мусорок подвалил позырить, вот как сейчас. Я чего смеюсь-то – на сто процентов все так же было.
– Гонишь ты, – сказал чертик с нижней шконки. – Не бывает таких лохов. Чтоб такие слова говорить.
– Еще как бывают, – ответил Плеш. – Я после этого уже не прикидывал, довезут его до этапа или нет. Я думать стал, сколько он километров теперь живой проедет. Вот пусть нам авторитетные люди скажут, что за такое полагается?
– Значит так, – задумчиво произнесла верхняя темнота, – давай считать. Всю босоту суками обозвал. Сказал «дрессированные системой». Значит, по факту предъявил, что чесноки под кумчасть прогнулись. Слова сказаны серьезные. Тут сходом надо решать. Но вариант, похоже, один – на петушатник.
– Я тоже так думаю, – с кавказским акцентом произнес другой угол верхней тьмы. – Это если добежать успеет и не уроют по дороге. И чем кончилось?
– Какое кончилось, – сказал Плеш. – Это только началось. Дальше такое было, что…
Он махнул рукой.
– Ну рассказывай, рассказывай, – сказала верхняя тьма. – Раз уж начал.
– Короче, дальше чепушила этот жирный встает, при всех сует себе руку в штаны – сперва болт почесал, потом очко, долго так, вдумчиво… А потом поднимает эту самую руку, и пальцем по средней полке вж-ж-жик!
Плеш мазнул пальцем по серой доске, показывая, как именно.
– То есть той самой рукой, какой в дупле у себя ковырял?
– Той самой, в чем и дело! Зафоршмачил полку. А на ней вор ехал, представить можете?
– Можем, – сказала верхняя тьма. – Хотя и с трудом.
– Убить его в клетке нельзя, мусора рядом, – откликнулся кавказский голос. – Он это, видимо, понимал и куражился… Чего дальше?
– Дальше… Вор, который на этой полке чалился, понятно, сразу с нее спрыгнул. И согнал с верхней фраера. Фраер, ясное дело, слез вниз. А чепушила этот залез туда, где раньше вор ехал. На ту самую полку, которую зафоршмачил.
– И никто ему по ходу не въебал? – спросил кто-то из чертей.
– Нет.
– Почему?
– А ты подумай, – ответил Плеш. – А если не понимаешь, сейчас люди объяснят.
– Во-первых, полку он не зафоршмачил, а зашкварил, – авторитетно сказала верхняя темнота кавказским голосом. – Но если бы вор на ней и дальше ехать согласился, вот тогда бы он в натуре зафоршмачился. Хотя и не зашкварился бы.
– Почему, – возразил другой угол темноты голосом без акцента. – Вот если кружку в парашу уронить, она тогда станет зафоршмаченная. Если ее даже три дня мыть, все равно чифирек из такой пить – будет в натуре зашквар.
– Сейчас и так говорят, и так, – сказал молчавший до этого Басмач. – Тонкостей уже не понимают.
– А ты, выходит, понимаешь, – ответила верхняя полка насмешливо. – Тогда, может, этот случай нам растолкуешь?
– Какой?
– Да с чепушилой этим. Который полку зашкварил.
– Объясню, чего ж тут.
– Ну давай.
– Вы интересуетесь, зачем он в дупле пальцем ковырял? – спросил Басмач. – Да очень просто. Чтобы о свою же глину законтачиться. Его после такого зашквара руками бить уже западло. А ногами между полок невозможно – места нет. Поэтому он и не боялся – рассчитал. Те воры, видимо, сразу все поняли, а вы чегой-то не догоняете…
Клетка погрузилась в молчание.
– Подтверждаю, – сказал Плеш, посмотрев сперва на своего соседа, а потом на чертей внизу. – Так в натуре и было. Теперь поняли, почему его не били?
– То есть этот чепушила у вора среднюю полку отжал? Через дупло, по-форшмачному, но отжал по факту?
– Выходит так, – отозвался Плеш.
Клетка некоторое время размышляла.
– Не, – авторитетно сказала наконец верхняя темнота, – насчет того, что он о собственную глину законтачился, вопрос на самом деле спорный. Тогда мы все зашкваренные выходим. Мы же каждый день об нее пачкаемся, когда на дальняк отползаем. Главное руки потом помыть.
– Да, да, так, – подтвердило вразнобой несколько голосов снизу. – Пусть воры скажут. Что бывает, когда после дальняка руки не помоешь?
– Чифирбаком по макитре, – откликнулась верхняя темнота. – Или, если повторный случай, ночью табуреткой по спине. Законтаченных так не оформляют точно. Иначе чифирбак зафоршмачится. И табуретка тоже. Это будет как в очко уронить.
– Так, – сказал кто-то из чертей и подозрительно покосился снизу на Плеша. – Значит, бить все-таки можно. Но ведь если мы это поняли, значит, и те воры должны были въехать рано или поздно?
– Тут ключевое слово «рано или поздно», – ответил Плеш. – Чепушила этот, видимо, психологию хорошо понимал. Когда по твоей полке зафоршмаченным пальцем проводят, ты, если в понятиях живешь, с нее первым делом слезть должен. Так?
– Ну.
– А бить этого гада рукой по калгану сразу не станешь, потому что непонятно, законтаченный он после такого или нет. Когда полный разбор сделан и авторитетные люди высказались, вроде выходит, что пиздить его руками все-таки можно. Но сперва-то неясно. А как пыль в голове улеглась, злоба уже и прошла. И потом, за это время много нового случилось. Другие вопросы появились. Жизнь-то идет.
– Все верно, – сказала верхняя тьма кавказским голосом, – на тюрьма с пиздюлями не спешат. Они все равно по адресу приедут. Рано или поздно. А в столыпине ножом и хуем вообще не наказывают.
– Ну, – подтвердил другой голос сверху.
– И чепушила этот, – сказал Плеш, – про свой случай явно все понимал.
– Почему так думаешь?
– А потому. Братва стала первым делом разбирать – законтаченный он теперь через глину или нет. Вот как мы только что. И вывод сделали такой же – про петушатник. Слово в слово. Но когда ставится вопрос насчет перьев, по понятиям полагается первым делом у самого кандидата в петухи обо всем поинтересоваться при разборе. Если он рядом.
– Верно, – сказала темнота, – поинтересоваться полагается всегда, а иногда и спросить. Если сознается, какой базар? В машки. А если отрицать будет, а потом выяснится, что все-таки петух, то хана такому петушаре.
Плеш кивнул.
– И чепушилу нашего, значит, вежливо так спрашивают, – продолжал он, – а ты, часом, не пернатый гость? А он глаза круглые сделал, типа два шланга от стиральной машины, и говорит – это как? В каком смысле? Ему тогда конкретный вопрос задают – с кем спишь на воле? Это, отвечает, когда как. Ему тогда говорят – рассказывай. Подробно.
Грузный сосед Плеша по второму уровню прокашлялся, зашевелился и полез со своей полки вниз – словно огромный ком воска, расплавившийся наверху от жары и перетекший через край. Спуск давался ему непросто, он кряхтел и охал, и Плеш даже прервал на время свой рассказ.
Оказавшись внизу, Басмач взял с пола одну из двухлитровых бутылей, свинтил с нее пробку, приспустил штаны и повернулся к серой решетке.
– Ты че тухло свое выпятил, – неуверенно сказал кто-то из чертей.
– Он правильно встал, – отозвался другой. – Если брызги будут, за решетку полетит. На кумчасть… На мусоров поссать сам Бог велел.
Раздалось тихое журчание стекающей в пластик жидкости.
– Давай дальше рассказывай, – сказал Плешу кто-то из нижних чертей.
– Не, – сказал другой черт, – нельзя.
– Почему?
– Пока в хате едят, на дальняк не ходят. А когда на дальняк идут, не едят.
– А какая связь? – спросил первый черт.
– Как какая. Рассказ слушать – это почти как хавку жрать. Тоже пища, только духовная.
– И чего? Выходит, когда радио работает, поссать нельзя? Выключать надо?
– Не знаю, – сказал второй черт. – Если ты это радио с интересом слушаешь и как бы с него питаешься, то нельзя, наверное. Это у воров надо спрашивать.
Грузный Басмач наконец закончил процедуру, завинтил бутылку, поставил ее у двери и полез назад. Забирался вверх он так же долго и трудно, как слезал.
– Тебя зачем мусора наверх положили, – сказал кто-то из чертей. – Тебя под шконку надо – самому же легче будет.
– Еще такую шконку не придумали, под которую он войдет, – сказал другой, и черти засмеялись.
Когда Басмач улегся на свое место, Плеш продолжил:
– И, значит, говорят этому чепушиле – давай, рассказывай, с кем лупишься, где и как. А он так кудряво в ответ… Сейчас, дословно вспомню…
Плеш напряг лицо – будто выжимая из тюбика с мозгом заветные капельки памяти.
– Нет… Слово в слово уже не воспроизведу. Но смысл был примерно такой – мы, мол, живем как собаки на севере, в условиях вечного неустройства. И любовь у нас тоже собачья. На зоне просто все отчетливей обозначено, а сущность та же. А вот, например, ближе к экватору, где плещется теплое синее море, где цветут блаженные зеленые острова и скользят сказочные белые яхты, там… Там дело обстоит по-другому…
– И че же там по-другому? – спросил кто-то из чертей.
– Вот и у чепушилы об этом поинтересовались. Чего там, говорят, по-другому? Тоже мужики и бабы. Или нет? Обоснуй, говорят.
Черти на нижней полке к этому времени слушали Плеша очень внимательно, вылупив на него острые и тревожные глаза. Молчала и верхняя тьма – и молчание ее словно набухало понемногу чем-то грозным и нехорошим.
– А чепушила? – спросил один из чертей.
– А чепушила отвечает – разница есть. Там люди привлекательнее, чем здесь. Намного. И еще, говорит, у самых красивых девушек есть хуй.
– В натуре? Так и говорит?
– Угу. Его тут же спрашивают – и как ты насчет этого самого? Как к такому относишься?
– А он?
– А он, значит, говорит – ну как… Поначалу, конечно, смущаешься, стыдишься. Краснеешь иногда. Но постепенно привыкаешь. И через пару лет даже начинаешь видеть в этом какое-то ленивое южное очарование.
– Бля-я-я-я. Он в дуб въебался. Так и сказал при двух жуликах?
– Ну.
– И что дальше?
– Все в клетке дыхание затаили, ждут, что дальше будет. И кто-то из крадунов тихо так его спрашивает – и что же ты с этими хуями делаешь? Трогаешь, теребишь? Чепушила так улыбается и говорит – да, бывает и такое. Тереблю иногда… Вор тогда еще тише спрашивает – а может, и того, ртом касаешься? А чепушила опять улыбается и подтверждает – и такое тоже случается…
– Пиздец, попал твой чепушила, – выдохнул кто-то из чертей. – Однозначно теперь попал.
– Спасибо, – усмехнулся Плеш. – Тут академиком быть не надо, чтобы догадаться.
В клетке сделалось тихо – так тихо, что стал отчетливо слышен какой-то тонкий металлический скрип, проступавший иногда сквозь стук колес.
Вор с верхней полки полез вниз справить нужду. У него было рябое и нехорошее лицо, и в его сторону избегали смотреть. Пока он возился с бутылкой, молчали. А потом, когда он вернулся наверх, встали по мелкой нужде трое чертей.
В журчащем безмолвии прошла пара минут – нужду справляли по очереди. Плеш не торопился со своим рассказом. Все главное, конечно, уже было понятно. Но у темы могло оказаться неожиданное развитие.
– Арестанты, – сказал вдруг взволнованный кавказский голос сверху, – вы не въехали, что ли? Это он специально говорил, чтобы пацаны его со средней полки стащить не могли. Руками петуха трогать нельзя. А ногами-то как стащишь? Хотел, наверное, до этапа удобно доехать. Может, он на самом деле и не петух был.
– Может хуй гложет, – ответил другой вор. – Раз сам объявил, значит, петух. Если раньше не был, теперь стал.
– Это да, – согласился кавказский голос. – Теперь стал… Что же, выходит, и поделать с ним нечего? Как в хате при таком раскладе поступают?
– Главпетух отвечает. Ему не в падлу руками взяться.
– Но в клетке-то других петухов не было?
Головы повернулись к Плешу. Тот выждал эффектную паузу – и отрицательно помотал головой.
– Других не было.
– Да… Ситуация. И как решили?
– Сначала молчали. Думали. А потом один из воров чепушилу этого – петухом его еще не объявили, так что я его чепушилой называть пока буду – спрашивает: ты понимаешь хоть, на что ты тут наговорил?
– А он?
Плеш вздохнул и покачал головой. Видимо, эта история до сих пор его не отпустила – и вызывала в нем стойкие эмоции.
– Говорит, понимаю примерно. Его спрашивают – и больше ничего нам по этому поводу сообщить не хочешь? А он так поглядел вокруг и отвечает: да ничего. Или, может, вот что: как говорят божественные андрогины, лижите мою пизду и сосите мой хуй.
– Бля. Бля. Бля-бля-бля… То есть это он братве такое выдал? Слово в слово?
– Ну да.
– И что дальше было?
– Ему тогда тихо так говорят – эй, а ты часом не шахид? Может, на тебе, это, пояс смертника? У тебя уже перебор давно, а ты все прикупаешь и прикупаешь…
– А он?
– Засмеялся опять. И говорит – да нет, не шахид. Был бы я шахид, я бы давно в раю отдыхал с гуриями. Но только я в рай для шахидов не верю, поэтому мне туда нельзя. Не попаду. Так что приходится искать эрзацы и заменители. Его спрашивают, это ты про своих девочек с хуями? Он отвечает, ну да… Они не гурии, конечно, но вполне. Его тогда спрашивают – ты хоть догоняешь, что с тобой будет, когда тебя до петушатника доведут? А он говорит – у шахидов слово такое есть. Иншалла. Кто его знает, что с нами случится… И опять смеется. Вот век воли не видать, так все и было.
– Да, – сказали сверху, – прикупил себе, чертяка. Конкретно прикупил. За таким теперь малява куда угодно пойдет.
– Смотрят на него, короче, уже даже и без злобы, как на покойника. И последний вопрос задают – а ты чего веселый-то такой? На что ты, пернатый, надеешься? Ведь надеешься на что-то, наверное. Расскажи – интересно.
– Да, – согласились на нижней полке. – Интересно.
– А чепушила отвечает – у меня план есть. Какой, его спрашивают. А он говорит, я от вас, говнов, уплыву…
– Во как, – сказал черт. – Уплывет. По юшке своей.
– Не, – отозвался другой черт, – не по юшке. По крове из рваной дупы.
– Интересная предъява, – подытожила верхняя тьма. – У него поинтересовались, на чем конкретно он уплывет?
– Угу, – ответил Плеш.
– И?
– На его шконке обгорелая простыня лежала. Вернее, уже не простыня, а черный такой огрызок – от факела, на котором чаек делали…
– Хорош сиськи мять, тут не дети едут. И чего?
– Чепушила этот, значит, палец сажей намазал и нарисовал на стене лодку…
– Что?
– Лодку. Такую обычную, как дети рисуют. То ли с трубой, то ли с мачтой – непонятно. Понятно только, что лодка. Вот на ней, говорит, и уплыву… И ржет…
– Тьфу, – сплюнул черт на нижней полке. – Да он безумник просто… А я-то думал… Ебанутый дядя, даже скучно стало. Опустить опустят, да что с такого возьмешь?
– А я с самого начала так и решил, – сказал кавказский голос сверху. – Сомневаюсь только, что он правда ебнутый. Скорее с понтом под зонтом.
– Косарь? – спросила верхняя тьма другим своим голосом.
– Конечно. Хотел под дурака закосить, – кавказский голос мелодично присвистнул, – и в Эльдорадо…
– Косить перед кумчастью надо, – сказал кто-то из чертей. – А не перед братвой.
– Косить везде надо, – ответила верхняя тьма, – потому что с хаты куму стучат. Но чепушиле этому уже поздно. Ему после такого один выход – закрыться по безопасности. И к куму идти в десны пиздоваться. Дурак он или нет, уже неважно. Велика Россия, а дорога одна – на петушатник.
– Че дальше было? – спросили снизу.
– А дальше, друзья мои, – сказал Плеш, – и было самое интересное.
Голос его на этих словах стал тихим и задушевным, а обращение «друзья мои» прозвучало под стук тюремных колес так странно, что двое сидевших под Плешем чертей даже привстали с места, чтобы на него посмотреть.
– Закрылся? – спросила верхняя тьма. – Кума позвал?
– Да нет. Все так и решили, что чепушила этот или косит, или правда дурак. Делать с ним ничего не делали, потому что в столыпине, как нам тут подтвердили, ножом и хуем не бьют. Насчет того, что будет по прибытии, все, конечно, понятно было. И смотрели на него теперь, можно сказать, с легкой жалостью.
– А он? – спросил чертяка.
– Он… Он помолчал немного, а потом говорит: вы, арестанты, Священное Писание знаете?
– А, на жалость решил давить, – сказали сверху. – Тоже бывает. Слезу пустил?
– Да нет, – ответил Плеш. – Не в этом дело было. Ему так и сказали, что про Священное Писание бакланить на таком перегоне уже немного поздняк. А он даже разозлился – почему, говорит, поздняк. Такое никогда не поздняк. Вот вы помните разбойников, которых вместе с Христом распяли? Они плохие люди были, жестокие. Но один из них в него уверовал, прямо на кресте – и Христос ему сказал: «Нынче же будешь со мной в раю». Ну да, отвечают ему, был такой базар. Допустим. А ты тут при чем? А при том, говорит чепушила. Я, конечно, не Христос. Но я вам официально объявляю – если кто-нибудь тут мне верит, он может на этой лодке вместе со мной уплыть. Одного человека возьму в светлое завтра. Просто за веру в чудо…
Клетка захохотала. Смеялись черти, смеялись жулики у себя на пальмах. Даже сам Плеш смеялся – тоже, видимо, понимал, какую несусветно смешную мульку он только что выдал.
– Надо было на слове ловить, – сказал кто-то из чертей, и клетка опять дружно заржала.
– Не смеши так, – попросил другой, – все говно растрясется, а на дальняк нельзя…
– И че? – спросил другой чертяка, когда смех утих. – Нашелся у него попутчик?
Плеш кивнул.
– Кто?
– Я, – сказал Плеш.
На этот раз в клетке никто не засмеялся. Видимо, все поняли серьезность сделанного только что признания – и теперь вычисляли возможные последствия.
– Че, правда, что ли? – сказал наконец один из нижних чертей.
– Да, – ответил Плеш. – Сам даже не понимаю, как такое случилось. Просто… На душе у меня по ряду обстоятельств было плохо. Вы представляете, тюремный вагон, тоска смертная, везуха кончилась, перспектив никаких… Я не то чтобы ему поверил, конечно. А ощутил как-то по-особенному остро, что никакой другой надежды у меня уже нет. Кроме этой нарисованной лодки.
– И че дальше было?
– Я и сказал – мол, верю. И поплыву. Если возьмешь, конечно.
– А чепушила?
– А чепушила этот отвечает – нынче же будешь со мной… ну, говорит, если не в раю, то совсем близко.
– При всех базар был?
– При всех, – ответил Плеш. – Вот как сейчас.
Клетка некоторое время молчала. Потом один из верхних жуликов сказал:
– Ты сам-то понял, что набросил?
– Да понял, – вздохнул Плеш. – Конечно.
– На петушиной лодке решил уплыть? Ну ты конкретно маху дал, Плеш. Теперь к тебе тоже вопросы могут быть. Не жопный рамс, но близко. Так что за базаром следи внимательно. Давай рассказывай, что дальше было. Чего братва сказала, как рассудила…
– Братва… Да почти и не сказала ничего. Посмеялись надо мной, конечно. Уже поздно было к этому времени, все устали и хотели спать. Сводили меня на дальняк, вернулся я на свое место да и уснул.
– И все?
– Это как сказать. Все, да не все.
– Ну рассказывай.
– Сплю я, короче, и тут кто-то меня за плечо трогает. Я глаза открываю и вижу чепушилу этого. Только на лице у него теперь такая прозрачная фигня, типа как маленький противогаз или респиратор – закрывает рот и нос. А сзади начальник конвоя стоит в таком же прозрачном наморднике. И улыбается приветливо. Я бы даже сказал, угодливо – мусор зэку никода так не улыбнется. Я думаю – что за дела? А начальник конвоя палец к своей маске прикладывает – мол, тихо – и такой же респиратор мне протягивает. Я взял, приложил к лицу, вдохнул раз-другой, и в голове у меня как бы прояснилось… Спать сразу расхотелось, и даже бодрячок легенький пробил…
– Гонишь, – сказал один из чертей неуверенно.
– Не гоню. А начальник конвоя, значит, жесты делает приглашающие – выгнулся перед открытой дверью, прямо как швейцар у кабака. Я ваще припух… Мировая революция, что ли? Слез со шконки, выхожу за ними в коридор. Во всех клетках храп слышен. Никто не говорит… Доходим до купе конвоя, выходим в тамбур, и тут начальник конвоя начинает дверь открывать. А поезд быстро идет, трясется. Я думаю – может, они меня сейчас с него тупо сбросят? Даже хотел назад в клетку побежать…
– И?
– Начальник дверь открыл, и тут я понимаю, что какая-то туфта творится. Там ветер должен быть, грохот. А ничего подобного нет. Только лесенка пластмассовая, и что-то типа такого алюминиевого перрона рядом качается. Чепушила этот, значит, по лесенке на перрон переходит, начальник конвоя за ним, я следом, и тут такое вижу, такое…
– Чего?
– Значит, стоим мы типа в таком небольшом зале, прямо почти в габарит столыпина. Метр до стен, метр до потолка. Как описать-то… Знаете, есть боксы, где машины на воздух поднимают? Вот примерно такой, очень маленький, но крайне аккуратный. И в нем висит наш столыпин. Только… Только я смотрю – а это на самом деле никакой не столыпин, потому что колес у него нет вообще. Просто гондола в форме длинного вагона. А внизу такие желтые… Как сказать… Типа лапы, которые его держат, и эти же лапы его покачивают – туда-сюда, туда-сюда. А над лапами такие длинные рычаги с колотушками, которые бьют в дно через прокладку. И получается стук колес. Короче, не столыпин это, а люлька такая алюминиевая. С первого взгляда видно, что очень дорогая хрень, и качественно сделанная. Как самолет. С такими утопленными заклепочками, полированное все – блестит аж. Хайтек. Везде какие-то номера, надписи по-английски. Стрелочки, уровни, таблички. Отпидарасили, как в космическом центре. А у окон вагонных, за этой белой пластмассой, такие лампы стоят, а перед ними движущиеся фиговины качаются, типа как дворники на машине, со всякими шаблонами и фигурами. Это, как я понял, тени делать. Только лампы не горели, потому что в столыпине ночь была.
– Точно фуфло гонишь, – сказал кто-то из чертей. – Ты че, не помнил, как в этого столыпина входил?
– Помнил, в том-то и дело. Обычный тюремный вагон. Стопудово не эта алюминиевая люлька… Потому-то голова у меня кругом и пошла. Даже про чепушилу этого забыл… А потом смотрю – выходит он из-за ширмочки, и на нем уже не тюремный шмот, а халатик из синего шелка. Расшитый, не поверите, такими веселыми фиолетовыми петухами.
– Бля, – сразу в несколько голосов сказала клетка.
– И он мне, значит, говорит – пойдемте-ка, друг любезный, кое-что вам покажу… Поворачивается и идет к двери из бокса. Я оборачиваюсь, а сзади, натурально, начальник конвоя. Уже в гражданской рубашке с пальмами. Видимо, пока я на этот агрегат глазел, тоже переоделся, брюки только камуфляжные остались. Улыбается так и показывает головой – иди, мол, куда зовут. А в кармане, вижу, ствол бугрится. Чувствую, надо слушаться. А то совсем какие-то странные дела…
– Я уже понял, – сказала верхняя темнота кавказским голосом. – Потом скажу, не буду вам кайф ломать. Давай дальше, Плеш.
– Чепушила этот, значит, открывает дверь. За ней лесенка вверх, узкая такая, но отделка пиздец. Дерево, сталь, стекло. Он по ней. Я за ним. Два пролета, еще одна дверь, он ее открывает, бля… Я смотрю и глазам не верю. Мы на палубе.
– Какой палубе?
– Яхты, – ответил Плеш. – Огромнейшей яхты.
– Чего ты увидел конкретно? – спросила верхняя темнота. – Опиши.
– Там такая крыша сверху… Вернее, не крыша, потому что стен под ней не было, а как бы огромный козырек с лампами. И под самой большой круглой лампой – здоровый накрытый стол. А рядом такой широченный диванище с подушками. Дальше ограждение – и за ним вечернее море. Далеко-далеко на горизонте земля – какие-то горы торчат. Типа как бы острова. И на них редкие такие огоньки… В небе закат, красиво, слов нет. И воздух такой свежий, такой соленый, что даже больно. Я только тогда понял, как в столыпине воняло.
– Ахуеть.
– А ниже и дальше, – продолжал Плеш, – еще одна палуба. И на ней, в натуре, самый настоящий вертолет.
– А еще кто-нибудь там был, кроме этого чепушилы? – спросил чертяка снизу.
– Да. На диване. Такие нереально красивые телки в восточных нарядах, и на голове у каждой как бы шлем в виде золотого храма. Танцовщицы. Всего десять или около того. У некоторых в руках музыкальные инструменты – я таких раньше даже не видел. У одной как бы длинная мандолина. У другой маленькие гусли. А у третьей какие-то гонги на палочках. Я реально таких обалденных баб никогда в жизни не встречал. Вообще никогда. А потом смотрю… У них кадыки. Небольшие такие, но если приглядеться, видно.
– Девочки с хуем, – проговорил один из чертей презрительно и сплюнул.
– Ты че, в хате плюнул, дурила? – спросили сверху.
– Я на ботинок, – сказал черт. – На свой ботинок, в натуре.
– Гляди, пропадало ложкомойное, каждый день глиной умываться будешь… Плеш, и че дальше было?
– Дальше… Дальше приглашает он меня к столу. А там… Напитки разные. Вина в основном. Красные, белые… И салатики всякие, закусочки, все в маленьких таких тарелочках. Даже не на еду больше похоже, а на какое-то мелкое изобразительное искусство. В музее можно показывать. Я говорю – что это за еда такая? А он отвечает – косяки. Я не понял сначала – какие косяки? Чепушила засмеялся и говорит – не, не такие, как в столыпине. «K-a-i-s-e-k-i». Еда такая японская.
– Про еду не надо, – сказала верхняя полка, – день не жрали.
– Короче, садимся мы за стол, и трансы со своего дивана тихонько играть начинают. Музыка приятная такая, тихая, ненавязчивая. Тинь-тинь-та-ра-ра, тинь-тинь-та-ра-ра… Чепушила этот налил вина два бокала, выпили мы, потом за хавчик взялись, и голова у меня влегкую закружилась. И тогда чепушила говорит – теперь понимаешь, любезный? Я и отвечаю – почти, говорю, но не совсем. А он тогда спрашивает – ты такое вкусное белое вино когда-нибудь пил? Нет, отвечаю. Никогда. А он говорит, это, между прочим, самое обычное «Пино Грижио», ничего особенного. А косяки понравились? Небесная хавка, отвечаю, просто небесная. А он говорит – хавчик-то тоже ординарный. Хорошими поварами сделан, качественные продукты, но ничего сверхъестественного. Любой человек с регулярным заработком может себе время от времени позволить…
– Не говори про еду, гад, – сказала темнота.
– Не гад я, а честный фраер, – огрызнулся Плеш. – Дальше рассказывать или нет?
– Рассказывай. Только про еду не упоминай. Заменяй словом «чифирь».
Плеш вздохнул, собираясь с мыслями.
– Короче, сидим мы с ним, чифирим, чифирим, и он мне свою жизненную философию излагает. Человек, мол, живет для удовольствия и наслаждения. Любой человек, бедный или богатый, живет только и единственно ради него. Потому что люди так устроены, что иначе жить не смогут и не станут. Просто у разных социальных классов эти удовольствия разные. Во всяком случае, внешне. Но та часть человеческого мозга, которая их испытывает, совершенно одинаковая.
– Резонно говорит, – заметила темнота. – Я тоже про такое думал. Чифирь в хате – это как на воле кокаин. Даже лучше, когда долго чалишься.
– Вот. Он то же самое примерно объяснять стал. Лучшее в мире вино, говорит, если его каждый день пить, станет пресным как вода. А если после пары суток в столыпине вот этого обычного «Грижио» выпить, оно нектаром покажется. Чувствуешь, говорит, куда клоню? Пока нет, отвечаю. Он говорит – а ты подумай, что будет, если после суток в столыпине действительно лучшего в мире вина выпить? Я только плечами пожал. И тогда он… Про бухло можно?
– Можно, – пробурчала темнота.
– Он тогда достает из серебряного ведерка на столе такую бутылку, обычного вида, только этикетка в таких серо-бурых разводах, словно в сугробе зимовала. Вот, не угодно ли. Шато д’Икем, одиннадцатый год. Я говорю, совсем молодое… Он отвечает, нет. Постарше нас с тобой будет. Я тогда – подождите-подождите… Вы хотите сказать, девятьсот одиннадцатый? А он говорит, нет. Восемьсот одиннадцатый. Тысяча восемьсот одиннадцатый год. Винограды Семильон и Савиньон с преобладанием первого. Много сахара в осадке, поэтому сохраняется веками, хотя белые вина обычно портятся быстро. Знаешь, как раньше королей в меду мумифицировали? Вот примерно тот же эффект… Ну-ка попробуй… И наливает мне. Правда, немного совсем, полбокала. Я попробовал…
– И че?
Плеш закрыл глаза и почмокал опаленными чифирем губами, пытаясь воскресить во рту забытый вкус.
– Даже не знаю, как описать. Сладкое. Приятное. Но не в этом дело. Это было… Ну, как будто в этом вкусе Наполеон и Кутузов, Наташа Ростова и Лев Толстой, Крымская война, Парижская коммуна, Первая мировая, Вторая мировая… Потом уже наше время, и я сам. Маленький такой. Словно я в космос поднялся и всю историю оттуда увидел. И не просто туда взлетел, а из сраного столыпина выпрыгнул. Понимаете разницу?
Клетка угрюмо молчала.
– Чепушила этого вина, значит, тоже отхлебнул и стал свою мысль дальше развивать. Удовольствие и наслаждение, говорит, по своей природе не могут быть постоянными. Они всегда связаны с переходом от какой-то потребности к ее удовлетворению. От жажды и голода к их насыщению, от полового одиночества к спариванию и так далее. Было плохо, стало хорошо, потом все прошло. Каждый социальный класс удовлетворяет потребности привычным для себя образом, поэтому общее количество удовольствия в человеческой жизни почти одинаково в разных социальных стратах. Это, можно сказать, божеская справедливость. Или природная, если ты в Бога не веришь. И раб, и Цезарь счастливы одинаково, хотя от разных вещей. Ты, говорит, математику помнишь из школы? Вот представь себе две кривые с одинаковым наклоном. У богатого она проходит в сто раз выше, но наклон тот же. Площадь под графиком может различаться на несколько порядков, но производная будет та же. Личное персональное удовольствие и есть такая производная. Высота графика роли не играет.
– Математику сворачивай уже, – сказала темнота.
– Сейчас, – ответил Плеш, – там два слова осталось. Но природу, говорит он, можно обмануть. Самый простой способ – это из нижней точки графика для самых бедных перейти в высшую точку графика для самых богатых. Тогда производная, или крутизна происходящего, будет уже совсем другая. И удовольствие тоже. Как ты только что мог заметить.
– Правильно, – заметила темнота сверху.
– Мысль эта, говорит чепушила, на нашей планете не новая, и до нее за последние три тысячи лет доходили многие. По-русски это называется «из грязи в князи». Гарун аль-Рашид почему, как ты думаешь, нищим переодевался? Истории про себя слушал? Ага, как же. У него для этого придворные поэты были. Нерон зачем актером подрабатывал? Коммод зачем в Колизее дрался, как сраный раб? Не для славы, браток. Слава у них всех уже была такая, что к ней сколько ни прибавляй, больше не станет. Нет, вот именно и исключительно для этого – понять лишний раз, чего в жизни достиг… Почувствовать по контрасту… И еще, говорит, иногда очень хочется, чтобы вместе с тобой это кто-нибудь другой понял и ощутил. Хотя бы на время… Нерон с Коммодом для этого целые цирки собирали. А у нас, говорит, со свидетелями сложнее. Зритель сегодня у меня один ты… Но мне хватит.
Плеш вздохнул и замолчал, словно рассказ этот его крайне утомил и опечалил. Молчали и зэки. Потом кто-то снизу спросил:
– И что дальше?
– А дальше чепушила этот мне говорит – знаешь, что больше всего изумляет? Что я каждый раз на стене эту лодку рисую, каждый раз предлагаю со мной поплыть – и ни разу никто не захотел. Хотя, может, и лучше, что никто не хочет. Один хрен придется в тюрьму вернуться, потому что зэков сдавать нужно в целости, тут все строго. У ФСИНа условие – никаких накладок. Вечером урок этих назад повезут – сначала вертолетом, потом самолетом. Как устриц. Сдаем строго в срок, всех вместе – пока вагон-двойник на перегоне маринуют. Так что оставить погостить я никого надолго не могу…
Плеш замолчал, и по его грустному лицу стало ясно, что конец его странной истории совсем рядом.
– И чем кончилось?
– Короче, доел… то есть, дочифирили мы с ним, «шато д’Икем» еще немного выпили, поцеловались с вечностью. Много он не наливал. А потом он говорит – пора, значит, идти. Пошли мы назад в трюм, спускаемся в этот зал. Столыпин там все так же качается. Только лампы напротив окон уже горят вполсилы, типа рассвет. И петухи на его халате в этом свете нежно так переливаются… Последнее, что перед глазами…
– Вот это реальный главпетух был, – сказал мрачно кто-то из чертей. – Такие под шконкой точно не водятся. А потом что?
– Чепушила со мной попрощался и к трансам своим пошел. Остался я с начальником конвоя. Тот улыбается, конечно, но ствол в кармане выпирает, как будто у него стояк никак не пройдет. Он, значит, опять эту маску прозрачную мне выдал, сам такую же надел и пошли мы вглубь вагона. Там все как храпели, так и храпят. Он даже дверь в нашу клетку не запер, оказалось – просто прикрыл. Открывает он ее передо мной, руками так виновато разводит – и кивает на мою шконку. Что тут делать. Я залез, он руку протягивает – давай, мол, маску. Я и отдал.
– А потом?
– А потом вагон качнуло, как на стыке бывает, и я проснулся.
– Где?
– В столыпине. Где же еще.
– А чепушила?
– Чепушилы этого не было уже. Сняли ночью.
– Ясно, – сказала верхняя тьма. – Он потому и дурковал так, что знал – ночью на другой маршрут переведут. Хоть маляву на него составили?
– Непонятно было, на кого, – ответил Плеш. – Да и забыли про него быстро. Мало ли петухов на зоне.
– А, блять, – сказал кто-то из чертей. – Только теперь доперло. Так это твой сон был! А то у меня крыша уже поехала.
– А я сразу понял, – произнесла верхняя тьма кавказским голосом. – Я тоже, помню, пошел как-то раз гулять по полю. Там стадо овец. Я подхожу, а эти овцы на самом деле не овцы, а девочки в таких белых пушистых платьях. Все на четвереньках стоят и кого-то ждут. Молодые, нормальные такие дамки. Смотрят на меня и молчат. Я к одной пристроился, дрыг раз, дрыг два – и тоже проснулся. Знаешь где? В изоляторе на первой ходке.
В клетке погас свет. Потом за решеткой нарисовался силуэт конвойного:
– Спать, драконы! Отбой. Ссать строго в бутылки, место должно еще быть. Срать выведем завтра.
– Спасибо за заботу, гражданин начальник! – просипел кто-то из чертей. – Чтоб ты так срал завтра, как я сегодня!
Конвоир поглядел на него тусклым взглядом, что-то взвесил – и, видимо, решил не связываться. Еще через минуту свет погас и в коридоре. Стало совсем темно.
– Ну и че дальше было? – спросила верхняя полка, когда конвоир ушел.
– Да все как обычно, – ответил Плеш. – Через день довезли до зоны. Столыпин этот самым настоящим оказался. Тем самым, в который я садился – у него на боку пятно краски было, я запомнил. Да и клетка та же самая, даже царапины одинаковые на стенах. Вот только лодку эту, которую чепушила на стене рисовал, мусора со стены стерли. Еще когда спали все. Чтоб, типа, никакой надежды… Выгрузили нас, короче, прямо в поле – прыг-скок вместе с вещами, конвой стреляет без предупреждения. Ну и стал срок свой мотать.
– Тебе не предъявили, что с петухом уплыть захотел?
– Базар про петушиную лодку был, – ответил Плеш, – но я с него грамотно съехал. Сказал, что лоха разводил и ловил на слове. Руками его не трогал, вещей его не касался. А про сон я тогда никому не рассказывал. Так что какой с меня спрос?
Тьма наверху зевнула и сказала что-то неразборчиво-неодобрительное.
– А про сон этот, – продолжал Плеш, – я до сегодняшнего дня даже не рассказывал никому. Сильно на меня подействовал…
– Почему подействовал? – спросили снизу.
– Трудно сказать. Словно я понял, как оно в жизни бывает. И захотелось мне тоже… Ну, может, не так высоко, но подняться. Короче, другим человеком я стал, вот что. Отсидел полгода, потом на условно-досрочное подал. Кум отпустил.
– А дальше?
– Дальше пошел к успеху, – усмехнулся Плеш. – И нормально так сперва все было… Пока вот опять не осудили, мусора позорные, за хозяйственное преступление… Только я теперь не сдамся. Освобожусь – опять к успеху пойду. Я свое у жизни по-любому зубами вырву. Я видел, какой он, успех… Хоть и во сне это было, а все равно… Эх…
– Интересная история, – сказала верхняя тьма. – И какой ты из нее главный вывод сделал?
Плеш долго молчал. Дыхание его стало шумным, словно он незаметно для себя засыпал.
– Ты спишь, что ли?
– Не, не сплю пока, – ответил Плеш. – Думаю, как объяснить… Вот есть такая хохма, что рай для комаров – это ад для людей. Если на распонятки перевести, ад для петухов – это рай для правильных пацанов. Вроде пернатые под шконкой, а братва на пальмах. Только это глюк и разводка.
– Почему?
– Потому что братва на самом деле не на пальмах. Она на нарах. Просто она верхние нары пальмами называет. А на пальмах – на реальных пальмах, которые на пляжах растут – петухи. И они как раз в раю. А мы в этом петушином раю работаем адом. Едем в своем тюремном вагоне и думаем, что масть держим. А вагон этот катит по большой синей и круглой планете, где про нас ничего даже и знать особо не хотят. И петух на ней – самый уважаемый человек. Как это в песне пели – с южных гор до северных морей пидарас проходит как хозяин необъятной родины своей…
– Обоснуй.
– А че тут обосновывать, – пробормотал Плеш уже совсем заплетающимся языком. – Тут в культуре понимать надо. Вон в Америке знаете как? Если кто про себя объявил, что он еврей и пидарас, он потом даже правду у себя в твиттере писать может.
– Правду о чем?
– Да о чем угодно. И ничего ему не будет, как дважды представителю угнетенных майноритиз. Ну, почти ничего – если, конечно, частить не будет. А остальных так поправят, что мама не горюй. Вона как петухи высоко летают. А у нас… Ну да, кажется иногда, что пернатые под шконкой. Пока в столыпине едем…
Слова были в идеологическом смысле очень и очень сомнительные – это поняли все.
– Да, – сказала задумчиво верхняя тьма, – ясно теперь, как ты мыслишь. А знаешь, Плеш, ведь с тобой теперь тоже вопрос решать надо.
– Почему?
– В тот раз ты с базара съехал, потому что братве про сон не рассказал. Но сейчас-то ты все выложил. И расклад уже другой выходит. Ты же с петушарой этим за столом сидел. Вино пил, пищу принимал. Кто ты после этого, Плешка?
Словно холодным ветром повеяло в клетке: формально это не было еще объявление петухом или зашкваренным, но уши, привычные к строю и логике тюремных созвучий, узнали черную метку. Плешка, Машка, петушок… Не сама еще метка, конечно – только эхо и тень. Но тени не бывает без того, что ее отбрасывает, и все, кто еще не спал, ощутили это сразу.
– Да брось ты, – сказала верхняя тьма своим кавказским голосом. – Это ж сон. Говорят, сон в руку. А такого, чтоб сон в сраку, я не слышал. Фраеру главпетух приснился. И что? Мало ли что ночью привидится. Зашквар во сне зашквар, только если в том же сне за него и спросят. А потом зашквара нет.
– Ладно, замнем пока, – ответила темнота своим первым голосом. – Но рамс запомним. Ходишь ты, Плешка, по самому краю. Учти…
Плеш повернулся к стене. Все, кто еще не спал, понимали, о чем он сейчас думает. Конечно, существовала надежда, что завтра этот поздний разговор не вспомнят – но уверенности такой теперь уже быть не могло.
Впрочем, что людям чужая беда… мало ли своей? В клетке вовсю храпели несколько ртов, и звук этот был настолько гипнотизирующим и сладким, что и остальных быстро накрыло сном.
***
Прошло полчаса, и в клетке зажегся свет.
Щелкнул ключ, отворилась дверь, и в купе вошел конвойный. На голове у него почему-то была мягкая белая панама, а на лице – прозрачная маска-респиратор, закрывающая нос и рот.
Он склонился над Плешем и приложил точно такую же маску к его лицу. Плеш замычал, проснулся – и сразу кивнул головой. Конвойный повернулся к Басмачу и проделал ту же процедуру.
– Федор Семенович, Ринат Мусаевич, выходим! – прошептал он.
Как только бывшие Плеш с Басмачом вышли в коридор, конвойный закрыл дверь и повернул ключ в замке. Коридор, где оказались Федор Семенович с Ринатом Мусаевичем, выглядел странно.
Собственно, это был не вполне коридор. Или, еще точнее – вполне коридор только при взгляде из клетки. Напротив двери было забранное белым пластиком окно и крашеная стена в несвежих потеках у пола. Но чем дальше от двери, тем сильнее искажалось пространство – изгибались стены, расходились пол и потолок. А кончалось все неприметным поворотом за угол – совсем недалеко от входа в клетку.
– Зачем так выгнули все? – искаженным маской голосом спросил Ринат Мусаевич.
– Это для формирования перспективы, Ринат, – ответил Федор Семенович. – Из-за решетки кажется, что коридор настоящий до самого конца. Только поэтому и получилось втиснуть. Искажения все равно есть, конечно, но глазу не заметно… Все просчитано до миллиметра.
Они повернули за угол, прошли через открытую конвойным дверь – и по зеленому пластиковому мостику перешли на качающийся перрон. И сразу же стало ясно, что качался не перрон, а сам вагон.
Если, конечно, это можно было назвать вагоном.
Конструкция, подрагивающая на желтых лапах в центре тесного бокса, казалась не особо большой – алюминиевый куб, в который мерно били снизу резиновые колотушки. Но тщательностью и сложностью отделки этот куб походил на спутник. На нем было много разноцветных линий, стрелок – и небольшая голубая эмблема:
TSSS Marine Gmbh
А под ней, словно косой почтовый штемпель, темнело синее и крупное:
FUJIⓔ INC, SKOLKOVO
В алюминии было окно, забранное матовым пластиком. Перед ним вращался похожий на елку кронштейн со множеством шаблонов сложной формы. За кронштейном горела наведенная на окно лампа.
Ринат Мусаевич и Федор Семенович сняли респираторы.
– Удивительно, как они втиснули, – сказал Ринат Мусаевич. – Не увидел бы, не поверил. Сколько отдал?
– Девять миллионов семьсот тысяч.
– Дешево.
– Для меня не очень, – ответил Федор Семенович. – Они, главное, брать долго не хотели, говорили, что только для мегаяхт работают, бюджет с двадцати миллионов. Я сначала думал, это Дамиан прайс задирает. Он теперь зубастый, акул уже не боится. Оказалось нет, действительно немцы. Но у меня не столько в деньги упиралось, сколько в размер. Больше шести метров никак не вписать по габаритам – у меня же лодка совсем маленькая, если с твоей сравнивать. Но потом фирме интересно стало, могут они такой вариант сделать или нет. Чтобы из клетки все натурально выглядело. Получается, они развивают ноу-хау, а я финансирую.
– Да, немцы они такие, – согласился Ринат. – Ты на дальняке лимонов пять сэкономил, кстати. Если не семь.
– Да? А почему?
– Это же самый дорогой агрегат во всем столыпине. Там отдельная проекционная установка, которая полотно под дырой изображает – ты ссышь, а внизу земля несется. Шумогенератор, пневмоотсос.
– А это зачем?
– Говно ловить до того, как на экран шлепнется. И все жидкости тоже. Брызги по любому долетают, поэтому экран каждый месяц менять надо.
– А что, – спросил Федор Семенович, – защитное стекло поставить нельзя?
– Нельзя. От него демаскирующий блик. На дальняк же весь столыпин ходит. Зимой, когда картинка совсем белая, экран вообще раз в неделю меняют. И там еще отдельный климат-центр, чтобы мороз генерировать. Когда снежинки через очко в вагон влетают. Так что сэкономил ты знатно.
Федор Семенович только вздохнул.
– В общем ничего, – подвел итог Ринат Мусаевич. – Убедительно вполне. Пошли наверх.
Поднявшись по лестнице, они вышли на солнечную палубу.
Над гладью моря висели высокие витые облака. Половину горизонта закрывал зеленый тропический берег – он был далеко, но можно было различить парящие над ним точки птиц. Еще дальше синели силуэты гор.
Недалеко от яхты Федора Семеновича сверкал белыми плоскостями другой корабль – огромный и длинный, похожий на ковчег Завета: не того, конечно, о котором рассказывают лохам в церкви, а настоящего, секретного, про который серьезные люди говорят только шепотом, и только с другими серьезными людьми.
– Какая у тебя лодка красивая, Ринат, – выдохнул Федор Семенович. – Понимаю, что глупо, а все равно – как вижу, завидую.
Ринат Мусаевич засмеялся.
– Ничего, – сказал он. – Не все сразу. Ты вот тоже за семь лет неплохо раскрутился. Даже у меня такого прикола нет.
– Это ты про что?
– Про бутылки, куда ссать надо. Сильный ход.
– Вынужденная мера.
– Все равно прикол. Надо будет ввести. Типа дальняк на день закрывать. Но не больше.
– Это да… Ринат, я так рад тебя в гостях видеть… Раз уж мы про бутылки заговорили – у меня тут как раз пузырек Шато д’Икем есть, тысяча восемьсот сорок седьмого года. На аукционе купил. Давай, может, выдоим?
Ринат Мусаевич кивнул.
– Не откажусь. Но не сейчас. Прибереги до завтра или послезавтра. Кстати, ты всегда перед арестантами так выступаешь? Всю технологию им рассказываешь?
Глаза Федора Семеновича заблестели.
– Я, Ринат, не их развлекал, а тебя. Думаю, неужели не заржет ни разу? Нет. Ты железный реально, как Феликс.
Ринат Мусаевич погладил себя по животу.
– А то. Если бы меня, Федя, на смех пробивало, когда не надо, я бы по этому морю не плыл. В России главное, что надо уметь – это сделать морду кирпичом и молчать. Вот Борька с Мишей этого не понимали до конца, потому и попали. А ты-то понимаешь?
Федор Семенович поднял руки, и на его лице проступило виноватое выражение.
– Понимаю, Ринат. Только мы же сейчас не в России. Мы в моем столыпине. Зачем его делать было, если и в нем молчать надо?
– Вот ты самого главного еще не просек, – вздохнул Ринат Мусаевич. – В том-то и дело. Если ты у себя в личном столыпине промолчишь, так и в России у тебя все нормально будет. Потому что Россия, Федя, это столыпин. А столыпин – это Россия. И то, что у тебя есть тайный выход на палубу, ничего не меняет. Понял?
– Понял, Ринат, понял. Но тогда другой вопрос возникает. Где мы на самом деле-то?
– В каком смысле?
– Ну, мы чего, на яхте плывем и в столыпина иногда заныриваем? Или мы на самом деле в столыпине едем и на палубу иногда вылазим?
– Да ладно, – засмеялся Ринат Мусаевич. – Не грузись. Но я тебе серьезно говорю, я, например, даже в столыпине разговариваю осторожно. Слушаю, что люди гонят, и на ус мотаю. Потому и живу в покое и радости. Так что галочку себе поставь, советую.
– Уже поставил, – сказал Федор Семенович. – Ты точно выпить не хочешь?
Ринат Мусаевич отрицательно покачал головой.
– Мне трансиков новых подвезли. Пойду проверять. Я только трезвый могу, годы уже такие. Хочешь со мной?
– Ой, спасибо, Ринат… Они красивые, да, но кадык мне не нравится. И елдак тоже как-то мешает – ну что это такое, какой-то спринг-ролл все время в ладонь тычется. Я понимаю, конечно, это как фуа-гра или испанская колбаса с плесенью. Надо вкус развить. Но я уж лучше по старинке…
И Федор Семенович кивнул в сторону бассейна, где плескалось несколько длинноногих русалок.
– Меня даже за них супружница знаешь как пилит…
– Ладно, – сказал Ринат, – пойду.
Они молча дошли до лестницы, спустились к корме и подошли к пришвартованному к яхте катеру.
– Так в целом понравилось? – спросил еще раз Федор Семенович.
– Есть что-то, да. Удачно в мелкий габарит вписали. Но у тебя погружения нормального нет, Федя, если честно. За сутки драматургия отношений не успевает сложиться. Если целый вагон с дальняком сделать, трое суток можно ехать. Сначала тебя из клетки в клетку по безопасности переводят. Потом из других клеток малявы на тебя поступать начинают. Совсем другие ощущения…
– Ну да, – кивнул Федор Семенович.
– Ссать в бутылку, конечно, интересно. И сутки не срать – тоже. Но если один раз попробовал, дальше ничего принципиально нового не будет. А самый ништяк, Федя, это когда конвой тебя на дальняк ведет личинку откладывать, а вагон длинный, и из всех клеток на тебя черти смотрят. А потом приводят обратно, а на твоей шконке уже три чертопаса в стиры режутся… Вот это, брат, реально штырит. А бутылки… Что бутылки…
Федор Семенович сокрушенно вздохнул.
– И дешево у тебя только на первый взгляд, – безжалостно продолжал Ринат Мусаевич. – Потому что на самом деле куда дороже.
– Почему?
– Ты за каждые сутки перевозку в два конца оплачиваешь. И ФСИН, и самолет, и вертолет, и спецмедицину. А я один раз за трое суток. У меня целый вагон скопирован, а у тебя всего одно купе, так что контингента я больше вожу. Но самолет-то все равно целиком фрахтовать и тебе и мне. Цена одна. А сами урки по деньгам в общем раскладе говно, сколько их – вообще не важно. Бюджетные варианты, они в действительности самые дорогие. Если по большому сроку смотреть.
– Это да, – кивнул Федор Семенович.
Ринат Мусаевич сделал еще один шаг к трапу, остановился и потрепал Федора Семеновича за плечо.
– Ничего, не расстраивайся. Вот выйдешь через год на ай-пи-о, купишь лодку подлиннее и сделаешь себе нормальный столыпин. Не завидуй, Федь. Я ведь тоже в этом мире не самый крутой. Вон у Ромы знаешь как на «Эклипсе»? Вагон на вторые сутки тормозит, окно в коридоре открывают – типа проветрить, а там вечерний перрон, станционный фонарь качается, бухие мужики дерутся и бабки грибы продают в банках. В вагоне в это время капустой начинает вонять, и слышно, как на станции Киркоров из репродуктора поет. Все, блять, стопроцентно реалистичное. Настолько, что мы один раз в клетке даже на водку собрали, забашляли старшине, и он нам бутылку паленой через окно купил… Печень потом двое суток болела. Видишь, как бывает? Ты вот мне завидуешь, а я Роме. Нормально, Федя. Это жизнь…
– А-а-а, – наморщился Федор Семенович, словно до него наконец что-то дошло, – так это… А я-то…
Ринат Мусаевич, уже поставивший ногу на трап, опять остановился.
– Чего?
– Разговор был в моем столыпине. С неделю назад. Только теперь вот доперло.
– Какой разговор?
– Да ехал на соседней полке один мужик – такой типа честный фраер. Всю дорогу мне мозги штукатурил своей конспирологией. Мол, Путин Абрамовича уже раз пять арестовывал и отправлял по этапу – а до конца задавить не может. Абрамовича к самой зоне уже подвозят, и тут жиды с масонами приезжают в Кремль, подступают к Путину с компроматом и говорят: «Отпусти немедленно нашего Абрамовича, а то все счета твои тайные раскроем». И Путин прямо с этапа отпускает. Злится, чуть не плачет – а поделать ничего не может. Так до зоны ни разу и не довезли.
– Крепко.
– И, главное, арестант, который мне это втирал – по типу канонический русский мужик духовного плана. Глаза синие как небо. Чистый Платон Каратаев – такие раньше разных тургеньевых на парижские запои вдохновляли. Мол, придет день, и сокровенная правда через такого мужика на самом верху прогремит…
– Ну вот, считай, и прогремела, – усмехнулся Ринат Мусаевич. – Расскажу теперь всем за коньячком.
– Боже, как грустна наша Россия, – вздохнул Федор Семенович.
– Грустна, – согласился Ринат Мусаевич. – Но сдаваться не надо. Мы ведь не просто так со спецконтингентом катаемся, Федя. Мы с людьми по душам говорим на понятном им языке, воспитываем… Ныряем в народ на всю глубину его. И сегодняшний твой рассказ тоже как-то отзовется. Упадет в копилку. Люди, глядишь, немного человечнее станут, глаза приоткроют. Капля камень точит.
Федор Семенович открыл было рот, но Ринат Мусаевич остановил его жестом.
– Юра вон у себя на «Катаклизме» баню в столыпине устроил, – продолжал он. – Жестяные стены, слив воняет, на стене банка с опилками и содой. Иногда током ебошит, но не сильно. Значит, в каком-то реальном поезде такую же точно баньку сделали. Люди теперь в дороге помыться смогут – если, конечно, конвой разрешит. Вот это и есть социальное партнерство. Понемногу, понемногу богатство и просвещение просачиваются вниз. Для того ведь в девяностых все и затевали.
Федор Семенович кивнул.
– И то верно, – сказал он. – Но как же чертовски медленно. Как много еще надо сделать. И как коротка жизнь…
notes
Назад: Часть вторая Бой после победы
Дальше: Примечания

