Репортажи с процесса Оды [Ко Эйдзи]
день первый
Оду Сотацу вводят в зал. Он садится на стул. Он, обвинитель Саито и защитник Утияма ждут, пока войдут судьи. Один за другим судьи входят в зал и рассаживаются. Ходит слух, что г-н Ода, находясь под стражей в полицейском участке, отказывался говорить. В радикальных изданиях некоторые пишут, что с ним обращались дурно, и эта оценка, вполне возможно, подтверждается плохим самочувствием, внешние приметы какового у него заметны. Однако противники этой оценки поспешили бы возразить, что, вполне возможно, здоровье у него подорвано угрызениями совести. В чем бы ни была причина, мы увидим, продолжит ли он отмалчиваться и на судебном процессе.
Обвинитель и защитник подходят к судьям. Очевидно, что-то обсуждается. Они возвращаются на свои места. Обвинитель излагает свое обвинительное заключение. Ода Сотацу обвиняется в похищении и убийстве одиннадцати человек. Когда зачитываются обвинения, г-н Ода остается безразличен. Костяшки его пальцев не белеют, зрачки не расширяются, он и бровью не ведет. Он совершенно равнодушен.
Ничто, кажется, не трогает его, когда говорит обвинитель Саито, даже когда зачитывается вслух обличающий документ, собственноручно подписанный господином Одой еще до того, как его арестовала полиция. Это признание, но это не признание, должным образом подписанное и заверенное второй подписью, как предписывают правовые нормы. Оно, возможно, доказывает его вину, но может ли оно считаться равносильным подлинному признанию, к которому преступник приходит мало-помалу, – вот вопрос, который со временем прояснится.
Судьи совещаются. Оде Сотацу и защитнику Утияме задают вопрос:
Признает ли Ода Сотацу факты в том виде, в каком они изложены в обвинительном заключении, или станет отрицать их?
Ода Сотацу начинает говорить. Он словно бы вытаскивает слова из каких-то глубин, со дна сознания, ценой колоссальных усилий. Вначале невозможно расслышать, что он говорит. Судья Сибо просит его говорить громче. Ему приходится говорить громче. Он говорит, что не знает о фактах, изложенных в обвинительном заключении, но придерживается признания, которое подписал, в том виде, в каком его подписал.
Судьям этого недостаточно. Его вновь спрашивают о фактах в обвинительном заключении, подготовленном обвинителем Саито: он их признает или отрицает? Г-н Ода повторяется. Он не знает о фактах, изложенных в обвинительном заключении, но придерживается признания, которое подписал, в том виде, в каком его подписал. Г-ну Оде говорят, что он только что выслушал обвинительное заключение. Невозможно счесть, что об обвинительном заключении ему ничего не известно. Его просят просто ответить, признает он или отрицает эти факты. Г-н Ода снова начинает говорить, заявляет, что, хотя он и осведомлен об обвинительном заключении, все же не может ни признать, ни отрицать его, а скорее, со всем почтением к суду, придерживается признания, которое подписал, в той форме, в какой его подписал.
Пока все это длится, защитник Утияма выглядит крайне огорченным, в то же время пытаясь изобразить на лице безразличие. Неужели он не знал, что произойдет то, что произошло?
Судьи объявляют заседание закрытым. На следующий день судебный процесс продолжится.
Репортажи с процесса Оды [Ко Эйдзи]
день второй
Оду Сотацу вводят в зал. Он садится. Он, обвинитель Саито и защитник Утияма ждут, пока войдут судьи. Один за другим судьи входят в зал и рассаживаются. Судьи объявляют: принято решение, что, поскольку в целом общий смысл фраз, которые содержатся в признании, вполне совпадает с общим смыслом обвинительного заключения, будет законно и обоснованно счесть, что признание фактов, которые изложены в признании, ничем не отличается от признания фактов, которые изложены в обвинительном заключении, и что в данном случае следует в практических целях счесть, что это так.
На этом судебный процесс прерывается до завтра, а на следующий день обвинитель Саито изложит свои аргументы.
Репортажи с процесса Оды [Ко Эйдзи]
состояние господина оды
Стало известно, что на прошлой неделе Ода Сотацу в какой-то момент совершенно перестал есть. На момент начала судебного процесса его пост длился четвертый или пятый день. В радикальных газетах это называют голодовкой. Называют, по нашему мнению, необоснованно, поскольку нет ощущения, что у поста господина Оды есть какая-то цель или какие-то мотивы. Г-н Ода определенно не заявлял вслух о каких-либо мотивах.
Репортажи с процесса Оды [Ко Эйдзи]
атмосфера в префектуре
Живя в регионе во время процесса, я наблюдал колоссальный всплеск эмоций. Велика надежда на то, что процесс, возможно, подтолкнет г-на Оду раскрыть местонахождение жертв Исчезновений в Нарито. Однако совершенно неизвестно, действительно ли он его раскроет. Некоторые люди из юридических кругов даже одобряют идею затянуть судебный процесс в надежде, что оказываемое им специфическое давление поможет выжать из Оды полную информацию. Неясно, сработает ли это. Со всей определенностью складывается впечатление, что к отбору лиц, участвующих в процессе, подошли, не жалея усилий. Кроме того, пока не объявлены результаты предварительного следствия обвинителя Саито. Вполне вероятно, что он раскопал информацию, которая может пригодиться.
Ко
Интервью
[От инт. Здесь я намеревался привести для вас еще кое-какие выдержки из репортажей Ко Эйдзи, но ловлю себя на желании снова и снова вмешиваться, внося разъяснения. Итак, мы с вами продолжим путь вместе неторопливо, как бы пешочком. Я решил, что попробую разыскать г-на Ко; собственно, мне удалось найти г-на Ко, и он согласился поговорить со мной о процессе. Результаты этого интервью приведены ниже.]
[Это интервью состоялось в собственном доме Ко Эйдзи, облупленной постройке в южной части Сакаи. Открыла мне его дочь, но немедленно ушла, как только удостоверилась, что меня удобно устроили и проявили ко мне гостеприимство всяческими способами. Мы сидели у длинной череды окон, выходящих на залив. Старый журналист объяснил, что любит сидеть здесь по утрам, но днем становится чересчур шумно, и тогда он уходит на дальнюю половину дома. Я сказал ему, что интервью, вероятно, так долго не затянется.]
≡
инт.: Господин Ко, я хотел бы знать, дадите ли вы какое-то объяснение последним дням процесса Оды Сотацу. В свое время ваши репортажи о нем производили большой фурор и их перепечатывали газеты всей страны. Как развивались события?
ко: Он просто отказывался говорить. Полагаю, было много вещей, которые он мог бы сказать. Ничего из этого он не сказал. Кроме момента, когда его заставили говорить – это было в начале процесса, – он больше ни разу ничего не сказал. Человеку, находящемуся под стражей, явно не следовало бы так себя вести, а человек невиновный определенно не стал бы так себя вести. Все это противоречило здравому смыслу. Если это была шутка, то самая странная шутка на свете, и чтобы ради нее человек рисковал своей жизнью, и чтобы было совершенно неясно, в чем ее соль? Ума не приложу.
инт.: Некоторые говорили, что насильственное кормление, к которому прибегали… что оно могло разжечь в нем упрямство. Вы разделяете это мнение?
ко: Несомненно, на пятый день процесса, когда из-за воздержания от пищи он почувствовал себя совсем плохо, – тогда-то его и начали кормить. Думаю, его манера держаться явно изменилась. Хотя, на первый взгляд, он вел себя по-прежнему, вид у него был какой-то смирившийся. В его глазах удавалось прочесть даже меньше, чем раньше.
инт.: И все вы надеялись, что он начнет говорить о жертвах?
ко: Судьи многократно и пространно допрашивали его о жертвах. Все усилия были безрезультатны. Его собственный адвокат, по-моему, это был Яно Харуо, защитник…
инт.: Это был господин Утияма, по-моему.
ко: О да, боже мой, столько лет прошло. Утияма Исао. Он, кажется, умер. Всего несколько лет назад. Отец большого семейства. Они всегда жили в Сакаи, по-моему, много поколений.
инт.: Вы начали говорить о том, что защитник…
ко: Защитник, дайте подумать… ах, да, защитник даже пытался его уговаривать: расскажите все, пожалуйста, расскажите все, это будет наилучший выход для вас и для всех, кого это затрагивает. Он и впрямь был хороший человек, очень хороший, справедливый человек, Утияма. Его очень уважали. Он перепробовал с Одой все возможные способы, все, что мог. Спустя много лет я поговорил с ним об этом наедине. Он очень сожалел, очень сожалел из-за всей этой истории. Некоторые обвиняли его. Несправедливо, но… что ж, некоторые его обвиняли. Утияма сказал мне, что много лет хранил у себя дома портрет Оды, все время, пока практиковал, просто как напоминание: как мало мы знаем о людях, о своих собратьях. Всегда остается что-то, чего мы пока не знаем.
Знаете, что он мне сказал? Что сказал Утияма? В день ухода на пенсию он порвал портрет и выбросил. Больше не желал его видеть. Думаю, он считал, что пытался что-то предпринять на процессе Оды. Умолял его заговорить и объяснить его действия. Но Ода остался равнодушен к его словам.
инт.: И каков был результат?
ко: Результат был такой, что процесс завершился. Он не желал говорить, а факты выглядели относительно очевидными. В своем признании он утверждал, что оттуда-то и оттуда-то были уведены двенадцать жертв, всю эту информацию невозможно было найти ни в одном другом месте – ни в газетах, ни где-то еще. По-моему, газеты знали только о некоторых жертвах. Есть некий груз на совести, есть проникновение в тайну, которое должно произойти, – и вроде бы вот оно. Одного лишь признания никогда не бывает достаточно или не должно быть достаточно. Возможно, иногда достаточно. Но так не должно быть. В данном случае было и кое-что еще. Все эти люди пропали. Вы должны понять, мы очень беспокоились. Все в Сакаи, в префектуре Осака, все мы очень беспокоились.
инт.: Понимаю, я могу это по-человечески понять.
ко: Никто никаким способом не мог бы узнать…
инт.: А приговор – господин Ода выслушал его в таком же состоянии духа, как выслушивал все остальное?
ко: Приговор, как вам известно, гласил, что его надлежит повесить. Он будет заключен в тюрьму и какое-то время подождет, а затем будет повешен. Некоторые говорили, что в этом случае надо проявить снисхождение ввиду его молчания, ввиду отклонений от нормы в его поведении. Возможно, он был сумасшедший? Мне не казалось, что он сумасшедший, и судьям тоже не казалось. Никто в зале не считал его сумасшедшим. Дело суда – вершить правосудие, вот единственное средство, которым располагает общество, когда все остальные средства отброшены. Как вы станете вершить правосудие? Здесь мы имели двенадцать…
инт.: Одиннадцать, по-моему.
ко: Да, да, одиннадцать жертв. Кто должен был говорить от их имени?
инт.: Ну, а оглашение приговора? Оно на него подействовало?
ко: Заметно – нет, так, чтоб заметно, не подействовало. Полагаю, он сознавал, что дело идет именно к этому. Ни для кого из нас это не стало неожиданностью.
инт.: Я прочту вам вслух то, что вы написали по этому случаю.
Вы написали: “Так завершается долгая душераздирающая история Исчезновений в Нарито. Увы, в финале нам известно так же мало, как было известно в начале. Мы нашли, кого в этом винить, но у нас не прибавилось возможностей для конкретного ответа на вопрос: «Где наши пропавшие родственники и по какой причине их увели?» Таковы тайны, которые Ода Сотацу, по-видимому, унесет с собой в могилу. Пусть там они не дают ему покоя”.
(Короткая пауза.)
инт.: Как это вам теперь?
(Диктофон отключается.)
[От инт. В этот момент Ко Эйдзи предпочел прекратить интервью.]
От интервьюера
В тот день я вышел из дома Ко Эйдзи и пошел, петляя, через промзону. Шел очень долго, в конце концов нашел дорогу назад, к гостинице, где остановился. Когда я туда пришел, у гостиницы на скамейке сидела его дочь. Она сказала, что ее отец хочет рассказать мне еще кое-что. Готов ли я вернуться туда с ней, прямо сейчас? Я согласился, и мы поймали такси. Это было приятно – ехать в такси с молодой женщиной, которая, совершенно очевидно осталась недовольна мной и тем, как я обошелся с ее отцом. Ей не понравилось, что ее отправили с таким поручением. Когда мы подъехали к дому, она отперла дверь, и мы поднялись по лестнице. Она провела меня к отцу и снова удалилась. Собственно, даже не знаю, была ли она дочерью Ко Эйдзи. Возможно, она была его ассистенткой или личным секретарем. Об этом я, разумеется, не спрашивал. Однако могу предположить, что, будь она его помощницей, она бы не столь неохотно разъезжала по его поручениям. Как знать? Я уселся и включил свой диктофон.]
≡
ко: Давайте пока об этом не волноваться.
(Достает доску для игры в сёги.)
ко: Играете?
инт.: Так себе. У меня гораздо лучше получается…
ко: …играть в западные шахматы, полагаю?
(Смеется.)
инт.: Да, определенно.
ко: Знаете, как ходят фигуры?
инт.: Да. По-моему, да. Возможно, вам придется напомнить мне одно-два правила.
ко: Тогда давайте сыграем одну партию.
[Мы сыграли три партии в сёги, и каждую я продул с треском. После игры мы некоторое время сидели, не говоря ни слова. Ассистентка Ко Эйдзи принесла нам какой-то горячий напиток. Освещение постепенно менялось: вдоль всех шоссе и проспектов загорались уличные фонари. Вдалеке, на воде день не угасал дольше всего, но в конце концов угас даже там – пожалуй, только там он угас в полной мере.]
ко: Мне не нравится, чем он закончился, наш разговор. Вот почему я пригласил вас вернуться.
инт.: Наш разговор?
ко: Наш разговор. Не нравится мне эта концовка. Я имею еще кое-что сказать. И вот что я скажу: в то время, когда Сотацу воздерживался от пищи, я заглянул в тюрьму.
инт.: Чтобы увидеть Сотацу?
ко: Чтобы его увидеть.
инт.: И что вы увидели?
ко: Он был усталый и слабый, но надзиратели его разбудили. Меня сопровождал старший надзиратель смены, и они устроили грандиозный спектакль – театрализованно подали Оде еду, которую он есть не стал. Это было необычно, и тогда у меня возникло какое-то странное чувство. А теперь, полагаю… ну-у, понимаете ли, неясно, даже теперь неясно, как все обстояло на самом деле.
инт.: На самом деле…
ко: На самом деле – морили его голодом или нет. Но перед ним поставили эту еду, а он не стал ее есть. Я это видел. Мой фотограф сфотографировал его, и мы ушли. Я заглянул ему в глаза, ну, или попытался. Однако… я ничего не увидел. Казалось, он меня вообще не видит. Наверно, в его глазах я ничем не отличался от остальных.
инт.: Но вы отличались от остальных?
ко: Я был журналистом. Я пытался увидеть, что за всем этим стоит.
инт.: Но даже в этом вы…
ко: Да, даже тогда я потерпел неудачу.
инт.: Можете ли вы сказать…
ко: Я хочу, чтобы вы знали: мне было не так-то легко – не так легко, как кажется по текстам в газетах. Мы знали так мало. Я просто… просто не мог это понять. Что ж…
(На записи еще минуту длится молчание, а затем устройство отключается.)
Комната, похожая на эшафот
От интервьюера: Перевод в камеру смертников
После судебного процесса Ода Сотацу был переведен из полицейского участка, где его держали раньше, в настоящую тюрьму. В этой тюрьме его поместили в так называемую камеру смертников. Ода Сотацу не стал обжаловать ни вердикт по своему делу, ни приговор к казни через повешение. Просто жил себе и жил, как раньше, в молчании. Родные не навещали его в тюрьме – только его брат Дзиро приезжал при любой возможности. Была еще одна посетительница – Дзито Дзоо. Но об этом будет рассказано ниже, во второй части книги. Пока же мы охватим последние месяцы жизни Оды Сотацу. Имеющиеся у нас сведения об этом периоде исходят от Дзиро, а также почерпнуты из интервью, которые я взял у отставных надзирателей.
Интервью 10 (Брат)
[От инт. Тем временем Дзиро прослышал, как я брал интервью у его отца, прослышал о споре, который (как показалось его отцу) разгорелся между нами. Похоже, восстановив его отца против себя, я завоевал у Дзиро какое-никакое доверие. Он стал держаться со мной куда более радушно и открыто. На самом деле ему хотелось прочесть расшифровку интервью с отцом. Этого я, разумеется, разрешить не мог. Он предостерег меня, что, как говорят многие, его отец выжил из ума и я никоим образом не должен принимать мнения отца всерьез, хотя он, естественно, понимает, что я, должно быть, включу их в свое описание произошедшего. Он пригласил меня в свой дом в другом районе префектуры Осака. Я могу пожить там несколько дней и получить всю остальную информацию, которая мне требуется. Он проведет там с женой и детьми три недели, что-то наподобие отпуска. Он будет к моим услугам. Меня глубоко тронуло то, как он со мной переменился. Я немедленно смекнул, что мне давным-давно следовало бы непреднамеренно оскорбить его отца, если это принесло столь важные плоды. Это, первое интервью (первое во второй серии интервью) проводилось на свежем воздухе, в беседке на участке Оды Дзиро.
“Дом”, как он его именовал, представлял собой довольно скромную загородную усадьбу. Там были два основных здания и несколько маленьких построек. По участку бежал ручей, был там и прекрасный сад, и переделанный под вкус хозяина лесок, по которому была проложена тропа. В общем, местечко волшебное, спроектированное самим Дзиро, со всей очевидностью свидетельствующее, что его сестра была, пожалуй, несправедлива к младшему брату, когда причислила его к филистерам. Как я упомянул, во время этого первого интервью, посвященного пребыванию Сотацу в камере смертников, мы сидели на свежем воздухе, в беседке. Дочь Дзиро – ей было шесть лет – прониклась ко мне симпатией и вновь и вновь приносила мне цветы, потому-то в записи есть перерывы, которые я, возможно, вычеркну из расшифровки в книге, а возможно, и оставлю. В любом случае, как вы можете видеть, хотя у Сотацу все обстояло еще мрачнее, я оказался в солнечном мире. Меня переполняли надежды: теперь-то я действительно смогу поведать целиком историю этой трагической жизни.]
≡
инт.: Мне бы хотелось знать, в состоянии ли вы вообще говорить о попытках морить вашего брата голодом, или о голодовке, как это называли некоторые. Если я правильно истолковываю факты, во время процесса вы не могли ходить в суд, но в тот период навещали брата в полицейском участке. Так ли это?
дзиро: Пока шел процесс, я навещал его три или четыре раза. Бригадир на заводе, где я работал, невзлюбил меня, искал любой предлог, чтобы уволить, и в конце концов нашел. Наверно, лишь раз семь-восемь мне удавалось вырваться с завода, и, по крайней мере в четырех случаях, когда я приходил в участок, мне говорили, что я не могу с ним увидеться – мол, его вывели на прогулку, его сейчас кормят и тому подобное.
инт.: Знаете ли вы, что представляли собой эти кормления?
дзиро: Не знаю. Они нашли какой-то способ заставить его есть. Не знаю, применяли ли трубку или держали его и что-то запихивали ему в горло. Не знаю. Возможно, все было намного проще – один-единственный синтоистский жрец с ложкой. Мой брат питал необъяснимую симпатию к жрецам.
инт.: Но вы видели, что он ничего не ест? Когда вы там бывали, вы это видели?
дзиро: Я заметил, что он исхудал. Вид у него все время был мрачный, что в начале, что в конце. Одно время он действительно, казалось, очень ослаб. Не забывайте, тогда мы уже не разговаривали. Разговор был в тот единственный раз, когда я привел адвоката. Обычно мы просто стояли и смотрели друг на друга. Когда он сильно ослаб, то просто ковылял к решетке и усаживался, привалившись к ней, и ему было все равно, что прутья решетки глубоко, донельзя глубоко, впиваются в спину.
инт.: И вы не могли определить, что он голодает?
дзиро: Вот вы об этом спросили, и вроде бы хороший вопрос, хороший, умный вопрос, но в таких ситуациях не до умничания. Может, его дух был сломлен? Может, его разум был сломлен? Может, нервы не выдержали? Может, весь организм? Причина могла быть любая. Вероятно, даже все эти причины сразу. В общем, это было не так очевидно, как можно подумать, совсем не очевидно.
инт.: Я не хотел намекнуть, будто…
дзиро: Просто давайте дальше.
инт.: Заметили ли вы в нем перемены, когда его снова начали кормить?
дзиро: Он стал не таким вялым. Снова начал вставать. Мне говорили, что в день суда его отнесли в зал, что на стул его усадили, поддерживая под мышки, что судебный пристав должен был стоять рядом и его поддерживать, иначе он бы свалился.
инт.: Такого я не слыхал.
дзиро: А знаете, что я думаю?
инт.: …
дзиро: Я думаю, что голодовка была не настоящая. Думаю, это был еще один инструмент, которым его пытались сломить, заставить подписать другое признание, сознаться в чем-то большем.
инт.: Потому что первого признания было недостаточно…
дзиро: Да, недостаточно. Из Сотацу хотели выжать побольше. Может, его начали морить голодом, а он обернул это по-своему. Может, сказал себе: ладно, тогда я не буду есть. Тогда я просто умру. Думаю, ему казалось, что это выход. Все стало вконец плохо, а двери не было. И тут они показали ему эту дверь – просто не ешь.
(Минутное молчание, диктофон перематывает пленку.)
инт.: И никак не выяснить – не выяснить, что именно это было.
дзиро: Никак: голодовка, навязанная надзирателями заключенному, который не прогибается, со стороны ничем не отличается от голодовки, объявленной заключенным в знак протеста. Никто бы не заметил разницы.
инт.: Но в данном случае его не хотели уморить голодом. Его хотели казнить.
дзиро: Вот-вот, так что надо было заставить его есть.
Интервью 11 (Ватанабэ Гаро)
[От инт. Благодаря престранному и счастливому вмешательству случая, у женщины, которая сдала мне дом, где я проводил почти все интервью, была подруга, чей брат когда-то работал в тюрьме, где Ода Сотацу сидел в камере смертников. Поскольку дело было громкое, истории этого самого брата про Оду, видимо, передавались из уст в уста, все время рассказывались и пересказывались родней и в конце концов дошли до домовладелицы, с которой я имел дело. Узнав, о чем я пишу, она познакомила меня с тем самым братом подруги. Я говорил с ним несколько раз по телефону и один раз при личной встрече в одной лапшевне в Осаке. Это был крайне тщеславный человек лет шестидесяти с лишним, при любом удобном случае скатывался на похвальбу. Даже лапшевня, где мы назначили встречу, была “местечком, где я свой человек”. Он сказал, что договорится и нас обслужат по особому разряду. На деле его там даже не знали. Полагаю, этот человек вообще не видел Оду Сотацу лично, а просто пересказывал всевозможные тюремные байки и истории про Оду Сотацу, излагая их от первого лица, словно сам был участником событий. Явление весьма распространенное, как подтвердит всякий, имеющий представление об устной истории. Но россказни Ватанабэ о тех временах звучат весьма убедительно, даже не знаю почему: то ли он и вправду был знаком с Одой, вправду был на месте событий, то ли просто рассказывал и пересказывал эти истории каждому встречному не счесть сколько раз. В любом случае это был бесценный источник сведений о том периоде, сведений, которые больше неоткуда взять, и я признателен ему за то, что он согласился на разговор.]
[Это, первое интервью было взято по телефону. В (арендованном) домике, где я жил, телефона не было, так что я воспользовался телефоном в здании по соседству.]
≡
инт.: Алло! Господин Ватанабэ?
голос: Одну минуту. Гаро! Одну минуту, пожалуйста.
(Телефонную трубку с характерным шумом кладут на стол.)
(Проходит около тридцати секунд.)
(Телефонную трубку с характерным шумом берут со стола.)
гаро: Господин Болл.
инт.: Большое вам спасибо за то, что нашли время поговорить со мной. Сейчас наш разговор записывается на пленку.
гаро: Понимаю.
инт.: Вы были тюремным надзирателем в исправительном учреждении Л. весной 1978 года?
гаро: Я состоял там в штате с 1960 по 1985 год. Да, можно сказать и так, как вы сказали…
(Смеется.)
гаро: Можете сказать, что в 1978-м я был там.
инт.: И вы как надзиратель отвечали за так называемые камеры смертников, те, с самыми опасными заключенными?
гаро: Те, кто в камерах смертников, – не всегда самые опасные; просто люди часто так думают, но на самом деле это не всегда так. Иногда все совсем наоборот. Определенные виды нападений, определенные виды мошенничества, похищение в доме – как это называется по-английски?
инт.: Незаконное проникновение в жилище с умыслом на похищение человека.
гаро: Да, незаконное проникновение в жилище с умыслом на похищение человека или изнасилование с нанесением увечий. За все эти преступления вам впаяют не самый большой срок. Но надзиратели-то знают. Мы знаем, с кем держать ухо востро.
инт.: Вы этому учитесь?
гаро: По-моему, это просто нутром чуешь. А не чуешь, долго не продержишься. Так что проблема решается сама собой. В конечном счете остаются работать надзиратели, знающие свое дело.
инт.: В то время вы видели Оду Сотацу и контактировали с ним? Человека, которого осудили за Исчезновения в Нарито?
гаро: Я с ним еще как контактировал. Если то, что я расхаживал взад-вперед, смотрел на него, разговаривал с ним, приносил ему еду, считается. Разговаривал я с ним всего три раза. Три раза за все восемь месяцев, которые он там провел. И я пришелся ему по душе. Он больше ни с кем не соглашался говорить.
инт.: Восемь месяцев? Мне сказали, что он провел в камере смертников всего четыре месяца.
гаро: Насколько я знаю, нет. Четыре месяца – это же ужасно мало, ужасно мало. По-моему, я никогда не слышал про такое. Вообще-то для дела о тягчайшем преступлении восемь месяцев – мало. Почти неслыханно. Мы часто говорили: наверно, кто-то ему смерти желает, потому что все было сделано очень быстро – я хочу сказать, его очередь наступила быстро. Его вроде как пропустили без очереди. Вроде бы у него был враг, какой-то министр, который не одобрял, куда катится страна, хотел, чтобы другим было неповадно… не могу сказать. Но с ним было легко. Это я вам могу сказать. Неладов с ним не было, ни разу.
(Неразборчиво.)
инт.: Извините, я не расслышал. Что вы сказали?
гаро: Я сказал, он был такой паинька, что к нему в камеру допустили девушку, незадолго до конца. Но он-то не знал, что это конец, учтите. Казнь всегда происходит без предупреждения. Они никогда не знают. Их тащат по комнатам: одна, другая, третья. Мы это называли “ходить к Буддам”, потому что там разные статуи, по одной в каждой комнате.
инт.: У меня есть вопросы об этом, но вначале…
[От инт. Тут связь прервалась. Прошло, наверно, недели две, прежде чем мне удалось поговорить с ним снова. Продолжение беседы последует чуть ниже.]
Фотография Дзито Дзоо
[От инт. Ватанабэ Гаро отдал мне фотокарточку, которая, как он утверждает, хранилась в камере смертников у Оды Сотацу. Когда я позднее встретился с Дзито Дзоо, она признала, что дала ее Оде. Это подкрепляет утверждения Ватанабэ, что он знал Оду; впрочем, возможно, что он получил фото от другого надзирателя или прихватил из камеры, хотя не знал Оду. Наверно, строить гипотезы о том, до какой степени Ватанабэ заслуживает доверия, уже излишне.)

Интервью 12 (Брат)
[От инт. Это было чуть позднее, во время того же разговора в беседке. Мы с Дзиро выпивали, и он начал рассказывать мне кое-какие истории про их с Сотацу детство.]
≡
инт.: Значит, ваш отец отказывался брать вас с собой в море?
дзиро: Он говорил, если я с ним пойду, накликаю несчастье.
инт.: Почему же?
дзиро: Он говорил, дело в дате моего рождения, число, как он выражался, неблагоприятное для рождения рыбаков. Он не разрешал мне подниматься на борт, даже когда лодку вытаскивали на берег.
инт.: Ну, а Сотацу он разрешал?
дзиро: Да, Сотацу много раз ходил с ним в море.
инт.: Это вас с ним рассорило? Вам не казалось, что вы как бы соперничаете между собой за отцовское уважение?
дзиро: Нет, ничего подобного. Я слышал, бывают такие семьи, определенно бывают, но…
(Смеется.)
дзиро:… нет, ничего подобного. Наоборот, это мы двое – мы с Сотацу – всегда были заодно против них, против всех остальных.
инт.: У вас двоих была одна особая уловка, вы ее применяли, так, верно? В школе?
дзиро: Да, иногда Сотацу кидал камень в окно моего класса. Тогда учитель уходил, пытался доискаться, кто это сделал, и урок заканчивался досрочно. Я это тоже проделывал на его уроках.
инт.: Но как вы умудрялись – для этого ведь надо было выйти из здания школы?
дзиро: Я просился в туалет. Или говорил, что иду в туалет.
инт.: И он ни разу не попался?
дзиро: Он – нет. Но я попадался часто. Вообще-то, кажется, это ни разу не сошло мне с рук. В школе учителя всегда смотрели на меня подозрительно, уж не знаю почему.
инт.: А ваши дети в этом отношении уродились в вас?
дзиро: Что вы хотите этим сказать?
инт.: Ну, вот этот, похоже, вздумал украсть мою шапку.
дзиро: Да, здесь что ни положи, все растащат.
Интервью 13 (Брат)
[От инт. Вскоре после этого я спросил у него, как среагировал отец, когда обнаружил, что Дзиро продолжает навещать Сотацу. Раньше он говорил мне, что отец рассердился, но не приводил подробностей. Впоследствии, когда я снова задал ему этот вопрос, он слегка разоткровенничался.]
≡
инт.: Каким образом ваш отец узнал, что вы навещаете Сотацу?
дзиро: Была одна фотография, роковая фотография, напечатанная в газете, фотография тюрьмы. Какой-то фотограф приехал туда снимать некоторых заключенных, в том числе моего брата. У ворот тюрьмы он разминулся со мной и подметил мое сходство с Сотацу. Я отворачивался, но он меня щелкнул и продал фото в газету. Продал за деньги фото, на котором я иду навещать брата, а мой отец фото увидел. И вызвал меня к себе. Я пришел. Он рвал и метал. Сказал, что решение уже давно принято и все мы должны его выполнять. Сказал, что некоторые из нас пытаются жить дальше, жить дальше своей жизнью, а я никому не облегчаю эту задачу. Я ответил: ничего подобного, очень даже облегчаю. Я облегчаю свое положение и положение моего брата Сотацу. Я сказал ему, что не верю, что Сотацу сделал что-то дурное. И еще сказал, что мне все это совсем не нравится, с начала до конца. Он сказал, что я всегда был дурак и дураком остался. Сделал Сотацу что-то или не сделал – это же не главное и главным никогда не было. Он сказал: в каждой жизни тебе дается шанс, в жизни каждого человека есть шанс прожить свой век, не привлекая нежелательного внимания. А если привлекаешь к себе внимание, это всегда худо, это всегда плохо кончается, а факты – только пыль, от них никакого толку. Он сказал, что я уважаю правду, как лжец – то есть слишком уважаю.
инт.: И тогда-то он…
дзиро: Он сказал мне, что больше не хочет меня видеть.
инт.: Но потом передумал.
дзиро: Передумал. В том же году передумал. Но к тому моменту так переменился, что это стало уже неважно. Он стал другим человеком. Таким, как сейчас. Вы сами видите, верно? От человека, с которым вы виделись, никакой сатисфакции не получишь.
инт.: …
дзиро: Хотите говорите, хотите – нет, но вы же видите: от него осталась только пустая кожура.
(Диктофон отключается.)
Интервью 14 (Ватанабэ Гаро)
Как он первый раз говорил с Одой Сотацу
[От инт. Это интервью проводилось в лапшевне, именно на это интервью Гаро принес фотографию, которую я показал вам несколькими страницами выше. Он хранил фотографию в крафтовом конверте вместе с другими вещами, которых мне не показал. Мне было очень любопытно узнать, что еще лежало в крафтовом конверте, но если, чтобы это увидеть, я должен был еще больше войти к нему в доверие, то в данном случае я, наверно, приложил меньше усилий, чем от меня требовалось. Так я и не узнал, что еще было в конверте. Фотография, которую он мне дал – фото Дзито Дзоо в кимоно, – была подписана на обороте. “На озерах они плавают, но не видят озера. Они видят только то, что вверху, и только днем, и только когда солнце не слишком яркое”. Я пытался выяснить, откуда эти строки, но это удалось, только когда я поговорил с самой Дзито Дзоо. Впрочем, в тот момент я все еще сидел в лапшевне напротив Ватанабэ Гаро, и мой диктофон казался малюсеньким на фоне двух гигантских мисок лапши].
≡
инт.: Мне, конечно, очень любопытно услышать все, что вы только можете сказать об Оде Сотацу, но всего любопытнее было бы услышать о тех случаях, когда он разговаривал с вами. Вы помните, когда это случилось впервые?
гаро: Думаете, я могу забыть такого человека?
инт.: Значит, его наружность производила большое впечатление?
гаро: Нет, нет, какое там. На деле это было самое занятное. Когда ты был с ним в одном помещении, ты был как бы один. Такого неприметного человека я никогда в жизни не встречал. Не просто потому, что он был тихий. Это-то, конечно, да, такой у него был характер. Но было еще кое-что: просто казалось, что он где-то не здесь.
инт.: А где же, по-вашему?
гаро: Некоторые ребята говорили, что выбьют это из него. Так говорили те, кто его, наверно, недолюбливал. На этой почве у нас были разногласия. Новичкам он как-то не нравился. А те, кто со стажем, просто считали, что поведение всего важнее.
инт.: Значит, тем, кто со стажем, он нравился?
гаро: Да, да, нам он нравился…
инт.: А первый раз, когда вы с ним разговаривали, – при каких обстоятельствах это было?
гаро: Это было из-за набора для сёги.
инт.: Набора для сёги?
гаро: Почти всем заключенным, которые ждут казни, или тем, кто обжалует высшую меру, а пока ждет… им выдают по набору для сёги.
инт.: Значит, они играют друг с другом? Или с надзирателями?
гаро: Они не играют. Ни друг с другом, ни с надзирателями. По большей части просто переставляют фигуры так и сяк. Некоторые из них любят делать вид, будто играют сами с собой, но я вот что думаю – нет, по-настоящему они не играют. Просто переставляют фигуры, чтобы скоротать время.
инт.: Но по идее, некоторые из них действительно знают правила игры и могут играть сами с собой.
гаро: Думаю, играть они умеют. Просто я вот что думаю: какой прок играть самому с собой? Я смотрел, как они этим занимаются. Это не настоящая игра, не то, о чем вы думаете.
инт.: Значит, вы принесли ему набор для сёги?
гаро: Когда он заговорил? Нет. Набор у него был. Он всегда вынимал из набора золотых генералов и стискивал в кулаке. Не знаю почему. И это стало великим вопросом. Почему Ода Сотацу держит в кулаке золотых генералов? Одна журналистка пришла и заметила. А еще она заметила, что фигуры на доске были расставлены странно. Это приобрело особенный смысл: все гадали, нет ли в этом какой подсказки. А если он наконец-то раскрыл какие-то детали о том, где жертвы?
инт.: Значит, журналистов вот так, запросто допускали в тюрьму?
гаро: Редко. Почти никогда не допускали. На самом деле очень нечасто. Это было исключение, я бы сказал. В общем, мы побились об заклад. Не помню, на что – может, на часть зарплаты, или на право выбирать смену, или еще что-то там. Но это было что-то ценное. А, теперь вспомнил. Это был отпуск. Тот, кто угадает, получит по одному дню от отпусков остальных. Судили-рядили так и сяк. Но Ода не разъяснял. Отказывался сказать, зачем это делает. Разные надзиратели подходили к нему, спрашивали у него. Угрожали ему, упрашивали. Ничего не действовало.
инт.: Но вы его уговорили, и он разъяснил?
гаро: Ну-у, я просто случайно заметил. Он использовал доску вместо календаря. Для этого надо всего тридцать шесть фигур, не сорок. Вот он и убирал с доски золотых генералов. Наверно, ему не хотелось класть их на пол камеры, вот он и держал их в руках. Проще простого. Я заметил, потому что увидел, что он менял фигуры на доске первым делом, как только просыпался. Больше никто не знал, что это значит, но я в конце концов узнал. И я сказал ему: “Заключенный Ода, вы пропустили день”.
инт.: “Вы пропустили день”?
гаро: Так я и сказал: “Вы пропустили день”.
инт.: А он что сказал?
гаро: Он несколько мгновений очень внимательно смотрел на доску. Наверно, опасался, что, пока он спал, кто-то переставил фигуры. Однажды кто-то такое проделал. Он проверял, все ли на ней правильно. А потом сказал: “Нет, я дней не пропускаю”.
инт.: И все?
гаро: И все. За это я получил две недели отпуска. Наверно, потому-то с тех пор я обращался с ним по-хорошему. По этой причине, а еще из-за того, что…
инт.: Из-за чего?
гаро: Мне было приятно, что он поговорил со мной, а не с другими. Мне нравилось внушать себе, что это, мол, потому, что я знаю кое-какие секреты, знаю, что требуется от надзирателя, но причина была другая.
инт.: Как знать?
Интервью 15 (Жена брата)
[От инт. Я поговорил с женой Дзиро в один из тех дней, когда пользовался их гостеприимством. Она высказывалась очень резко и категорично, если считала, что права, и мы очень неплохо ладили между собой. Вечерами семья играла в разнообразные игры – в настольные и другие, и жена никому не давала пощады. Я играл с ней в го – в игру, на мастерство в которой претендовать не могу, и она с легкостью меня обыгрывала. Казалось, ее радовало, что я пишу эту книгу и так часто разговариваю с Дзиро. Однажды утром, когда я спозаранку сидел на открытом воздухе (мне не спалось), она вышла, присела рядом, и мы поговорили. Я не записывал этот разговор на диктофон, но помню многое из сказанного ею. Ниже я пересказываю ее слова, перефразируя.]
≡
Она сказала, что мне следует знать… мол, Дзиро не все станет рассказывать, но мне следует знать, что родня Дзиро никогда не делала ему ничего хорошего, даже по мелочам. Даже теперь все, чего им от него надо, – чтоб он давал им денег. Принимать его у себя – и то не хотят. Сказала, что хуже всех его сестра – фифа-интеллектуалка. И еще сказала, что одна из самых больших печалей в ее жизни – то, что она не была знакома с Сотацу, ведь Дзиро так его хвалит, и она просто чувствует, просто чувствует, что они бы подружились. Когда я спросил, знала ли она на момент знакомства с Дзиро об Исчезновениях в Нарито и обо всей этой истории, она ответила, что знала. Сказала, что от этого никуда нельзя было спрятаться. Но, сказала она, это не вынудило ее принять чью-либо сторону – она ни “за”, ни “против”. Может, кого-то другого вынудило бы, но только не ее. Я спросил у нее, часто ли они видятся с остальными членами семьи Ода. Она сказала, что никоим образом не поощряет такие встречи, делает все, что в ее силах, и я могу, если хочу, так в книге и напечатать.
От интервьюера
[В один из дней, когда я там гостил, я отправился с Дзиро на прогулку. Он сказал, что есть дорога, по которой будет очень приятно прогуляться, особенно в такой день, как сегодня. Я не понял, что он имеет в виду. Казалось, день был как день, ничем не отличался от других, но, когда мы вышли из дома, шел грибной дождь. Дзиро сказал, что грибные дожди – его самая любимая погода. Они приносят счастье, но некоторые люди говорят, что под такие дожди не стоит выходить. А вы выходите? – спросил я. Выхожу каждый раз, сказал он. Каждый раз. Мы зашагали вдаль, вышли за ворота его усадьбы, направились по узенькой дорожке. Ни одна машина не проехала – ни обгоняя нас, ни нам навстречу. Он сказал мне: вся местность становится твоей, потому что никто носа не высовывает. Какая местность? – спросил я у него. Любая местность, сказал он со смехом. Спустя какое-то время мы прошли мимо рощицы, где было несколько зданий в руинах. Здания цвета темно-красной ржавчины, там и сям валялась сломанная сельскохозяйственная техника. Что-то, когда-то представлявшее собой амбар, теперь само себя подпирало, само к себе жалось. Чрезвычайно захватывающее зрелище. Я сказал, что не существует дельного каталога человеческих свойств зданий или закоулков. Дзиро спросил, что я имею в виду. Я сказал примерно следующее: есть, мол, такие свойства, как прочность или значимость, тайная значимость, которую придаешь мелким географическим объектам и деталям пейзажа – домам, дворикам, укромным местечкам под деревьями. И, мол, хорошо бы иметь список таких мест. Таково было мое объяснение, и оно побудило его рассказать мне то, что я привожу ниже.]
≡
дзиро: Включен? Ага. Вот такое воспоминание. Когда мы были маленькие, в конце одной короткой дороги были старые ворота. Мы к ним ходили. Понимаете, да, что я имею в виду? Вы же сами помните, мальчишки ходят ко всяким таким штуковинам, в места, где проходят границы – рвутся на окраину всего сущего везде, где она только обнаруживается: на дно котлована, к морю, к стенам, заборам, воротам, запертым дверям. Помните, да – в места, где мальчишки, как они сами уверены, должны заниматься своим настоящим делом? Родители нас туда никогда не водили. Вообще-то на той дороге мы никого ни разу не видали, там ходили только мы. Когда мы на нее ступали, нам казалось, что мы ушли от мира. В общем, мы шли туда и смотрели на эти ворота, просто глазели. Нам казалось, что забраться на них невозможно – такие они были ржавые, с острыми зазубринами.
инт.: Говорите, вы часто туда ходили?
дзиро: В те годы, в том особенном возрасте, мы были там всегда. Усаживались около ворот и вполголоса проводили совещания, строили планы. Или, если я просто убегал из дома, или Сотацу убегал, другой всегда знал, куда идти. Он шел туда и находил там того из нас двоих, кто ударился в бега. Я всегда находил там Сотацу, а он всегда находил там меня. Мы думали, что воротами никто не пользуется, что их заперли сто лет назад и никто даже не помнит, что они там есть. Но однажды приходим, а они не заперты. Стоят приоткрытые наполовину, и ничто не преграждает нам путь. Я перепугался. Трудно объяснить, какая жуть меня взяла. Я не хотел даже близко подойти, но Сотацу потащил меня за собой. У самых ворот я заартачился, а он пошел дальше. Я как увидел, что он собирается войти, так заревел в голос и побежал домой. Я не оглядывался, ни разу. Он вошел в ворота один.
инт.: Вы об этом жалеете?
дзиро: Как-то так получилось, что я у него никогда не спрашивал, что было там, за воротами. Казалось бы, я должен был спросить, казалось бы, такой важный вопрос никак не мог вылететь у меня из головы, но в жизни все именно так и получается. Дети вновь и вновь начисто отбрасывают какие-то способы мышления, предпочитают новые способы, а заодно отбрасывают все прежние вопросы. Ну, когда-нибудь потом припоминают, конечно. Что увидел там Сотацу? Как же нежно я люблю его, когда думаю об этом, когда воображаю его у тех ворот – как он исчезает с глаз. Что-то, чего я никогда не видал, но хотел бы увидеть.
От интервьюера
Я поехал посмотреть тюрьму, где держали Оду Сотацу. Зайти внутрь мне не разрешили, но я фотографировал из арендованной машины и подъезжал к разным точкам в округе, откуда был выгодный обзор. Хотел бы я сказать, что здание было примечательное, но ничего особенного в нем не было, даже в мелочах. Уродливый комплекс построек, даже не особо страшный на вид. Примерно в полумиле от входных ворот был магазинчик, где продавались содовая, конфеты, газеты, дорожные атласы и т. п. Я спросил там у одного человека, что он думает о тюрьме. Он сказал, что она спасает его от разорения. Как я понял, те, кто приезжал на свидания, у него что-то покупали – отнести заключенным. Что самое популярное? – поинтересовался я. Он зачерпнул горсть каких-то необычных конфет, которых я никогда не пробовал. Я купил немножко.
Разумеется, я понимал, что это не совсем то, что посетители несли в тюрьму во времена, когда там сидел Ода Сотацу. Но когда ты имеешь дело с чем-то настолько странным, тебя порой осеняет, как надо поступить. У меня возникло ощущение, что покупка этих конфет словно бы изменила мои отношения с тюрьмой. Остальные снимки, которые я сделал, были немножечко другими. Позднее я попросил кое-кого, одну подругу, она фотограф, попросил своего знакомого фотографа, да, я ее попросил посмотреть сделанные мной снимки. Изо всей груды она отложила те шесть, которые я отснял после магазина.
Эти, сказала она, эти намного лучше остальных.
Интервью 16 (Брат)
[От инт. В тот день я решил: буду посмелее, спрошу у Дзиро, почему он не попробовал удвоить усилия, уговорить Сотацу отказаться от признания. Однако мне не представился шанс для такого вопроса.]
≡
инт.: Итак, ваш брат провел в тюрьме уже несколько недель, когда вы с ним наконец увиделись?
дзиро: Верно. Надзиратели напутали. Вначале привели меня не к тому заключенному. Это был старик. Он подошел к решетке своей камеры и уставился на меня. Наверно, пытался вспомнить, кто я. Вероятно, его много лет никто не навещал.
инт.: Вы там долго стояли?
дзиро: Недолго. Я сказал: удачи, старожил. Он назвал меня каким-то именем, не припомню как. Голос у него был страшно скрипучий. Надзиратель смотрел на бумажку, которую ему дали. И вдруг все сообразил. Извинился и отвел меня, куда следовало. Это смахивает на форменную комедию, знаю-знаю, да, знаю, но в таком месте… не думаю, чтобы надзиратели проделали такое нарочно. Думаю, это было по ошибке.
инт.: Но потом он все-таки отвел вас к Сотацу?
дзиро: Да, а мой брат вообще-то был в совершенно другом отделении. Даже не в том корпусе. В его особом корпусе все заключенные сидели в одиночных камерах. Не могли друг друга видеть. Каждый ел один. Даже прогулка, а это было хождение кругами в бетонном внутреннем дворе, – даже на прогулке каждый был один.
инт.: По-вашему, большие были камеры?
дзиро: Пожалуй, семнадцать квадратных метров.
инт.: И вы были первым, кто навестил его за несколько недель?
дзиро: По-моему, его еще кое-кто навещал. Мне об этом сказали. Наверно, девушка все еще виделась с ним. Она приходила во время процесса, и надзиратель говорил мне про нее. Он сказал: ваша сестра приходит. Конечно, я знал, что это неправда. Она делала все-все-все, что бы ей ни велел отец, все, чего бы он ни сказал, даже ерундовое – она все выполняла беспрекословно. Чтоб она против отцовской воли навещала Сотацу – этого не было и быть не могло. И тут я вспомнил, что видел Дзито Дзоо в полицейском участке, и сообразил, что есть что-то общее между ней и девушкой, которая во время процесса упоминалась в одном газетном репортаже, девушкой, которая навещала Сотацу.
инт.: Впоследствии вы когда-либо говорили об этом с ней?
дзиро: Никогда не говорил.
инт.: Вернемся к тому первому посещению: надзиратель отвел вас в камеру Сотацу. Сотацу встал, увидев вас?
дзиро: Он спал. Надзиратель передал меня с рук на руки другому надзирателю. Собственно, они это проделали трижды. И этот надзиратель, из самой укромной части тюрьмы, разбудил Сотацу, колотя по двери. Открыл дверь и, колотя по ней, встал в проеме. Сотацу открыл глаза. Оттуда, где я стоял, мне было видно: он открыл глаза, но не шевелится. Тут надзиратель колотит по двери дубинкой и выкрикивает его имя, а он просто спокойно лежит, как лежал.
инт.: Вы что-то ему сказали?
дзиро: Через минуту он привстал. Когда он меня увидел, в его лице ничто не дрогнуло, но он подошел. К тому времени надзиратель закрыл дверь, но в ней было окошко, заслонка, которая отодвигалась, и в нее мы могли видеть, мы все-таки могли видеть друг друга. Я все время старался не моргать. Я смотрел на него пристально, смотрел, а потом, в конце концов, моргал, но он – никогда. Так я простоял с ним дотемна, часа два, наверно. Надзиратель говорил мне пять раз, шесть раз, что я должен уйти, но у меня было чувство, что я получаю от Сотацу все, что мне суждено получить, что я его больше не увижу, и я не хотел уходить. Я вложил всего себя в свой взгляд и стоял там, глядя на Сотацу. В конце концов мне пришлось уйти. И так получилось, что мое предчувствие не сбылось. Я все-таки увидел его снова. Но я был рад, что в тот день пробыл там как мог долго.
инт.: Значит, вы вышли из тюремных ворот уже в сумерках?
дзиро: Да.
инт.: И, как вы говорили, автобус там не останавливался? Вам пришлось идти пешком на автостанцию?
дзиро: От тюрьмы до автобусной остановки было два часа ходу пешком. А автобусы по вечерам не ходили, так что я переночевал на остановке, втиснувшись между скамейкой и алюминиевым забором, а на следующее утро сел в автобус и как раз успел на работу, ко второй смене.
инт.: Должно быть, из-за этого вам приходилось несладко.
дзиро: Это было тяжело, вообще то, что случилось, то, что такое случилось с ним, но держать его в местности, куда так трудно добраться? Вот почему я ездил к нему, наверно, только восемь раз. Наверно, была бы машина, было бы полегче. Но мне это было по силам: ночевать на автобусной остановке, несколько часов идти пешком, – по силам, потому что я почти не ощущал, каково это все. Если мне так тут приходится, думал я каждый раз, то каково же моему брату?
Интервью 17 (Брат и мать)
[От инт. Однажды мне удалось убедить Дзиро поехать со мной, чтобы один-единственный, последний раз поговорить с матерью. Я вновь и вновь пытался возобновить с ней контакт, но она отказывалась со мной встречаться. Дзиро сказал, что, наверно, сумеет ее уговорить, но если отцу станет известно, никакого разговора не будет. Дзиро исполнил обещанное, и мы встретились с г-жой Ода в парке. Небольшая рощица, две скамейки, одна напротив другой. Я положил микрофон на скамью около Дзиро и его матери. Сам сел на другую скамью. Потом оказалось, что некоторые мои вопросы не слышны, и одни я восстановил по памяти, другие убрал. Слова Дзиро и г-жи Ода слышны на пленке совершенно отчетливо.]
≡
инт.: Мне хотелось еще немножко поговорить с вами, потому что я знаю, вы столько всего такого знаете, чего больше никто не знает. То, что вы знаете о Сотацу, – это же просто драгоценность, по-моему, и я был бы крайне признателен, если бы вы поделились со мной еще чем-то из того, что знаете.
г-жа ода (кивает как бы сама себе).
дзиро: Мы говорили о том, как Сотацу получил в школе медаль. Помнишь об этом?
г-жа ода (издает звук наподобие “ш-ш-ш”).
дзиро: Ну конечно, помнишь. Я тут припоминал, за что была медаль, но не смог. А ты помнишь?
г-жа ода: Геометрия. Медаль по геометрии.
инт.: Это был какой-то конкурс, и он в нем победил?
дзиро: Да, думаю, да. Думаю, он победил в конкурсе по геометрии, и ему дали медаль. Он ей очень гордился. Вообще-то он, кажется, хранил ее всю жизнь.
г-жа ода: Чушь. Это был не конкурс. Это было кое-что, что он должен был сделать, выйти к доске перед всей школой и сделать доклад, когда мэр приедет в школу с визитом. Ему это поручила учительница, потому что думала, что он справится лучше всех, но какое там. Он даже фигуру начертил совсем не так и линии подписал неправильно. Учительница все равно дала ему медаль, потому что медаль уже была изготовлена.
дзиро: Он мне всегда говорил…
г-жа ода: Учительница чувствовала себя опозоренной. По-моему, она ушла из школы, не доработав до конца учебного года, пришлось подыскивать новую.
дзиро: А-а, теперь я вспомнил – и так вышло, потому что…
г-жа ода: Потому что твой брат покрыл нас позором.
дзиро: Вот этого я не знал.
инт.: Но обычно у него были отличные оценки по математике, так? Потому-то учительница его и выбрала, нет?
г-жа ода: Не думаю. Не думаю, что по математике у него были отличные оценки.
дзиро: Да что ты. По математике у него были отличные оценки. Ты же знаешь.
г-жа ода: Ничего я по-настоящему не знала. Мы с твоим отцом пришли в актовый зал. И ты там тоже был. И твоя сестра тоже. Мы сидели в зале, и кто-нибудь из каждого класса выходил на помост показать мэру, что сейчас проходят в школе. Сотацу был в новой одежде, мы ее купили специально ради этого. С деньгами у нас было не очень хорошо. Совсем плохо. Но мы ее купили, хотели всем показать, что мы не хуже других. Он стоял там, на помосте, в строю вместе с остальными. Мы сидели в зале. Там был практически весь город. Потом пришел мэр, поднялся на сцену, стал пожимать руки. Приводили самых маленьких школьников, чтобы они что-то там такое делали, и они это делали. Потом кто-то показал свою научную работу. Потом кто-то показал что-то из области фотографии, какой-то ребенок постарше. Потом пришла очередь Сотацу. Он пытался что-то доказать, не знаю, что-то там про треугольник. Начертил его неправильно. Все обомлели. Сотацу вновь и вновь пытался его растолковать. На самом деле я не знаю, то ли он начертил с ошибкой, то ли числа написал с ошибками, но они не сходились. Он все тыкал и тыкал в чертеж на доске. Тем временем мэр просто смотрел в сторону. Не хотел смотреть на Сотацу. Твой отец и я, мы…
инт.: Госпожа Ода…
[Тут мать Дзиро встала и ушла, что-то бурча под нос, – говорила Дзиро что-то, чего я не смог расслышать. Больше я ее не видел.]
Интервью 18 (Ватанабэ Гаро)
[От инт. Это выдержка из финальной части интервью, которое я взял при личной встрече. Гаро то и дело отклонялся от темы, и с ним трудно было что-то поделать, так что значительная часть интервью оказалась для меня бесполезной или, лучше сказать, неравномерной – бесценное перемежалось с бесполезным и наоборот. Некоторые интервьюируемые не делятся информацией, если не чувствуют, что по-настоящему вовлечены в разговор. Люди подобного типа расспрашивают спрашивающего, умоляют сообщить подробности и расследовать версии, от которых в итоге нет ни малейшей пользы. Таков был и Гаро. Поэтому я вычеркиваю скучную беседу о моей собственной жизни (вместе с его нескончаемыми вопросами) как не имеющую отношения к делу. Перейду к моменту, когда мы обсуждали меры для поддержания дисциплины в тюрьме.]
≡
инт.: Но избиения случались?
гаро: Я не говорю, что избиения случались, чтоб настоящие – так нет. Я говорю, что если кто-то заслуживал избиения, он почти всегда, рано или поздно, получал то, что заслужил. Понимаете, а? Тут все решалось не тем, что какой-то человек вздумал кого-то наказать – надзиратель или еще кто-то, не тем, что человек сделал выбор. Тут все решалось иначе, такие дела делаются иначе. Это что-то неотвратимое, человек вновь и вновь ведет себя так, словно своим поведением хочет что-то сказать. Человек говорит: по-людски я ничему не учусь. Попробуй со мной как-то по-другому. И в конце концов какой-то другой человек пробует по-другому. Если говорить о контексте, это даже не так, как надо. В смысле, может быть, и так, если вы говорите о разнице между тем, где находиться – над водой или под водой.
инт.: Вы говорите о том, что надзиратель бьет кого-то дубинкой?
гаро: Да, но это не избиение, а способ что-то сказать человеку. Это не действие – само по себе это не действие. Это постоянное давление, то, к чему приводит постоянное давление. Результат, а не поступок. Его нельзя рассматривать сам по себе, в отрыве от всего остального.
инт.: А Сотацу так били?
гаро: По-моему, его не били ни разу. Никакого физического воздействия – если что и было, то так, вполсилы, – к нему никогда не применялось. Он в основном подлаживался под все правила. Никому неприятностей не создавал. И сидел он там недолго. И вот еще что… рядом с некоторыми людьми чувствуешь, что они обречены. Когда появляется такое чувство, надзиратели стараются поменьше иметь дело с таким человеком. Почти все.
инт.: Но некоторые – не стараются?
гаро: Ну-у, был там один надзиратель.
инт.: Что он делал?
гаро: Придвигался поближе к окошечку в камере Сотацу и говорил. Простаивал там часами и говорил с ним.
инт.: Что он говорил?
гаро: Сперва никто не знал, но со временем все всплыло. Наверно, с неделю этот парень дежурил в отделении Оды и говорил с ним. Потом об этом узнал начальник и перевел парня на другой пост.
инт.: Но что он говорил?
гаро: Ну-у, спустя несколько дней после того, как этот надзиратель довольно долго говорил с Сотацу, заглядываю я в камеру. Сотацу сидит на койке, держит в руках фигуры для сёги, разглядывает свои ноги. Поднимает глаза и видит меня. Что-то подтолкнуло меня отпереть дверь и зайти внутрь. Говорю: в чем проблема? Он долго смотрит на меня, а я стою себе перед ним. Потом он говорит: то, что говорит Мори, – все так и есть, про повешение? Это все правда? Вот как я докопался.
инт.: Все это время он нашептывал ему про казнь?
гаро: Да, и, что еще хуже, просто выдумывал из головы всякие мерзости. Всякие ужасы. Говорил, что приводят родственников и заставляют их всех смотреть. Говорил, что вешать тебя будут, раздев догола, чтоб одежду не закапывать. Я не знаю даже половины того, что он наговорил, но это было страшно. В такой обстановке на некоторых иногда находит. Вдруг начинаешь такое отчебучивать. Наверно, Мори для такой работы не годился.
инт.: И что вы сказали Оде?
гаро: Я описал ему повешение. Об этом нам говорить не положено. Иногда заключенные пугаются, и с ними труднее иметь дело. Нам это не положено, но я рассудил: мне придется довести до конца то, что начал Мори. И я ему растолковал насчет этого всего.
инт.: Не могли бы вы сейчас описать именно то, что описали ему?
гаро: Ну-у, много времени прошло. Не знаю, как это делается нынче. Я бы предпочел не говорить о таких вещах.
инт.: Можете ли вы просто повторить то, что вы сказали Оде об этих повешениях, о том, как это делалось в прежние времена? Это вовсе не должно подразумевать, что нынче все делается именно так.
гаро: Наверно, да, наверно, смог бы.
Интервью 19 (Брат)
[От инт. Мне пришлось ненадолго отлучиться в город, а Дзиро ездил туда же на совещание. Так что мы встретились на железнодорожном вокзале, чтобы вернуться в его дом вместе. Пришлось немало побродить по вокзалу в поисках уголка, достаточно тихого для диктофона. Мы несколько раз принимались за работу, но были вынуждены прерываться и перебираться на другое место. Я ввязался в ссору с каким-то пьяным, который все время нас перебивал, и это рассмешило Дзиро. Итак, это интервью мы начали в хорошем настроении.]
≡
инт.: Вы говорили о том последнем свидании, о том, как у вас отобрали вещи? Диктофон уже включен.
дзиро: Я попробовал пронести ему маленькую музыкальную шкатулку, которую отыскал. Дурацкая – музыкальная шкатулка, не идея. Мысль, наверно, была хорошая – что надо пронести шкатулку, вот только ничего не вышло. Отобрали.
инт.: Что играла музыкальная шкатулка?
дзиро: Ну-у, вам покажется, что это что-то совсем дурацкое, но вы должны знать: Сотацу любил Майлза Дэвиса, особенно один альбом, ну, этот, “Cookin’ with the Miles Davis Quintet”.
инт.: Но разве бывают на свете музыкальные шкатулки, которые играют Майлза Дэвиса?
дзиро: Что ж, теперь, может, и бывают. Я не в курсе. Тогда их не было, в строгом смысле – не было. Но эта… коробочка, внутри зеркало, а когда ее открываешь, играет “My Funny Valentine”, а это с того самого альбома. Она была дорогущая, эта музыкальная шкатулка. Моя зарплата почти за неделю. Но я подумал, если она хоть чуть-чуть поднимет настроение Сотацу…
инт.: Вы попытались пронести ее в тюрьму, хотя и знали, что обычно такие вещи не разрешаются?
дзиро: Да.
инт.: И у вас ее отобрали. Что с ней сделали?
дзиро: Могу предположить, что кто-то из надзирателей ее кому-нибудь подарил. Я ее больше не видал.
инт.: И вдобавок вы из-за нее здорово влипли.
дзиро: Меня отвели в какую-то комнату, и какой-то чин орал на меня полчаса, наверное. Я рассыпался в извинениях. В те времена я обычно… В общем, нрав у меня был горячий. Вспыльчивый нрав. Но в этом случае я просто хотел добиться, чтобы меня к нему пустили. Я ехал на автобусе, прошел много километров пешком. И, наконец, добрался до тюрьмы. Если бы меня там развернули, сказали – вали домой, дело было бы совсем плохо.
инт.: Но вас пустили?
дзиро: Пустили, и мне очень повезло, что пустили. Потому что тогда я увиделся с ним в последний раз.
инт.: Не могли бы вы описать это свидание?
дзиро: Ну, меня провели внутрь совсем как раньше, как при всех других свиданиях. Мне пришлось расписаться, пришлось сдать отпечатки пальцев. Иногда отпечатки пальцев сверяли с другими, которые раньше делали с моих рук. Однажды надзиратель ошибся, достал не те отпечатки, и они подумали, что я какой-то самозванец. Но все уладилось. Эту ситуацию разрулил тот же главный над надзирателями, тот самый, который на меня орал, но все равно в тот последний раз он меня пропустил. Наверно, ему было неудобно из-за той путаницы в первый раз. По-моему, человек он был неплохой.
[От инт. Тут подбежала дочь Дзиро. Спросила: вы что, над книгой работаете? Я и не знал, что дети знают, чем мы занимаемся. Им, наверное, жена Дзиро сказала. Я сказал, что мы делаем кое-какую работу, которая, может быть, войдет в книгу. Она сказала, что надеется, книга подействует так, как должна подействовать, когда-нибудь подействует. Я спросил как. Она посмотрела на своего отца и сказала, что книга должна сделать так, чтобы целая куча людей страшно пожалела о том, что случилось. Сказала, что они попереживали вполсилы и успокоились, а теперь уже много времени прошло, и все обо всем позабыли, а книга должна напомнить, что они до сих пор должны переживать. Я сказал: да, разумеется, и это тоже. Дзиро засмеялся, каким-то смехом, который был наполовину пуст и наполовину полон. Сказал ей: беги, играй. И она убежала.]
инт.: И тогда вас провели в камеру?
дзиро: Да. Странно это было – навещать его в тюрьме. Ощущение, что возвращаешься в то же самое мгновение. Даже не знаю, как описать. Словно когда ты ушел оттуда, время продолжило свой бег, но для человека, который там, оно стояло. Для всех них прошел только миг с тех пор, как ты вышел за ворота. Сотацу был там же, в той же одежде, в той же позе. От лампочек – тот же свет. Тот же матрас лежал на том же месте. От этого меня брала жуть. И все равно у меня каждый раз отлегало от сердца, когда я его видел: он по-прежнему здесь, ничего другого с ним пока не сделали. Я подошел к двери, заслонку на окошке сдвинули, Сотацу увидел меня и подошел к двери. Тогда у него была очень странная гримаса, очень странная гримаса, он ее строил ртом. Наверно, дело было в том, что он перестал говорить. Может быть, если бы люди перестали использовать рты для говорения, все люди так бы и гримасничали ртом.
инт.: Рот был открыт?
дзиро: Немного приоткрыт, с одной стороны. Не помню с которой.
инт.: И вы стояли там, глядя на него, – делали то, что у вас обоих вошло в обычай?
дзиро: Да. Вот только недолго. Потом пришел надзиратель и попросил меня уйти. Не сказал почему. Мне кажется, должен был прийти кто-то еще, но толком ничего не знаю. Казалось, меня вычищают оттуда, очищают помещение. Может, только что пришла весть, что его день близок, и потому они хотели все привести в порядок. Не знаю.
инт.: Так вы увидели его в последний раз.
дзиро: Помню, какая у него была стрижка, его остригли кое-как, один участок на голове недовыбрили. Когда я вижу его мысленным взором, таким я его и вижу, Сотацу. Но он стоит на улице.
инт.: Когда вы воображаете его, вы воображаете его в тюремной робе, с бритой головой, но он находится под открытым небом?
дзиро: Он на улице, со шкатулкой, которую я собирался ему отдать. Но она не открыта – не играет. Она у него в руке, закрытая.
Интервью 20 (Брат)
[От инт. В ту ночь после нашего возвращения я ушел к себе, чтобы лечь спать, но не спешил улечься в постель, просматривал кое-какие свои заметки. Спустя некоторое время ко мне постучались. Открыв дверь, я увидел на пороге Дзиро. Войдя, он сознался, что днем не сказал мне правды или сказал, но не всю. Я спросил, что он придержал при себе. Он сказал, что во время последнего свидания кое-что было не так, как в прошлые разы. Я спросил, что было не так и почему он умолчал об этой информации. Он сказал, что ни с кем этим не делился и потому не понимал, стоит ли делиться со мной, и только сегодня вечером понял. Я спросил его, что было при том свидании, том последнем свидании, в каком смысле оно было не таким, как в прошлые разы. Он сказал, что Сотацу отдал ему два письма, которые сам написал. Сказал, что они хранятся у него, спросил, хочу ли я их посмотреть. Я сказал, что хочу, и еще сказал: а мне-то казалось, что ему не разрешалось ничего писать. Дзиро сказал, что некоторым заключенным, видимо, разрешалось, и Сотацу, видимо, входил в их число. Он протянул мне картонную коробку с маленькой застежкой сбоку. Я сказал ему, что буду обращаться с ними очень бережно. Он отошел к двери, но помедлил, посмотрел на меня. Я спросил, предпочитает ли он, чтобы эти документы остались за пределами книги. Он ничего не говорил, но и не уходил, стоял, где стоял. Наконец сказал, что предпочитает, чтобы в книгу попало все. И не желает, чтобы за пределами книги осталось хоть что-то. Вот почему он изменил свою позицию и принес мне письма. Я сказал ему “спасибо”, и он ушел, оставил меня наедине с коробкой, чтобы я открыл ее один.]
[Документ (лицевая и оборотная сторона листа) будет приведен ниже, на следующей странице.]
Документ, лицевая сторона: Собственноручно составленное завещание
Собственноручно составленное завещание Оды Сотацу. Мое имущество, перечисленное ниже, следует отдать членам моей семьи в очередности, указанной ниже.
КНИГИ (наверно, около дюжины, на столе у окна) – моей сестре.
Мою ОДЕЖДУ, старые брюки, новые брюки, рубашки, носки и прочее – сжечь.
Мою МЕБЕЛЬ – раздарить.
Все, что есть в моей КУХНЕ, кастрюли, нож и т. п. – моей матери.
Мои ПЛАСТИНКИ, ПРОИГРЫВАТЕЛЬ – моему брату.
Мои РИСУНКИ, ДНЕВНИК – сжечь.
Мою ЛОПАТУ ДЛЯ ЧЕРВЕЙ, УДОЧКУ, СНАСТИ – моему отцу.
Мой ВЕЛОСИПЕД – моему брату.
Мой ШАРФ – моей сестре.
Мои ФИГУРКИ ПТИЦ – моей матери.
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – сжечь или раздарить.
… когда меня забрали, у меня было заплачено за квартиру, но с тех пор плата не вносилась. Не знаю, как это на все повлияет.
Документ, оборотная сторона: письмо к отцу
[От инт. Этот документ складывали и разворачивали много раз. Похоже, кое-где на сгибах он уже начал рваться. Могу предположить, что Дзиро часто разворачивал его, чтобы почитать. Увидевшись с Дзиро на следующий день, в день моего отъезда из его дома, я вернул ему письма и спросил, показывал ли он их отцу. Он сказал, что нет. Его никогда не посещали даже робкие намерения это сделать, и он так этого и не сделал. Теперь, когда эта книга готовится к печати, отца Дзиро и Сотацу уже нет в живых (ум. в 2006 г.), поэтому в этой жизни отец никогда уже не увидит это письмо.]
Отец!
Я знаю, почему вы не приходите меня навещать. Вы правильно считаете, что виноват в этом я. Дело это запутанное, но в то же время совсем простое. Настолько простое, что я могу сквозь него смотреть, как сквозь стекло окна. Когда смотрю, вижу вас и других, и вы чего-то ждете. Чего, я не знаю, и вы, по-моему, тоже не знаете.
Кто-то пишет что-то, потому что думает, что это должно быть написано, это должно быть сказано. Итак, я пишу это, но не знаю, для чего оно должно существовать, просто что-то должно быть сказано до того, как все совершится.
Там, где к дому прилегает задняя калитка, я имел обычай все прятать. Ты об этом никогда не знал. Мать, Дзиро – вообще никто не знал. Там есть впадина, и я время от времени засовывал в нее что-нибудь. Вот такое же чувство у меня сейчас. Я хотел, чтобы вы знали, что я больше не тревожусь. Теперь я не тревожусь.
ОС
Интервью 21 (Ватанабэ Гаро)
[От инт. Ватанабэ Гаро все не решался раскрыть подробности того, как происходит казнь. Я долго его уговаривал, давил на его тщеславие, на самолюбие, добивался, чтобы он произнес те же слова, которые доверил слуху Оды. Наконец, только на условиях оплаты наличными и гарантированной анонимности, он раскрыл подробности.]
≡
инт.: Отлично, начинаем запись.
гаро: Он там сидел и смотрел на меня, а я стоял. Тогда мне стало его жалко. Казалось, это его проняло, россказни Мори как будто в нем что-то перекроили, а мне не хотелось, чтобы он менялся поневоле. Раньше его ничто не могло пронять. Я хотел дать ему возможность оставаться тем человеком, которым он был, пока сидел в тюрьме. Ему это приносило только пользу, и я не хотел, чтобы всякие там нашептывания его перекроили. Случилось то, чего не должно было случиться, и я подумал: может, мне удастся это выправить. Может, я сумею поговорить с ним и выправить это, и все опять будет, как было.
инт.: Это было что-то, что вы могли заметить по его внешности, он стал в чем-то не похож на себя?
гаро: Я могу только сказать то, что сказал тогда.
инт.: Прошу вас.
гаро: Я ему сказал, я сказал: вы не знаете, когда это будет. Это да, это действительно правда. Заключенному нельзя знать день его казни. Просто однажды этот день приходит, и все. Тебе приносят легкую пищу, что-нибудь особенное. Что-нибудь вкусное. Потом тебя выводят из твоей камеры. Тебя ведут в коридор, и ты подмечаешь: вот коридор, в котором ты раньше не бывал. Сперва ты, возможно, думаешь, что тебя ведут на прогулку или что тебя ведут в лазарет. Но нет, все кристально ясно, это же другое отделение. Это коридор, которым пользуются редко, и в нем это отчетливо чувствуется. Идешь по коридору, а в нем окна небольшие и нет решеток, окна без решеток. Снаружи, тебе это видно, газон. Потом ты подходишь к двери. У надзирателя нет ключа. Дверь просто распахивается. За дверью все время кто-то стоит в ожидании, и, когда кто-то подходит, когда момент подходящий, он открывает дверь. Ты входишь в нее. Теперь ты в наполовину открытом пространстве. Там письменный стол, за ним сержант-надзиратель. У него лампа и книга. Он сверяет твои документы с книгой. Твои документы не у тебя. Собственно, ты их и в глаза не видал. Но их несет надзиратель, который с тобой пришел. К тебе выходит доктор, вместе с тремя другими надзирателями, их ты уже раньше видел, они и раньше тобой занимались. Тебя осматривают, а потом доктор и надзиратели расписываются. Дают подписку, что ты – действительно ты, что на этом месте стоишь ты, а не какой-то другой человек. Ты тоже подписываешь документ, соглашаясь с тем, что ты – это ты. Когда это дело сделано, сержант отпирает дверь в дальней части помещения. Он делает это после того, как уходят остальные. Такая процедура. Все это – процедура. Они уходят; он отпирает дверь; ты входишь. Двух твоих надзирателей сменили два других. Они входят с тобой, по одному с каждого бока. Теперь ты в первой из трех комнат. Отделение для казней состоит из трех комнат. Первая – святилище. На алтаре – статуя Будды. Жрец уже ждет. Может быть, ты видел его и раньше, когда он шел в эти самые камеры. Он разговаривает с тобой ласково. Возможно, он – единственный, кто не избегает смотреть тебе в глаза. Просит тебя присесть. Там, у алтаря, он читает тебе вслух, и то, что он зачитывает, – слова предсмертных обрядов. Теперь ты знаешь точно. Даже если ты делал вид, что это не оно, теперь все внезапно проясняется. Хотя ты рассказывал себе какие-то сказки, противоречащие здравому смыслу – мол, в день твоей казни случится какое-нибудь событие того или иного сорта, и по этому событию ты догадаешься, что это день твоей казни, – но нет, такие события – только выдумки. Надзиратели не надевают другую форму. Тебе не дают закурить. Тебя не выводят наружу, чтобы отвезти в закрытом фургоне в другое место. Какое бы событие ты ни воображал, ты его воображал попусту, без толку. Тебе зачитывают предсмертные обряды, и это что-то мимолетное. Так быстро они заканчиваются. Так быстро тебя поднимают со стула, чтобы ты шел своими ногами. В дальней стене комнаты распахивается дверь. Ты входишь. Следующая комната поменьше. Там тоже уже кто-то ждет. Это начальник тюрьмы. Он одет очень красиво и выглядит внушительно, наподобие генерала. Он выжидает, пока тебя поставят, куда полагается. Он выжидает. Когда ты встаешь на то место, где тебе полагается стоять, он опускает руку в карман. Достает из своего кармана листок бумаги. Что он собирается сказать? В этой комнате даже надзирателям становится не по себе. И вот что он зачитывает: он приказывает совершить казнь. Он несколько раз упоминает твое имя, выговаривая его с великолепной тщательностью, и ощущение такое, будто ты никогда раньше не слышал своего имени. Ты будешь убит по приказу кого-то или чего-то. Он выходит из комнаты, и дверь запирается. Вошел еще один надзиратель. У него сумка, и из сумки он достает наручники. Их надевают тебе на запястья и крепко защелкивают. Затем он достает повязку для глаз. Надзиратели ходят вокруг тебя, словно вокруг какой-то хрупкой вещи. Совершают ряд операций с вещью, взятой в обработку. Тебя обездвиживают. Твои руки обездвиживают. Твою голову обездвиживают. Пускают в ход повязку для глаз – ее надевают на голову, на лицо. Теперь ты больше ничего не можешь увидеть. Теперь тебя ведут надзиратели. Ты входишь в дверь, которая распахнулась, должно быть, беззвучно, в дверь за спинами начальника тюрьмы и второй статуи Будды. Ты осознаешь, что только что увидел то последнее, что тебе привелось увидеть в своей жизни. Если ты буйный, если ты сделался буйным, если ты начинаешь буйствовать, это уже ничего не меняет, потому что ты обездвижен. Но почти все не буйствуют. Почти все безропотно позволяют ввести себя в комнату. Даже животные становятся покорными, если им завязать глаза. Сумка, которую принес надзиратель, была доверху набита покорностью, которая теперь переполняет тебя. Надзиратели обращаются с тобой ласково, ведут тебя. Тебя помещают в самую дальнюю комнату, последнюю комнату. Ты ощущаешь вокруг себя ее пространство. Надзиратели дотрагиваются до твоих плеч, до твоей головы. Они что-то кладут тебе на голову, спускают это сверху вниз, мимо лица, все ниже, мимо повязки на глазах. Они с тобой очень ласковы, точно парикмахеры. Это веревка – вот что надели тебе на шею. Веревка надевается, как твердый воротник на новой рубашке, и туго затягивается. Все стоят вокруг тебя, близко-близко. Затем они осторожно убирают руки, отдергивают руки от тебя, от твоих плеч, от твоей шеи, от твоих рук. Пятятся на шаг. Теперь становится тихо. Ты можешь ощутить, что веревка тянется вверх. Иногда она задевает за твой затылок. Возможно, ты можешь догадаться, в каком месте ты вошел в комнату. Этим-то ты и занят – догадываешься бездействующими органами чувств. Слышится шум, люк откидывается, и ты проваливаешься сквозь пол так, словно это не пол, не пол одной из тех привычных тебе комнат, а пол комнаты, похожей на эшафот. Это последняя комната, комната, похожая на эшафот.




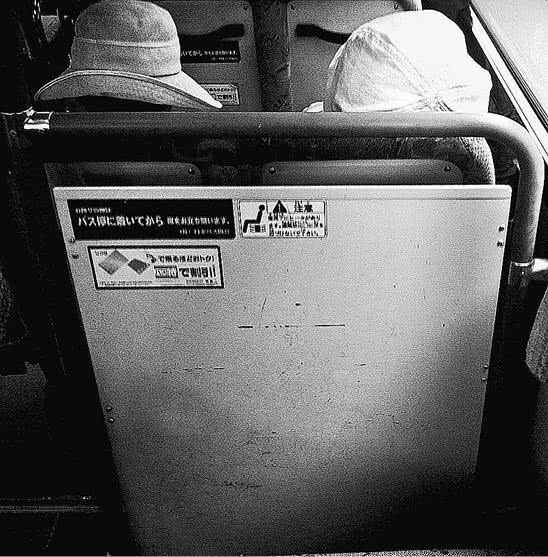
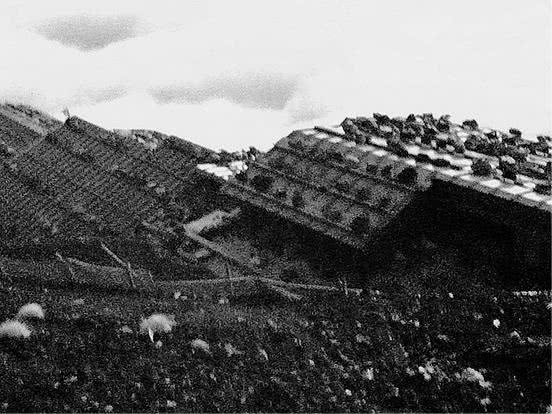








Назад: Семь месяцев заточения
Дальше: 2. Найти Дзито Дзоо

