Концентрационный лагерь
Мы с Неблихом и Воржиком два часа пережидали дождь, но он так и не перестал, и бои в тот день больше не возобновились. Домой я не шел, а бежал, сгорая от нетерпения рассказать о своей победе Грете, Хильди, родителям – и всякому, кто будет готов слушать. Вокруг торопливо шагали прохожие, съежившись под зонтами или прикрыв головы сложенными в несколько раз газетами, а я летел, подставляя лицо струям дождя. Ритмично, в свое удовольствие шлепая по заливавшим тротуар лужам, я свысока смотрел на скучных обывателей, до смерти боявшихся промочить ноги, и чувствовал себя могучим, не ведающим преград воином. Мокрым насквозь героем-победителем я влетел в квартиру, но застал там только Хильди.
– Ты победил? – первым делом спросила она.
– Нокаутом во втором раунде.
– Ой, как здорово! Постой здесь. У меня для тебя есть подарок.
Хильди сбегала к себе в комнату и вернулась с рисунком, на котором изобразила Воробья в надетых на крылья боксерских перчатках. У него над головой она написала: «ЗАДАЙ ИМ, ВОРОБЕЙ!»
– Это тебе за победу! – сказала Хильди и протянула мне рисунок.
– Спасибо, Кроха.
– Ты повесишь его себе на стенку?
Мне не хотелось вешать детскую картинку рядом с фотоснимками боксеров, но и обижать сестру я не хотел.
– Конечно, Кроха.
Я надеялся по пути домой случайно встретиться с Гретой, чтобы она могла броситься мне в объятия – как Анни Ондра в моем воображении бросалась в объятия Макса, когда тот возвращался с победой. Еще я мечтал поскорее рассказать про выигранный бой отцу, чтобы хоть этим наконец произвести на него впечатление.
– А где дядя Якоб? – спросила Хильди. – Я думала, он придет вместе с тобой.
В пылу поединка я совсем забыл про дядю Якоба и обещанную им группу поддержки.
– Я его не видел. А мама где?
– Не знаю. Ей кто-то позвонил по телефону, она очень расстроилась, но не сказала почему. Потом она пошла за папой и велела мне ждать тебя.
– Кто ей звонил?
– Мама не сказала.
Мы с Хильди стали дожидаться родителей. Она несколько часов сидела на подоконнике и неотрывно смотрела на улицу в надежде, что мама с папой вот-вот покажутся из-за угла. В семь вечера я приготовил ужин: пожарил на чугунной сковородке сардельки, а к ним поставил на стол остатки картофельного салата с зеленым луком и уксусом. Ели мы молча. Отец довольно часто вечерами задерживался в галерее, и тогда мы ужинали без него, но мама никогда не оставляла нас одних так надолго и к тому же без предупреждения.
Родители появились только в одиннадцать. Дома они продолжали начатый раньше спор.
– Надо нанять адвоката, – сказала мама.
– У кого сейчас есть деньги на адвокатов?
– У нас.
– Но чем тогда платить за квартиру? Или ты хочешь, чтобы нас выкинули на улицу?
– Зиг, мы должны помочь. Ему нужен адвокат.
– Адвокат ему не поможет, – упорствовал отец. – Сама знаешь, какие нынче суды. Нанять адвоката – все равно что выбросить деньги в унитаз.
– Но он мой брат.
– Он дурак. И, сколько я его знаю, всегда был круглым дураком.
– Что случилось? – спросил я.
– Вашего дядю Якоба… – начала было мама.
– Ничего не случилось, – перебил ее отец.
– Как это – ничего? – закричала на него мама.
– Чем меньше они будут знать, тем лучше.
– О чем нам лучше меньше знать? – спросила Хильди.
– Ни о чем, Хильдегард. Иди спать.
– Нет, правда, что случилось?
– Вашего дядю Якоба арестовали, – потухшим голосом ответила мама.
Хильди испуганно раскрыла рот. Я был ошарашен, мне не верилось, что мама говорит правду.
– Прекрасно, Ребекка! Просто замечательно. Ты что, хочешь, чтобы об этом узнали все их друзья? Чтобы за нами пришли эсэсовцы?
– Почему его арестовали? – спросила Хильди.
– Потому что он и его товарищи не согласны с нацистами.
– За это могут арестовать?
– В наши дни арестовать могут за что угодно.
– Нас тоже арестуют? – спросила Хильди, чуть не плача.
– Очень умно́, Ребекка! – сказал отец. – Взять и ни с того ни с сего напугать ребенка до полусмерти.
– Нет, не ни с того ни с сего! Они должны знать, что творится вокруг. Его арестовали, – сказала мама, обращаясь уже не к отцу, а к нам с Хильди, – и отправили в концентрационный лагерь, в город Дахау.
– Что такое концентрационный лагерь? – спросил я.
– Это что-то вроде тюрьмы, в которую нацисты сажают тех, кто с ними не согласен, – объяснила мама.
– Послушайте, – сказал отец. – Ваш дядя сам виноват. Он и другие члены его кружка очень рискованно себя вели.
– Они хотя бы пытались что-то сделать, – возразила мама. – А ты даже не пытаешься.
– И что же прикажешь мне делать? Если ты такая умная и все знаешь, давай, скажи, что надо делать?
– Что-нибудь! Что угодно! Брат хотя бы защищал то, что ему кажется правильным.
Мама развернулась и пошла на кухню. Отец поспешил за ней.
– И чего он этим добился? Или ты хочешь, чтобы меня сгноили в лагере где-нибудь в Баварии?
– Все идет к тому, что мы так и так там окажемся.
Хильди со слезами бросилась к маме, обхватила ее руками и уткнулась лицом в живот. Мама положила ей руку на плечо.
– Ты расстраиваешь детей, – сказал отец.
– И правильно, им есть от чего расстраиваться!
– Давай сейчас прекратим этот разговор, – сказал отец маме, а потом обратился к нам с Хильди: – О том, что случилось с вашим дядей, не надо никому говорить. Даже лучшим друзьям. Нас всех тоже арестуют, если заподозрят, что мы как-то связаны с его кружком. Из-за дяди Якоба нам всем нужно быть очень осторожными.
– Мы не можем и дальше так жить. – сказала мама.
– У нас нет выбора.
– Давай уедем.
– Ребекка, мы уже тысячу раз это с тобой обсуждали.
– Другие же уезжают. Шварцы на той неделе уехали в Женеву. А Берги собираются в Амстердам.
– У них там родственники.
– Просто надо придумать, куда нам лучше ехать.
– Придумать, куда лучше ехать? И куда же, Ребекка? Ты, наверно, уже придумала?
– Куда угодно.
– Отличная мысль! Давайте, дети, пакуйте чемоданы! Мы уезжаем куда угодно.
Родители впервые при нас заговорили об отъезде из Германии, потому что означать это могло только одно: дела обстоят даже хуже, чем я думал.
– А если в Соединенные Штаты? У тебя там двоюродные братья… – сказала мама.
– Сама знаешь, это невозможно, – перебил ее отец.
– Почему?
– Во-первых, потому что Америка – это другой край света, а с братьями я последний раз виделся еще до войны. Во-вторых, мы не знаем английского. И самое главное, у нас и близко нет тех денег, которые нужны для отъезда. Вообще, не понимаю, почему ты снова подняла эту тему.
– Потому что ситуация в стране все хуже и хуже.
– Просто такая сейчас политика. Это временно.
– Нет, не временно, – сказала мама. – Больше нельзя сидеть и ничего не делать.
– Ладно, хочешь ехать – езжай! – Отец бегом бросился в их с мамой спальню и вернулся оттуда с чемоданом в руках. – Вот, держи! – Он бросил чемодан к маминым ногам. – Собирай вещички и катись, куда знаешь.
Отец пнул чемодан так, что тот угодил маме по ноге.
– Вот скотина! – воскликнула она и схватилась за ушибленную лодыжку.
Потом мама подняла чемодан с полу и запустила им в отца. Он попытался увернуться, но чемодан все равно попал ему по плечу.
– И трус! – добавила мама сквозь зубы.
Слово «трус» подействовало на отца, как ушат холодной воды. Он вдруг замер и молча уставился на маму. Шея у него побагровела, лицо исказила злость.
– Я здесь больше не останусь, – выговорил он наконец, повернулся, неуклюже переступил через преграждавший ему путь чемодан и пулей вылетел из квартиры.
Когда за ним захлопнулась дверь, мама подняла с пола чемодан и отнесла его на место в спальню. Вернувшись к нам, она закрыла лицо руками и разрыдалась. Хильди тоже заплакала. К родительским ссорам нам было не привыкать, но такого накала они никогда раньше не достигали.
– С дядей Якобом все будет хорошо? – спросила Хильди.
– Я не знаю, – ответила мама. – Совсем не знаю. А вам обоим пора спать.
Она поцеловала меня и Хильди в лоб и закрылась в спальне. Нам снаружи было слышно, что она там плачет, уткнувшись лицом в подушку.
Я боялся, что мама встанет и пойдет в ванную, но она оставалась в спальне и вроде бы никуда не собиралась. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, роившихся у меня в голове, я попытался сосредоточиться на одержанной днем победе. Я записал в дневник результаты боя со Штрассером, старательно вспоминая точную последовательность ударов и то, какие из них достигли цели.
Макс учил меня, что хорошие боксеры всегда стремятся побольше узнать о сопернике, чтобы лучше понимать его сильные и слабые стороны. «Представь себе, что ты генерал, и перед сражением тебе нужно собрать все возможные сведения о вражеской армии». Я даже нарисовал портрет Штрассера, чтобы вспомнить его, если нам вдруг опять придется встретиться на ринге.
Лежа в постели, я долго листал старые спортивные журналы в надежде найти убежище в дорогом мне мире Барни Росса, Макса Шмелинга, Тони Канцонери, Джимми Брэддока и Генри Армстронга. Похоже, раса и религия не имели на ринге никакого значения, а если и имели, то лишь как отличительная черта и повод для гордости. Боксера-еврея в журнале могли уважительно называть «Иудейской Кувалдой» или «Сыном Соломоновым», а негра – «Черным Задирой» или «Коричневой Мортирой». Было бы очень здорово, если бы самые разные люди чувствовали себя в Германии так же вольготно, как в мире бокса.
Но о чем бы я ни думал, мысли упорно возвращались к дяде Якобу и к месту, где его насильно держали. Почему, интересно, этот лагерь называют «концентрационным»? Что и как там концентрируется?
Занятый этими размышлениями, под тихие мамины всхлипы за стенкой я незаметно уснул.
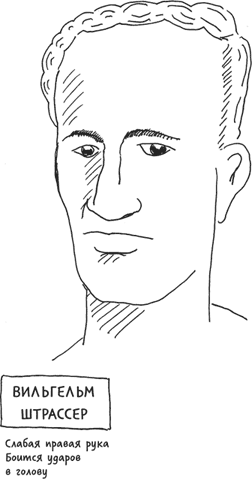
Назад: Штерн протии Штрассера
Дальше: Настоящий боец

