Глава 7
Свидание
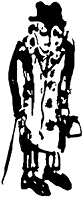
– Вот тебе две одинаковые истории, – произнес Ленни, закончив рассказ. – И, по-моему, у тебя назначена встреча с твоей бабушкой.
Стоял солнечный день, мы гуляли по лесу неподалеку от его дома вдоль ручья. Из-за хромоты он шел медленно, тяжело опираясь на палку. Я рассказал ему про бабушку и про газовщиков – историю, которую всегда старался гнать от себя. Она, похоже, его огорчила. Ленни ответил мне байкой про смерть и разговором о демонах.
– Смерть все равно рано или поздно заполучит тебя, но до этого тебе судьба убегать от демонов. Они все равно тебя найдут, куда бы ты ни шел. И что бы ни делал. Стоит им вонзить в тебя когти, как они уже не отпустят – пока не повернешься к ним лицом. Вот именно поэтому Кортес сжег свой флот – слыхал историю?
Я и не собирался говорить «да». Ленни продолжил:
– Так вот, говорят, Кортес, когда добрался до Нового Света, первым делом сжег свои корабли, все до единого. И знаешь зачем?
Я покачал головой.
– Скажу тебе зачем. Чтобы ему и его людям остался только один выбор – встретиться с демонами, – на лице Ленни возникла широчайшая ухмылка, глаза распахнулись. – С демонами! – повторил он, скрючив пальцы, будто это когти. – Они преследуют нас и, пока мы боремся за жизнь, насмехаются над нами. Они гоняются за нами, и чем быстрее мы убегаем, тем громче они хохочут!
Он сгорбился и скроил гримасу, крадясь ко мне и гнусаво скуля:
– «Ты никчемный! – говорят они. – Недостойный! Сказитель, который и говорить-то не может!» – Ленни, вытаращив глаза, отвернулся и вдруг завопил во всю глотку: – «Ты не годишься и с людьми-то общаться! Люди не выносят тебя, и поэтому ты живешь здесь, в лесу, один!»
Он внезапно умолк, и мы оба слушали отзвук его последнего слова. Ленни огляделся по сторонам, приходя в себя. Видно было, что он смутился, и я отвернулся к ручью. А когда глянул на него опять, осознал, каким больным Ленни выглядел. Ничего не сказав, он лишь махнул рукой в сторону дома, и мы вернулись в полном молчании.
– Я знаю, как это устроено, – сказал он позже, когда мы уселись на ступенях крыльца. – Ты поворачиваешься к демонам лицом, и они уходят. Но мне на это вечно не хватало сил. Потому что в их словах есть правда. Юная и прекрасная. Я в самом деле одинок. Никто не приезжает ко мне в гости, не считая тебя, – сказал он. – Да и ты, думаю, приезжаешь только потому, что у тебя собственные демоны, те же, что преследовали твоих родителей, те самые, от которых, как тебе казалось, ты удрал.
Я кивнул – он был прав.
– И что же говорят твои демоны?
Из всех вопросов этот был самым простым:
– Фиаско.
– А, фиаско, – ответил Ленни, – Знают они свое дело, демоны эти. И фиаско – действительно сущий ад. Но при всей вожделенности успеха он сильно переоценен.
Может, он хотел утешить меня – не знаю. Не утешил.
– Люди думают, что успех сам собой обернется счастьем. Вот только получат в точности то, чего желают, – и станут счастливы. А потом, когда все-таки добывают желаемое, все равно остаются несчастными и хнычут, как марокканские мартышки.
Я ждал дальнейших объяснений.
– Когда я был маленький, моя семья около года жила в Марракеше – отличное это место для всяческих историй. Обезьяны были повсюду, и мы всё хотели поймать одну, но они оказывались шустрее. И тогда один старик научил нас хитрости. Надо взять бутыль и насыпать в нее орехов. Обезьяна увидит орехи в бутыли, сунет туда лапу и схватит орехи. Но теперь ладонь сжата в кулак, с орехом в нем, и лапу из горлышка уже не вынуть. Обезьяна слишком взбудоражена, ей не приходит в голову разжать лапу, и она таскает бутылку за собой. И тогда ее совсем просто поймать… Та же история с успехом. В мире полно людей – людей преуспевших, у кого на всю жизнь рука застряла в бутыли, и они ломают голову, в чем причина их несчастья. Это миф нашего века – «успех принесет тебе счастье». Но вот пролетает мимо синяя птица счастья. И что она делает? Гадит им на головы. Не догадываются об этом, но желают на самом деле того, что досталось тебе, – полного фиаско.
Даже в исполнении Ленни это показалось притянутым за уши.
– Я серьезно, – сказал он. – Фиаско – это искусство. Научись хорошенько проигрывать и будешь счастлив, как Лэрри, – он замолчал и ухмыльнулся. – Знаешь Лэрри?
Я задумался. Фраза «счастлив, как Лэрри» была из тех, какие мне часто приходилось слышать в путешествиях по Ирландии, но я понятия не имел, кто такой этот Лэрри.
– Святой Лаврентий, главный святой в смысле счастья, – объяснил Ленни. – Вечно улыбается, всегда смеется. Он был так чертовски счастлив все время, что до смерти надоел римлянам. Они привязали его к шесту, подожгли и оставили гореть заживо. Пару минут спустя, услышав смех, они вернулись посмотреть, в чем дело. И Лэрри сказал им с широкой улыбкой на устах: «Я уже прожарился с одной стороны, можно переворачивать». А теперь скажи мне, знаешь ли ты кого-нибудь, как Лэрри? Кто вечно улыбается всякий раз, когда вы встречаетесь? И впрямь ли он счастлив?
Я обдумал этот вопрос. История о Лэрри напомнила мне отца, который всю жизнь только и делал, что смеялся сквозь боль, и я знал, что папа вовсе не счастлив. Подумал о матери – чем хуже шли дела, тем шире делалась ее улыбка. Улыбка сквозила в ее голосе и во всех ее сообщениях, что скапливались у меня на автоответчике. Несмотря на то, как славно, по ее словам, все складывалось, я всегда знал, что на самом деле она несчастна. Я бросил было искать пример, но тут вдруг вспомнил.
– Может, тот мальчик… на велосипеде.
– Кто это?
Я рассказал Ленни о Рики. Рики жил в тупике дальше по нашей улице, когда я был подростком. Мы все звали его «мальчик на велосипеде». Он был с дефектами развития – умственно отсталый, как мы тогда говорили. Носил, не снимая, красный свитер и ездил на велосипеде по кругу, иногда по часовой стрелке, иногда против. Мы каждый день проезжали мимо него к шоссе, и каждый раз он, широко улыбаясь, останавливался и махал нам рукой. Кажется, он махал всем. Мы махали ему в ответ, и он продолжал кататься. Я вспомнил, сколько раз его видел – Рики всегда был счастлив. Был ли он счастлив на самом деле, я не имел ни малейшего представления.
– Хорошо, один улыбающийся пацан в красном свитере, на велосипеде, – сказал Ленни. – И что же делало его счастливым? – я понятия не имел. – Видимо, он ездил по кругу, нисколько не думая, что надо бы заняться чем-то еще или быть кем-то другим. Гением он, может, и не был, зато, похоже, был счастливее многих одаренных людей из тех, что бродят по миру, отягощенные дурацким убеждением, что их жизнь должна отличаться от той, какая есть. «Я должен быть богат», – говорят они. «Я должен быть знаменит». «Я должен быть краше». У каждого есть свое «должен». Видал я одного парня, он носится с мыслью: «Я должен мочь говорить».
Холодало, и мы ушли в дом. Ленни взялся разводить огонь, но я жестом попросил его сесть и сам занялся дровами в печи, смял кусок газеты, зажег спичку.
– Говорю тебе, ничто не поганит жизнь так, как наши ожидания. Людям нравится думать, что они умнее Бога, величайшего сказителя небесного. И что же происходит? Бог смотрит сверху и видит, что какой-то дурачок думает, будто он все понял о жизни, – и тогда Бог подбирается сзади и отвешивает дурачку по заднице. Или, как в твоем случае, наступает ему на ногу. Аккурат на большой палец. Р-раз!
Он опять вверг меня в недоумение.
– Подагра. Бог попытался обратить на себя внимание. Та же штука случилась со мной.
– Подагра?
– Не-а. Это произошло, когда я занимался серфингом, – мне показалось, что я ослышался. Кем бы ни был Ленни, на серфингиста он не походил. – Именно поэтому я и приехал в Санта-Круз.
– Из-за серфинга?
– Точно. Из-за волн, – я попытался представить себе Ленни на серфинговой доске, но не смог. – Это было задолго до нашей встречи, прежде, чем я пошел в аспирантуру, до того, как вообще задумался о сказительстве. Доехал сюда автостопом из Нью-Джерси и каждый день катался на волнах, а по ночам зажигал на пляже. Ты когда-нибудь пробовал серфинг?
Я покачал головой.
– Стоит попробовать. Лучше не придумаешь – будто летаешь по воде, – он тряхнул головой, на лице возникла грустная улыбка. – У меня хорошо получалось, не хуже, чем у всех остальных на пляже. И знаешь почему? Потому что я ничего не боялся. Был уверен, что со мной ничего не случится. В штормовую погоду другие ребята трусили. А я выходил даже в шторм, на пятнадцатифутовые валы, – он помолчал с минуту, вспоминая. – Однажды утром я увидел самую потрясающую волну из всех. Не меньше двадцати пяти футов, идеальной формы. Я встал на доску и приготовился прокатиться, и знаешь, что произошло? – Ленни примолк и взял себе сигару. Я ждал. – Она к черту вышибла из меня дух. Выгнула меня назад, намотала на доску, прожевала и выплюнула на пляж. Почти убила. Пять треснутых позвонков, два сломанных ребра и вот это, – взял правой рукой свою левую и приподнял ее за кисть. – Никакой чувствительности от локтя и ниже, – Ленни взглянул на нее и рассмеялся. – Знаешь, что? Я ж был левшой! Четыре операции – и сдался. Оперировали не только руку – а с ней сразу никакой надежды не осталось, – но и спину. Сказали, что позвонки были похожи на горсть выбитых зубов. У меня стреляющие боли в левой ноге с тех пор – каждый день. Даже теперь, если сижу дольше двадцати минут подряд, все тело чувствует себя так, будто его лупили бейсбольной битой. Но ты знаешь, что хуже всего?
– Что?
– Пришлось бросить серфинг, – Ленни хохотнул. – Не один месяц я мотался по больницам и задавал себе один и тот же вопрос: за что? За что мне все это? – он прекратил сновать по комнате и уселся в кресло. – Что ж, похоже, все об это голову ломают: я – о своем несчастном случае, ты – о своем голосе. Но в этом как раз и дело – все ломают голову. Может, стоит спрашивать «за что нам все это?». И ответ прост – такова жизнь. В ней полно невзгод, страданий и всевозможных потерь, пока в конце концов не потеряешь все.
– Ты… пытаешься… меня взбодрить?
– Зачем мне это? Я очень постарался разогнать единорогов и высушить радуги, чтобы ты мог встретиться лицом к лицу с собственными демонами и увидеть жизнь такой, какая она есть: сумма потерь, деленная на извлеченные уроки. Ты будешь и дальше страдать, пока не выучишь урок. Твое будущее утекло сквозь пальцы, прошлое – позади, и ничего-то не осталось у тебя, кроме этого самого мига, который вот здесь и прямо сейчас.
– Где?
В ответ Ленни встал из кресла и прошелся по дому, здоровой рукой рисуя круги в воздухе.
– Сдается мне, ты в самой середине истории. Твоей истории.
Я покачал головой, Ленни в ответ пожал плечами.
– По-моему, вполне история. Вдумайся. Есть все составляющие. Главный герой – ты – теряет нечто очень ценное – голос, и начинаются приключения. По сути, есть всего одно отличие этой истории от той, которую ты бы рассказал.
– Какое?
– Ты не можешь ее рассказать! – он просиял. – Потому что говорить не можешь! Тебе понятно, где ты в таком случае оказываешься?
– В полной жопе?
Ленни покачал головой.
– Может, хватит жалеть-то себя уже? – он затушил сигару. – Все, что тебе видно – чувства твои, потерянность, – это все история, вид изнутри.
– Но я сам – всамделишный! – настаивал я.
– Как раз поэтому история и стóящая. Все сходится. Ты вышел за эту самую дверь двадцать лет назад и отправился искать приключений. И вот – вернулся, в самый разгар большого приключения. Чего тебе еще надо?
– Выйти из игры.
– Так не годится. Что произошло бы, если б герой попытался удрать из истории, которую ты рассказываешь?
Я задумался. Не знаю. Никто из героев моих историй удрать не пытался.
– Они ведь не рыпались, верно? – спросил Ленни. – Потому что, уйди они, это испортило бы всю историю. Вот в чем твоя беда. Ты уже несколько месяцев всеми четырьмя лапами пытаешься вырваться из собственной истории, – Ленни покачал головой. – Но все устроено не так. Ты – в истории. Я – в истории. Всякий внутри истории, нравится это или нет.
С этими словами мне на ум пришел эпизод из «Звездного пути», где капитан Кёрк и его команда попали на неведомую планету, населенную существами из самых дальних уголков их воображения, и с этими существами астронавты сражались не на жизнь а на смерть, прежде чем осознали, что вся эта планета есть не что иное как межгалактический парк развлечений, для их же удовольствия.
– Скажи-ка, в чьей истории, по-твоему, ты сам находишься?
Я подумал о тех нескольких месяцах, что прожил без голоса.
– У Иова? – пошутил я.
У Ленни загорелись глаза.
– Не исключено.
– Ужасная история. Жестокая.
– Нет, у Иова отличная история. Ты в курсе, что это единственное место во всей Библии, где Бог смеется? Но, кроме того, «Иов» – одно из всего двух слов в английском языке, у которого меняется произношение в зависимости от того, с какой буквы слово написано – с прописной или строчной, – собрался я было спросить, какое же второе слово, но Ленни уже двинулся дальше: – И у этой истории замечательная мораль. Что-то такое: «Есть в жизни всякое, что нам попросту невдомек». Ислам учит тому же самому. В Коране Бог отводит Моисея к Красному морю, где тот видит, как крошка-воробей ныряет за глотком воды. «Видишь, сколько в море воды? – спрашивает Бог. – Столько же и знания. Сколько выпивает воробей? Столько же и люди знают».
Я уехал от Ленни и по дороге вспомнил фильм, который нам крутили на вузовском курсе по физиологии: о человеке, которому выдали особую пару очков – в них мир казался перевернутым вверх тормашками и задом наперед. Мистер Кларксон предложил нам посмотреть это кино, чтобы показать, до чего замечательно умеет приспосабливаться человеческий ум. Ученые надевают эти очки человеку на голову, а по экрану пробегает предупреждение: «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ЭТО ДОМА!» Испытуемый носит очки день и ночь полтора месяца подряд. Поначалу все идет кувырком, человек падает, натыкается на предметы, его тошнит. А затем где-то недель через пять его мозг переворачивает картинку, и мир снова выглядит нормально. Испытуемый спокойно управляется с ежедневными делами, водит велосипед и даже автомобиль. Преображение настолько полно, что, стоит снять очки, как мир опять делается вверх тормашками, и требуется еще пять недель, чтобы мозг человека справился.
Визиты к Ленни – все равно что нацеплять такие вот очки. Послушаешь его – и все получается строго наоборот по сравнению с тем, как оно выглядит: то, что справа, – слева, верх – внизу. Все плохое, что со мной произошло, – как выясняется, хорошо. Чтобы найти ответ, нужно бросить искать, а причина, почему я ответ не нахожу, – в том, что ответ прямо у меня перед носом.
Видеть происходящее вверх ногами странно, а наблюдать его задом наперед – страшно. После встреч с Ленни я обнаруживал, что мое будущее перебралось куда-то мне за спину, а прошлое вдруг встало прямо передо мной и неотвратимо надвигается все ближе.
Добычу историй из своего прошлого я начал давно, однако те байки, что начали всплывать теперь, были из тех, что я пытался забыть. Вновь я видел отца, только на сей раз он не смеялся. Стояла жаркая ночь, не спалось. Я отправился в кухню попить воды и обнаружил отца – тот склонился над столиком из формайки, пытаясь собрать какую-то черную коробочку, напичканную электроникой и перемотанную изолентой, – то самое изобретение, над которым он работал уже несколько лет. Я наблюдал из-за двери, как отец тянется за маленьким шурупчиком, но узловатые пальцы никак не ухватят его. Отец пробовал снова и снова, и ему почти удалось поймать шурупчик, но тот ускользнул и укатился на пол. И тут папа уронил голову на руки. Я не хотел видеть его слез и, не сказав ему ни слова, вернулся в постель.
Вновь слышал я голос бабушки, отзвуки ее воплей и длинную череду ругательств на идиш, какими она забрасывала мою мать. Я старался вытолкнуть бабушкин образ из головы, но не получалось. Она возвращалась, крича все громче, такая же пугающая, какой была в моем детстве. Вспомнив совет Ленни о том, как обращаться с демонами, я встал во весь рост и заглянул в бабушкины темные глаза. Отворачиваясь, я увидел лицо моей матери, перекошенное от страха. Мгновение спустя заметил, как мамина рука тянется к слуховому аппарату и отключает его. Ужас покидал ее лицо, возникала вымученная улыбка. Самое трудное – смотреть на ту улыбку.
Насколько я помню, в фильме про того человека с очками ничего не рассказывали о том, какое впечатление он производил на свою семью. Но, уверен, родственникам приходилось нелегко. Моим уж точно легко не было, это я знаю: они понятия не имели, как обращаться со мной и с моими сменами настроения – от сумрачности до экстаза и обратно. Я и сам не соображал, как им все это объяснить, поскольку сам ничего не понимал.
Тали стала жить дальше без меня. Бросила сходить с ума о своем здоровье и начала им заниматься – ела с умом, занялась спортом. Она отлично себя чувствовала и отлично выглядела, но была словно где-то далеко: мы двигались параллельными рельсами, она – на милю впереди меня. Ночами эта дистанция становилась ощутимее. Обычно, даже в разгар ссоры, мы всегда спали, как ложки, теперь же спали, как ножи, каждый в собственном мире. И мне не шли на ум – тем более на язык – такие слова, что могли бы восстановить между нами мост.
Казалось, вся моя жизнь превратилась в череду волшебных слов, которые не удавалось произнести. Среди них застряло и слово, как-то раз упомянутое Ленни, – слово-разгадка, добыть его можно, не думая о нем. Я же думал о нем постоянно.
– Расслабься, – говаривал Ленни в ответ на мое раздражение, – со временем мутные воды отстоятся. И тогда глянешь в них и увидишь – знаешь, что? – я молчал. – Знаки и чудеса, мой друг. Знаки и чудеса.
Как раз это и произошло пару дней спустя, когда Тали была на работе, дети – в школе. Дождь прекратился, и кругом не раздавалось ни звука. Я сидел тихо и неподвижно у себя в кабинете, стараясь не думать об ответе на тот самый вопрос, гоня любую мысль из головы прочь, пытаясь не думать ни о чем вообще, обращая ум в озеро простого покоя. Дай мне знак.
Вот тут-то и заработал отбойный молоток. Сперва это было похоже на гром, я ощущал, как грохот идет по полу, видел, как раскачиваются на стене фотографии. На миг все умолкло, а затем началось сызнова.
За несколько месяцев до этого некая пара приобрела дом по диагонали от нас – некогда прекрасное старое здание, сделавшееся пристанищем для чуть ли не тридцати кошек. Та пара строила планы по ремонту и восстановлению дома и ждала, когда прекратятся дожди, чтобы начать работу.
Шум стал постоянным источником мучений, непредсказуемо затихал и возобновлялся днями напролет. Стоило подумать, что грохот прекратился, и я начинал шептать что-то Тали или детям – он, как нарочно, начинался опять. Иногда вместо отбойного молотка вступали циркулярная пила или перфоратор.
Не желая сдаваться, я пытался перекричать все это:
– Микейла… т-д-д-д! Ты не могла бы… т-д-д-д!
– Что? – переспрашивала Микейла. – Я не слышу. Говори громче!
Я надрывался две недели. И вот тогда-то все случилось: я попросил Илайджу за завтраком передать мне хлопья. Бросил даже пытаться переорать шум. Да что там – весь остаток дня не пробовал заговаривать вообще. И даже вечером, когда все ушли спать, я остался один и строительного шума не было, – все равно не пытался говорить. Я сдался.
И лишь тогда осознал, что каждый час бодрствования, каждый день все семь месяцев после операции безуспешно пытался выдавить из своего горла звуки. Хотя умом понимал, что не могу говорить, тело отказывалось в это верить – вплоть до того самого мига.
Внезапно я ощутил себя свободным, легким. Как в том эксперименте, который проделывал в детстве. Вставал в дверном проеме, руки в стороны, и полминуты изо всех сил упирался ладонями в дверной косяк. Затем шагал назад, расслаблялся, и руки взлетали вверх, словно привязанные к воздушным шарикам.
Так же ощущалась и тишина. Я вспомнил дзэнскую историю о двух монахах. Бредут они под дождем и вдруг видят на берегу ручья облаченную в изящное кимоно юную красавицу. Перебраться на другой берег ей не удается, и тогда тот монах, что помоложе, берет девушку на руки и переносит через ручей. Монахи продолжают свой путь, но старший в ярости. Молчит до самых ворот монастыря. И тут поворачивается к молодому и кричит:
– Как ты мог? Ты же знаешь, что мы приняли обет не прикасаться к женщине!
Молодой монах улыбается.
– Та женщина в кимоно? Я оставил ее у ручья несколько часов назад. Зачем ты все еще несешь ее?
Мой голос стал бесполезной частью тела, которую я все таскал и таскал за собой – и даже забыл, что она при мне. В тот вечер я ее оставил.
В тот миг что-то произошло. Я стал слышать голоса других людей совершенно по-новому. Всю свою жизнь я любил звуки человеческого голоса. Но с того самого утра в больнице каждый голос достигал моего уха через призму зависти: говорящий располагал чем-то, чего у меня не было и чего я желал больше всего на свете. Теперь, когда эта призма исчезла, у меня снова получалось наслаждаться букетом голосов вокруг себя. Голос Микейлы, детский, тихий и такой милый, и настойчивая серьезность в голосе у Илайджи. Я услышал мелодию, звучавшую в голосе Тали, даже когда она не пела. В каждом голосе рядом со мной обнаружилось что-то примечательное – от Рона-почтальона с его шероховатой оттяжечкой жителя Среднего Запада до теплоты и открытости, сквозивших в каждом слове Джинджер, воспитательницы Микейлы.
Все это я вдруг научился ценить, наблюдая со стороны, как смотрят балет, никогда не помышляя стать танцором, или баскетбольный матч, не собираясь пробовать себя в спорте. Для этих людей разговаривать было так же естественно, как когда-то и для меня. Но эта дверь закрылась, и, как замечала моя матушка, открылось окно. Это было окно в мир тишины, в мир, которым я так долго пренебрегал.
Я вспомнил давнишнюю статью о звукоинженере, который путешествовал по миру с магнитофоном, отыскивая самые тихие уголки, чтобы запечатлеть полную тишину. Тогда мне это показалось бессмысленной задачей: даже если бы эксперимент был абсолютно успешен, этот чудак приехал бы домой с пустой кассетой. Теперь эта затея казалась мне очень глубокой. Красота эксперимента заключается в том, что настоящей тишины – абсолютной, совершенной тишины – не существует. Нам удается лишь проникать под все новые слои шума и обнаруживать под ними все более тихие звуки. Постепенно, говорилось в статье, нам удастся услышать тишайшее – как струится подземный ручей, как жук точит листок или как крошечная рыбка выплевывает капельку воды, чтобы сбить пролетающее насекомое.
Как тот звукоинженер, я искал тишину всюду. Почти все вечера я проводил за письмом, а днем отправлялся искать тишайшие места, катаясь на велосипеде по задворкам Беркли. Найдя такое убежище, я усаживался с закрытыми глазами и пытался разобрать то тишайшее, что было мне слышно.
Назад: Свидание
Дальше: Хелмская мудрость

