Da Capo VI
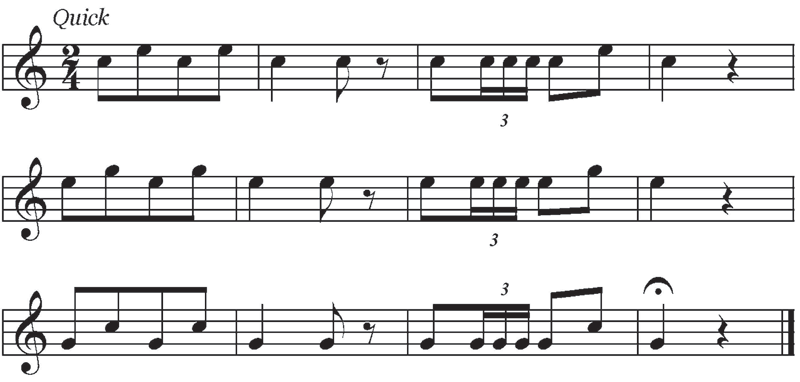
«Лагерь Фанстон, Канзас.Дорогие близнецы и семья!Хочу вас удивить. Встречайте теперь капрала Теда Бронсона, исполняющего обязанности сержанта, смиреннейшего из мастеров муштры во всей национальной армии Соединенных Штатов. Нет, у меня не зашли шарики за ролики. Просто я вовремя вспомнил основной принцип игры в прятки. Помните? Иглу легче всего спрятать в коробке с иголками. Значит, чтобы избежать ужасов войны, проще всего вступить в армию. Даю пояснения, ведь никто из вас никогда не видал войны или хотя бы армии.По глупости я намеревался спасаться от войны в Южной Америке. Но там я ни за что не сошел бы за местного жителя, как бы складно я ни научился разговаривать по-испански. Кроме того, там полным-полно германских шпионов, которые, естественно, сочли бы меня американским шпионом, а потому вполне могли бы устроить какую-нибудь пакость — и каюк старичине-молодчине, благослови, Господь, его невинную душу. К тому же у тамошних девиц дивные жгучие глаза, подозрительные дуэньи… и отцы, обожающие без всякой причины палить в гринго. Нездоровая привычка. Нездоровое место.Но если бы я остался в Соединенных Штатах и пытался уклониться от армии… Один неосторожный шаг — и я оказался бы за холодными каменными стенами, на хлебе и воде. Да еще меня заставляли бы дробить камни. Непривлекательная перспектива.Но в военное время армии отдают все лучшее — а на легкую угрозу здоровью, происходящую от стрельбы, можно не обращать внимания. Ее можно избежать.Как? Эра тотальной войны еще не наступила, и существует множество мест, где трус (то есть я) может избежать любых оскорблений действием со стороны незнакомцев. В эту эпоху подставляется под выстрелы лишь малая часть армии. (А получает пулю еще меньшая часть, но я намерен избежать и этого риска.) В настоящем „здесь и сейчас“ военные действия осуществляются в определенных районах, к тому же в армии столько должностей, что служить можно и не на передовой, а там, где человек в форме — всего лишь привилегированное гражданское лицо.Я попал на такую службу и, скорее всего, не покину ее до конца войны. Нужно же кому-нибудь учить этих отважных и бестолковых сельских парней, делать из них нечто похожее на солдат. А умелый инструктор в армии ценится, и офицеры не желают с ним расставаться.Итак, исполнившись воинского пыла, я узнал, что мне не придется воевать. Я буду учить маршировать, стрелять, обращаться с оружием, со штыком, вести поединок без оружия, обучать их полевой гигиене, всему что угодно. Мои „удивительные“ познания в военных вопросах вызывают здесь удивление, поскольку записывался я рекрутом с „нулевым военным опытом“. (Не мог же я признаться, что Дедуля научил меня стрелять через пять лет после окончания этой войны, а потом — еще через пять лет — я учился обращаться с подобным оружием, будучи кадетом, и что все последующие столетия мне время от времени приходилось этим заниматься.)Здесь уже поговаривают, что я служил солдатом во французском Иностранном легионе — этот корпус одного из наших союзников состоит из головорезов и воров, беглых преступников, знаменитых своими воинскими умениями, — затем, видимо, дезертировал, записался в американскую армию под чужим именем. Мне приходится возражать; я хмурюсь, когда кто-нибудь проявляет излишнюю прыть, и лишь изредка „по ошибке“ салютую на французский манер ладонью вперед, но немедленно поправляюсь. И все уверены, что я оттуда. Мои познания во французском во многом обусловили мой перевод из исполняющего обязанности капрала в капралы и представление в сержанты. В лагере находятся французские и британские офицеры и сержанты, обучающие нас окопной войне. Все французы разговаривают по-английски, но их английский канзасские и миссурийские плуг-жокеи понимают с трудом. Тут в качестве посредника в дело вступает ленивый Лазарус. Так что из французского сержанта и меня получается один хороший инструктор.Я-то был бы хорош и без этого француза — если б мог учить всему, что знаю. Но я учу рекрутов тому, что положено, и позволяю себе немного вольности лишь при обучении рукопашному бою. Потому что методы рукопашного боя остаются неизменными во все времена, меняется лишь название, но главное правило постоянно: начни драку первым, дерись быстро и самым бесчестным способом.Возьмем штыковой бой. Штык — это нож, прикрепленный к стволу ружья, обе части образуют подобие римского пилума, использовавшегося две тысячи лет назад, но на самом деле эта конструкция еще старше. Казалось, следовало ожидать, что искусство штыкового боя в 1917 году достигнет совершенства. Но это не так. Согласно здешним уставам, штык предназначен для защиты, а не нападения. А ведь быстрый штыковой контрвыпад может изумить противника, никогда не слышавшего о подобном. Существуют и другие приемы… В XXVI столетии по григорианскому календарю была — или будет — война, в которой владение штыком станет искусством… (Против своего желания я принял в ней участие, пока не сумел сделать ноги.) Как-то утром на плацу я на пари доказал, что способен справиться сначала с сержантом-инструктором регулярной армии США, потом с британцем, а потом с французом.Получил ли я разрешение преподавать то, что продемонстрировал? Нет. А точнее: „нет, нет и нет, черт побери!“ Умение мое не соответствует уставу, и излишняя прыть едва не стоила мне должности. Поэтому я вернулся к преподаванию в соответствии с догмами „священных“ уставов и наставлений.Впрочем, книжица, которой пользуются в Платтсбурге, где служит мой отец и ваш предок, вовсе не дурна. В ней делается упор на агрессивность в штыковом бою, и это неплохо, ибо штык — жуткое оружие в руках человека, который готов пользоваться им и убивать. Но мне не удастся научить своих ребят другим приемам. И мне не хотелось бы видеть этих розовощеких и храбрых мальчишек в бою с каким-нибудь наемником из XXVI столетия, у которого одна цель — остаться в живых даже ценой жизни противника.Эти мальчишки способны выиграть войну, более того — они выиграют ее и уже сделали это, если смотреть из того времени, в котором вы находитесь. Но многие из них погибнут. И смерть их будет бессмысленной.Я люблю этих ребят. Все они молоды, ретивы и рвутся в бой, желая доказать, что один американец стоит шести немцев. (Неверно. Хорошо, если один американец одолеет одного немца. Ведь немцы — опытные вояки, и об их благородстве в бою говорить не приходится. И этим зеленым юнцам придется биться и умирать, пока немцы не сдадутся.)А они так молоды! Лаз и Лор, большинство ребят моложе вас, а некоторые из них даже гораздо моложе. Не знаю, многие ли прибавили себе лет, но иные даже еще не бреются. Иногда по ночам слышны рыдания: кто-то плачет, тоскуя по маме. Но на следующий день он проявит прежнее рвение и усердие. О дезертирах нечего говорить; мальчишки просто рвутся в бой.Я пытаюсь забыть, что эта война бесполезна.Это вопрос перспективы. Однажды, когда Минерва еще исполняла обязанности компьютера, она доказала мне, что все „здесь и сейчас“ эквивалентны, а настоящим можно считать лишь то „здесь и сейчас“, в котором ты пребываешь. Мое настоящее „здесь и сейчас“ (где я бы и был по сию пору, если бы не дикие гуси) — дома на Терциусе, а несчастные щенята этого „здесь и сейчас“ давно погибли, и черви пожрали их; и эта война и ее жуткий исход сделались древней историей, не имеющей ко мне никакого отношения.Но я тем не менее здесь, и все происходит именно сейчас, мне трудно усомниться в этом.Мне теперь трудно писать и отправлять письма. Джастин, ты просил подробных отчетов прямо с места событий, чтобы знать обо всем, что я делаю, и добавить тем самым новые сказки к тому набору басен, который ты издаешь. Фоторедукция и гравировка теперь мне недоступны. Иногда мне позволяют ненадолго покидать лагерь, но дня хватает лишь для того, чтобы добраться до ближайшего крупного города Топики (это около ста шестидесяти километров туда и обратно), но увольнение всегда дают по воскресеньям, когда никто не работает, поэтому у меня не было возможности прибегнуть к услугам лаборатории в Топике, даже если она оснащена необходимым мне оборудованием, в чем я глубоко сомневаюсь. Я мог бы оставлять письма в абонементном ящике, поскольку не важно, когда они попадут в отложенную почту, — но по воскресеньям банки тоже закрыты. Поэтому я могу позволить себе лишь рукописное письмо, но не слишком длинное и объемистое, поскольку заполучить конверт тоже трудно; остается лишь надеяться, что бумага и чернила не слишком окислятся за столько столетий.Я начал писать дневник, где избегаю упоминаний о Терциусе и всем прочем (иначе подобная рукопись могла бы обеспечить мне место в сумасшедшем доме), но он представляет собой лишь перечень событий. Закончив, я переправлю его Дедуле Айре Джонсону, который сохранит тетрадку, а когда война закончится и я обрету необходимый досуг и уединение, напишу к нему нечто вроде развернутого комментария, который ты требуешь, а также смогу миниатюризировать и стабилизировать длинное послание. Странные и нелепые проблемы преследуют историографа, предпринявшего путешествие во времени. Один лишь велтоновский мелкозернистый кубик позволил бы записать все, что я могу сказать за целых десять лет. Но я не смог бы им воспользоваться: технология еще не разработана.Кстати… Иштар, ты действительно вложила мне в брюхо записывающее устройство? Это очень мило с твоей стороны, моя дорогая, но иногда ты проявляешь излишнюю изобретательность… В животе действительно что-то есть. Меня этот предмет не беспокоит, но врач, обследовавший меня на призывном пункте, заметил его сразу. Он не стал разбираться, что к чему, но мне пришлось провести собственные исследования. Прощупав живот, я действительно обнаружил имплант. Наверное, это один из тех искусственных органов, о которых вы, специалисты по омоложению, не любите рассказывать своим „деткам“; и я подозреваю, что обнаружу там всего лишь велтоновский кубик с подсоединенным к нему „ухом“ и десятилетним энергозапасом. Размеры как раз совпадают.Что же ты не спросила меня, дорогая, прежде чем совать мне в пузо микрофон? Совершенно неверно, что на вежливую просьбу я всегда отвечаю „нет“; эту ложь распространяют Лаз и Лор. Ну уж в крайнем случае Джастин мог бы обратиться ко мне через Тамару; ей никто отказать не может. Но Джастин мне за это еще заплатит: чтобы услышать все, сказанное мной или в моем присутствии, ему придется десять лет вслушиваться в урчание моих кишок.Нет, ерунда. Афина отфильтрует всякие посторонние шумы и предоставит ему датированную и индексированную распечатку. Это несправедливо, не говоря уж о том, что нарушается мое право на уединение. Афина, разве я тебе чем-нибудь насолил? Дорогуша, заставь Джастина заплатить за эту выходку.С тех пор как меня зачислили в армию, я еще не видел никого из моей первой семьи. Но как только мне дадут достаточно длинный отпуск, съезжу в Канзас-Сити и повидаю их. Мой нынешний статус героя предоставляет мне некоторые привилегии, которыми штатский молодой холостяк располагать не может: в военное время мораль дает слабину, и я сумею провести с семьей какое-то время. Они очень добры ко мне: я получаю почти каждый день письмо, а пирог или печенье — еженедельно. Угощением приходится делиться, и это очень жаль. А письма я читаю и перечитываю.Мне хотелось бы так же просто получать письма и от моей семьи на Терциусе. Повторяю основное сообщение: встреча назначена на 2 августа 1926 года, через 10 земных лет после высадки. Последняя цифра 6, а не 9.С любовью,капрал Тед Бронсон(Старичина-молодчина)».
«Дорогой мистер Джонсон!Приветствую вас и всю вашу семью — Нэнси, Кэролл, Брайана, Джорджа, Мэри, Вуди, Дикки, кроху Этель и миссис Смит. Не могу передать, как растрогали вы меня тем, что „временно усыновили“ сиротку в семейство Смитов, тем более что и капитан Смит согласен с этим. Для меня все вы стали „моей семьей“ с той счастливой и печальной ночи, когда провожали меня на войну, нагрузив подарками, добрыми пожеланиями, а также практическими советами; и я был тогда настолько близок к слезам, насколько я никогда никому не осмеливался показать. Миссис Смит сообщила мне, что ее муж-капитан согласился „принять“ меня в семью — ну что ж, слезы вновь на моих глазах, а военный человек не должен обнаруживать подобную слабость. Капитана Смита я не навещал. Я уловил намек в вашем письме, но мне это не нужно: я прослужил уже достаточно долго, чтобы понимать, что добровольцу это не подобает. Не сомневаюсь, что и капитан не станет искать меня по той же причине; вам я не стану ничего пояснять, поскольку вы прослужили больше, чем мы с капитаном, вместе взятые. Со стороны миссис Смит это было крайне любезно — но вы можете объяснить ей, что положение не позволяет мне обращаться к капитану. И не стоило ей просить мужа пообщаться с низшим чином.Если вы не сумеете ее убедить в этом (а такое возможно, ведь армия мир особый), скажите, что лагерь Фанстон велик, а транспорта никакого, кроме своих двоих. За час не обойдешь, даже если выпрыгнешь из сапог; добавьте сюда 55 минут на разговор с капитаном, если я его отыщу. Вы знаете, что наша жизнь расписана; я посылаю вам наш распорядок дня. Покажите ей, пусть убедится, что времени у меня просто нет и я занят целый день. Но я ценю ее добрую заботу.Пожалуйста, передайте Кэролл сердечную благодарность за шоколадные пирожные. Они у нее вышли такими же вкусными, как и у ее матери, — более высокой похвалы я не знаю. Они мгновенно исчезли в пустом животе, и не только в моем, потому что мои приятели — народ весьма прожорливый. Если она хочет выйти замуж за долговязого и прожорливого канзасского парня, то у меня как раз завелся один знакомец, который готов жениться на ней только за ее пирожные.Теперь мы уже не мексиканская пожарная команда, как я писал раньше. Вместо печных труб нам выдали настоящие окопные мортиры, деревянные ружья исчезли, и даже самые зеленые новички, едва научившись поворачивать в строю налево-направо и останавливаться более или менее одновременно, получают винтовки Спрингфилда.Но учить их пользоваться винтовками приходится, как и прежде, „по книге“. Рекрутов можно в общем разделить на два типа: мальчишки, ни разу в жизни не выстрелившие из винтовки, и те, кто утверждает, что папулечка посылал их в лес подстрелить „завтрак“ и выдавал один лишь патрон. Предпочитаю первых, несмотря на то что такие парни трусливы и их еще надо перевоспитывать. Но они не заучили наизусть ошибок, и я могу научить их всему, чему меня самого учили инструкторы регулярной армии; три шеврона на моем рукаве удостоверяют мои права наставника.Но деревенский мальчишка, который уверен, что и так знает все — а иногда он и в самом деле отменно стреляет, — слушать меня не будет. И почти невозможно убедить его в том, что все следует делать не так, как он привык, а как положено в армии, и ему следует переучиться.Иногда эти всезнайки впадают в такой гнев, что готовы немедленно вступить в бой — но не с гансом, а со мной. Обычно это те мальчики, которые не успели узнать, что я здесь еще и инструктор по рукопашному бою. Парочку таких активистов мне пришлось утихомирить за отхожим местом после отбоя. Я не стал с ними боксировать: мне бы не хотелось, чтобы мой прекрасный нос расплющили кулаки молокососов. А от предложения решить вопрос по-быстрому и без правил у них либо загораются глаза, либо они предпочитают пожать мне руку и забыть обо всем. В первом случае больше двух секунд еще никто не продержался, но я стараюсь не причинять им вреда.Я обещал рассказать вам, где и когда изучал ласавату и джиу-джитсу. Но это долгая история и временами не слишком красивая, в письме такое описывать не станешь. Лучше подождите, вот-вот получу увольнительную и приеду в Канзас-Сити.Желающих сразиться со мной не находится уже в течение трех месяцев. Один из сержантов-инструкторов шепнул мне, что рекруты именуют меня „палачом“. Я не возмутился, поскольку принятые мною меры обеспечивают мир и спокойствие.В нашем лагере бывает только две разновидности погоды: либо жара и пыль, либо грязь и холод. Я слыхал, что так бывает и во Франции; томми уверяют, что ничего так не боятся на этой войне, как захлебнуться во французской грязи. Находящиеся среди нас пуалю не спорят с ними и добавляют только, что в дождь труднее стрелять.Но как бы плоха ни была погода во Франции, всякий стремится попасть туда, и вторая излюбленная тема наших разговоров вертится вокруг вопроса — когда? (Старому солдату незачем говорить о первой.) Слухи о посадке на корабли сменяют друг друга и всегда оказываются ложными.Но я начинаю удивляться. Неужели мне придется торчать здесь месяц за месяцем, пока где-то идет война? Что я скажу своим детям? Где ты был во время большой войны, папуля? В Фанстоне, Билли. А в какой части Франции это находится, папуля? Около Топики, Билли. Заткнись и ешь овсянку!Придется переменить фамилию.Надоедает, знаете ли, рассказывать очередной группе о том, как ставить оружие и держать лопату. Окопов в этой прерии мы нарыли столько, что по ним можно добраться до Луны; я знаю четыре способа рытья окопов: на французский манер, британский, американский — и так, как это делает отряд новобранцев, когда стенки рушатся. Потом они обязательно интересуются, зачем нам вообще это нужно, ведь как только мы туда попадем, генерал Першинг немедленно прекратит окопное сидение и обратит ганса в бегство.Возможно, они правы. Но я должен научить их тому, чему приказано. И буду учить, наверное, пока не поседею.Рад слышать, что вы служите в седьмом полку; я знаю, как это важно для вас. Но, пожалуйста, не унижайте свой седьмой миссурийский, именуя его домашней гвардией. Если кто-нибудь не свалит Гинденбурга, возможно, вы еще насмотритесь войны вдоволь.Но, по чести говоря, я надеюсь, что до вас не дойдет… Полагаю, капитан Смит тоже согласится с моими аргументами. Кому-то необходимо приглядывать за домом. Я имею в виду тот самый дом на бульваре Бентон. Брайан-младший еще недостаточно взрослый, чтобы возглавить семью, и, безусловно, капитан Смит беспокоился бы, не будь вас дома.Но я вполне понимаю ваши чувства. Мне говорили, что сержант-инструктор может отделаться от этой работы, лишь избавившись от нашивок. Не осудите ли вы меня, если мне придется проявить, скажем, рассеянность, чтобы вновь оказаться в капралах, а затем постараться потерять и шевроны? Полагаю, что таким образом я скорее попаду в поезд, направляющийся на восток.Последний абзац остальным членам семьи лучше не читать. Вы, достопочтенный мистер Смит, безусловно, сумеете отыскать подходящий способ. Передаю самый теплый привет вам и миссис Смит.С любовью ко всем детям,Тед Бронсон „Смит“.(С благодарностью за „усыновление“)».
— Входите!
— Капитан Смит, сержант Бронсон прибыл по вашему приказанию! — (Папа, я не узнал тебя. Впрочем, ты выглядишь так же, как раньше. Разве что помоложе.)
— Вольно, сержант. Закройте дверь и садитесь.
— Да, сэр.
Озадаченный Лазарус повиновался. Он не только не ожидал, что капитан Смит захочет его увидеть, но и старался не просить отпуск, чтобы не ездить в Канзас-Сити по двум причинам: во-первых, отец мог там оказаться на этой неделе, а во-вторых, отец мог не приехать на этот уик-энд. Лазарус не знал, какая ситуация хуже, а потому предпочитал избегать обеих. И когда за ним прикатил мотоцикл с коляской, посланный капитаном Смитом, лишь усевшись в нее, он осознал, что капитан Смит и есть капитан Брайан Смит.
— Сержант, мой тесть много рассказывал мне о вас. И моя жена тоже.
Сказать на это было нечего, поэтому Лазарус кротко молчал.
Капитан Смит продолжил:
— Сержант, не надо смущаться. Поговорим как мужчина с мужчиной. Моя семья вас, так сказать, «усыновила», и я от всей души одобряю это. Дело в том, что подобную вещь затевают и военные министерства через Красный Крест, Ассоциацию христианской молодежи и церковь; эта программа ставит своей целью, чтобы каждый человек в военной форме обязательно получал письма из дома. Пусть тебя на какое-то время «усыновит» какая-то семья. Пиши им, не забывай. И пусть они пишут солдату, поздравляют с днем рождения, шлют маленькие подарки. Что вы об этом думаете?
— Сэр, звучит неплохо. То, что сделала для меня ваша семья, капитан, превосходно сказывается на моем боевом духе.
— Рад слышать. А как бы вы организовали подобную программу? Говорите, не опасайтесь высказать собственное мнение.
(Дай мне стол, и я немедленно сделаю на нем карьеру, папа!)
— Сэр, проблема эта распадается на две — нет, на три части. Две относятся к приготовлению, одна к исполнению. Во-первых, следует таких воинов выявить, во-вторых, одновременно зарегистрировать семьи, желающие помочь им. В-третьих, необходимо их познакомить. Первую задачу могут выполнить сержанты (это им во как «понравится» — но пусть вкалывают).
Им придется проследить, чтобы ротный писарь проверял переписку по реестру роты. Процесс можно ускорить, но задерживать почту не стоит. Проверку нельзя доверить взводным; им не понравится это задание, они отнесутся к нему спустя рукава. Все следует делать там, где сортируют почту. — Лазарус подумал. — Но чтобы все заработало, пусть капитан извинит меня, командующий должен потребовать через адъютанта от каждого ротного, эскадронного и батарейного командира отчет о том, сколько писем каждый его подчиненный получил на этой неделе. — (Ах проклятое вторжение в личную жизнь и умножение писанины, в которой и так тонет армия! У тех, кто тоскует по дому, он есть, они и так получают письма. Одиночкам нужны не письма, а женщины и виски. А та кошачья моча, которую выдают за виски в этом «сухом» штате, сделала из меня любителя чая.)
Но все должно исполняться одновременно, капитан. Подобная информация должна отдельной колонкой входить в еженедельный отчет. У ротных командиров и старших сержантов начнутся головные боли, если работа будет требовать слишком много времени, — и командующий станет получать отчеты, которые по большей части будут продуктом воображения ротных писарей. Капитан прекрасно знает это и без меня.
Отец Лазаруса ухмыльнулся и стал похож на Тедди Рузвельта.
— Сержант, вы только что заставили меня отказаться от письма, которое я приготовил для генерала. Я занимаюсь планированием и обучением, никакая новая программа не увеличит бумажной работы, если это будет зависеть только от меня. Я уже вспотел, обдумывая, как свести ее к минимуму, и вы дали мне превосходный совет. Скажите, почему вы не пошли на офицерскую учебу, когда вам предложили? Впрочем, можете не говорить, если не хотите; это ваше дело.
(Папа, мне пришлось бы тебе соврать — ведь не могу же я прямо сказать тебе, что на фронте взводный может рассчитывать прожить минут двадцать, если, приняв команду над взводом, будет действовать по уставу. Война жестока!)
— Сэр, давайте представим себе это. Предположим, я соглашаюсь. Месяц уходит на утверждение. Потом три месяца в Бенинге, в Ливенуорте или там, куда пошлют. Затем снова сюда или еще куда-нибудь: получаю рекрутов. Провожу шесть месяцев с ними, и мы отправляемся за моря. Там новые учения в тылу, насколько я знаю. Все вместе составляет около года; война кончилась, а я так и не побывал на ней.
— Мм… может быть, вы и правы. Вы хотите отправиться во Францию?
— Да, сэр! — (Упаси, боже, нет!)
— В прошлое воскресенье в Канзас-Сити мой тесть сказал, что так вы и ответите. Но вы, сержант, возможно, не в курсе, что ваша нынешняя должность в этом плане тоже никаких перспектив не сулит. Причем без компенсации лычками на ваших плечах. У нас здесь учебная база, мы следим за каждым инструктором. Тех, кто не способен работать, отправляем на фронт — но за тех, кто нам нужен, держимся мертвой хваткой.
Впрочем, есть и исключения… — Отец снова улыбнулся. — Нас «попросили» — вежливый эквивалент слова «приказ» — выделить несколько лучших инструкторов для боевой подготовки в тылу наших войск во Франции, о котором вы упомянули. Я знаю вашу квалификацию и с тех пор, как мой тесть известил меня о вашем существовании, всегда следил, как о вас отзывались в еженедельных отчетах. Для человека, не служившего в армии, вы обнаружили удивительный профессионализм. Легкую личную недисциплинированность недостатком я не считаю. Абсолютно исполнительный солдат — что казарменный солдат. Est-ce que vous parlez la langue française?
— Oui, mon capitaine.
— Eh, bien! Peut-être vous avez enrôlé autrefois en la Légion Etrangère, n’est-ce pas?
— Pardon, mon capitaine? Je ne comprends pas.
— Я тоже перестану понимать, если мы произнесем еще три французских слова. Но я учусь, поскольку сам рассчитываю перебраться во Францию из этого пыльного местечка, Бронсон, забудьте про мой вопрос. Но я должен задать вам другой и требую абсолютно честного ответа. Существует ли вероятность, что французские власти заинтересуются вами? Мне не важно, чем вы занимались в прошлом, военному министерству тоже. Но мы обязаны защищать своих людей.
Лазарус чуть помедлил. (Папа недвусмысленно намекает, что считает меня дезертиром из Иностранного легиона, или же беглецом с острова Дьявола, или еще кем-то в этом роде, а потому намеревается защитить меня от французских властей.)
— Абсолютно никакой, сэр.
— Рад слышать. Тут болтали кое о чем… Папаша Джонсон ничего не смог опровергнуть или подтвердить. Кстати… Встаньте-ка на минутку. А теперь повернитесь налево, пожалуйста. Меня интересует ваше лицо. Бронсон, теперь я убежден. Я не помню дяди своей жены, но абсолютно уверен, что вы состоите в родстве с моим тестем и его теория безусловно правдоподобна. Это делает нас в известной мере родней. После того как война закончится, быть может, мы сумеем во всем этом разобраться. Но я слыхал, что мои дети зовут вас «дядей Тедом». Это вполне устраивает меня — и вас, кажется, тоже?
— Сэр, я не возражаю. В моем положении иметь семью — дело хорошее.
— Я так и думал. Еще одно (о моих словах вы забудете, сразу как только выйдете отсюда): полагаю, что шевроны ваши потребуются нам в один из самых ближайших дней. Сразу как только вам предоставят отпуск, которого вы не просили. И когда это случится, обойдитесь без всяких историй. Comprenez-vous?
— Mais oui, mon capitaine, certainement.
— Хотелось бы быть вместе с вами; папаше Джонсону это понравилось бы. Но рассчитывать я не могу. И пожалуйста, не забудьте: я вам ничего не говорил.
— Капитан, я уже забыл обо всем. — (Папаша решил, что этим оказывает мне честь!) — Благодарю вас, сэр!
— Не стоит. Вы свободны.
Назад: Da Capo V
Дальше: Da Capo VII

