IV. «И вальсы Шуберта, и хруст французской булки…»
Зима выдалась морозной, без выматывающей душу слякоти и прочих удовольствий, вроде оттепелей под Рождество и ледяных дождей. Финский залив покрылся льдом в начале декабря; по этому случаю два мичмана с монитора «Единорог» соорудили на голландский манер буер (вид санок с мачтой и косым парусом), и катали на нем желающих по просторам Кронбергс-рейда, где неутихающие ветра дочиста сдували со льда снег. Идея была подхвачена; на последнюю неделю февраля назначили гонки, и теперь умельцы-энтузиасты вовсю ладили «парусные санки» собственных оригинальных конструкций.
К Рождеству ледовая гладь Южной гавани украсилась катками. По давней традиции, экипажи кораблей устраивали собственные площадки для конькобежных упражнений, а слесаря из механических мастерских портоуправления рады были возможности заработать к жалованию лишний рублевик, выточив из подходящей железки пару коньков. Первыми заказчиками стали офицеры с эскадры, их дети, жены и пассии; доставались коньки и матросам, и горожанам, охотно принимавшим участие в этих развлечениях.
По вечерам над гаванью плыли звуки оркестров — парочки кружились по льду под звуки вальсов, мазурок и англезов. Кое-где на катках поставили газовые фонари, протянув с берега временные трубы для светильного газа; другие катки освещались чадящими масляными плошками или керосиновыми фонарями на шестах. Команды соревновались в украшении катков; в ход шли гирлянды из цветной бумаги и елового лапника, и раскрашенные акварельными красками снеговики. Всех перещеголяла команда «Кремля»: посреди своего катка они установили высоченную ель, искусно запрятав в ее ветвях десятки масляных светильников. Закончилось это так, как и следовало ожидать — однажды вечером ель весело запылала и сгорела дотла, оставив посреди катка огромное пятно сажи с лужей талой воды.

С берега к каткам вели мостки с легкими перилами, уложенные прямо на лед, по контуру стояли скамеечки. Рядом, на сколоченных из досок помостах дымили жаровни с угольями, у которых постоянно теснилась публика. Дежурящие возле жаровен матросы перекидывались шуточками с гуляками, подкладывали на решетки уголь и не позволяли развеселившимся гимназистам и студентам совать в огонь еловые ветки, выдернутые из гирлянд, чтобы потом кружиться по льду с этими импровизированными, трещащими смолой факелами.
Оборотистые финские торговцы понаставили возле катков балаганчиков и палаток из досок и парусины и бойко торговали баранками, пирожками, пряниками, чаем и глинтвейном прямо из самоваров. Там же можно было разжиться — из-под полы, разумеется! — бутылью крепчайшей финской настойки на клюкве или бруснике, а то и шкаликом белого хлебного вина. Городовые, приставленные к каткам на предмет охраны порядка, сговорчиво отворачивались от столь бесцеремонного нарушения казенной винной монополии — недаром носы у служителей закона сплошь были красные, и от каждого на версту разило спиртовым духом.
Недостатка в публике не было: мичмана и лейтенанты, гарнизонные прапорщики и поручики, студенты и молоденькие коллежские асессоры из управления градоначальника, путейские инженеры и таможенные служащие в невысоких чинах — все неспешно следовали по кругу, поддерживая под ручки своих дам. Прекрасная половина человечества была представлена в основном гостьями из России: петербургскими девицами на выданье, перебравшимися в Гельсингфорс вслед за отцами семейств, солидными кавторангами, подполковниками и чиновниками, утверждавшими в финской глуши власть Российской Империи. Захаживали и белобрысые, молочно-розовые дочки финских или шведских промышленников и торговцев. «Флотских» барышень было все же больше других — Гельсингфорс принадлежит флоту, и эту прописную истину никто не станет оспаривать…
По воскресеньям проходили соревнования конькобежцев. Сережа рискнул поучаствовать в одном из забегов, но на повороте упал и так растянул лодыжку, что потом неделю ходил, опираясь на трость. Он пристрастился к пешим прогулкам по городу; столица Великого княжества Финляндского завораживала его сходством с Петербургом; здесь многое было, словно хитрым прибором пантографом, скопировано со столицы Империи — разумеется, с соблюдением масштаба. Вокзал, фасады зданий на центральных улицах, путевой императорский дворец и резиденция генерал-губернатора, здания Морского штаба и офицерского собрания — все дышало неповторимым петербургским духом.
Из общей картины выбивались, разве что, надписи латиницей на вывесках, непривычные, без империала, вагончики конки да бесчисленные кофейни с дебелыми финками, разносящими кремовые пирожные, вазочки со взбитыми сливками и ароматный мокко — непременно с корицей и капелькой ликера.
Больше других полюбилась Сереже кофейня на углу Михайловской улицы — туда он захаживал всякий раз во время своих променадов. Здесь выпекали крошечные, изумительно вкусные булочки с корицей и румяной хрустящей корочкой. Их подавали к особому, редкостному сорту кофе, доставленному прямиком из Бразилии, в джутовых мешках с фиолетовыми клеймами португальских экспортных фирм и германского Ллойда. Сережа не очень-то разбирался в тонкостях вкуса этого напитка, но, наслушавшись рассказов пожилого шведа, владельца кофейни и бывшего боцмана торгового флота, неожиданно увлекся. Теперь он без труда различал маслянистость и сладковато-горькие нотки настоящего «Bourbon Santos», и не спутал бы его с тяжелым вкусом продукции ямайских плантаций. Старый морской волк собственноручно обжаривал зерна, не доверяя это священнодействие никому. Из уважения к морской форме, он согласился дать Сереже несколько уроков, и тот рискнул воспроизвести тонкий процесс дома — за неимением жаровни, на обычной спиртовке. Результат, как и следовало ожидать, жестоко разочаровал…
В прогулках по городу мичмана частенько сопровождала Нина. Племянница командира «Стрельца» оставила петербургские курсы, не дав, по своему обыкновению, никаких объяснений: «Ушла — и все! Надоело!» Перебравшись в Гельсингфорс, она взялась помогать супруге кавторанга вести хозяйство и принимала живейшее участие в развлечениях, затевавшихся флотской молодежью. Словом, старалась как можно меньше походить на одержимую странными идеями курсистку, которую Сережа увидел в компании студентов-вольнодумцев, в петербургском трактире.
Прошлое, однако, не замедлило напомнить о себе самым неприятным способом.
* * *
Случилось это в конце февраля. Сереже, сменившемуся со скучнейшей стояночной вахты, предстояло два дня беззаботного отдыха на берегу. День начался с того, что мичман вызвался сопровождать Нину с ее тетушкой, по модным лавкам и магазинам — вечером предстоял прием в Морском собрании в честь тезоименитства цесаревича Александра, и дамам следовало быть во всеоружии. По этому случаю город был украшен трехцветными флажками и еловыми гирляндами. Повсюду, в окнах лавчонок, в зеркальных окнах ресторанов, в магазинных витринах красовались портреты цесаревича: журнальные литографии, дагерротипы и фотоснимки, где он был запечатлен то в кругу семьи, то на отдыхе в Гатчине, то на палубе яхты. Городовые щеголяли в парадной форме; морские и армейские офицеры, согласно уставу, все были при саблях и палашах. Погода стояла праздничная, развеселая: легкий морозец, о которого розовеют щечки барышень, детишки в парках таскают на веревочках не по-русски изогнутые деревянные санки, а снег делается хрустким и искристым. Особенно яркое в бледной финской голубизне солнце обещало приятный во всех отношениях денек.
Поход по модным лавкам занял не меньше двух часов. Все трое изрядно устали и проголодались. Ирина Александровна заявила, что с нее довольно, и отправилась домой на извозчике, в сопровождении рассыльного, нагруженного пирамидой свертков и картонок. Нина идти домой не пожелала, и Сережа повел ее на Михайловскую, к старому шведу. Тот как раз получил из Стокгольма партию бразильского кофе последнего урожая, и обещал удивить завсегдатаев новыми, невиданными еще рецептами.
Стрелки часов на ратушной башенке указывали час пополудни, так что народу в кофейне было немного. Парочка расположилась за столиком возле среднего окна, между фикусом в дубовой кадке и невысоким резным барьером. За зеркальным, до пола, стеклом катили извозчичьи пролетки, скрипел снег под ногами. Немолодая, основательная, как чугунный кнехт, финка-кельнерша в накрахмаленном переднике и чепце приняла заказ и величаво удалилась. И в этот самый момент…
Сережа, сидевший в пол-оборота к залу, увидел, как внезапно изменилась в лице его спутница. Будто увидела у него за спиной нечто неожиданное и весьма неприятное, и страстно захотела уйти. Черты ее приобрели независимо-отрешенное выражение.
Мичман медленно сосчитал до пяти и обернулся, краем глаза уловив судорожное движение Нины — будто девушка хотела его остановить.
«Так. Вон оно что…»
Справа, возле окна, сидел белобрысый студент-финн, в котором Сережа сразу узнал давнего попутчика из Петербурга. Кажется, сынок владельца сыроварен? Мичман будто наяву услышал слова, произнесенные с характерным тягучим акцентом:
«Ма-ало ва-ам, русски-имм, свойе-ей зе-емли, еще и дру-угих житть учитте-е!»
Широкое лицо с очень светлой кожей, пористое, будто головка эстонского, мягкого, похожего на творог, сыра, усеивали редкие крупные веснушки. А в прошлый раз и не заметил… Веснушки, и особенно длинные рыжие ресницы, придавали отпрыску сыровара какой-то коровий вид. Одет он был в сюртук из английской шерсти, из-под которого виднелся жилет в мелкую шотландскую клетку. Это столь комично сочеталось с коровьей физиономией, что Сережа с трудом сдержал улыбку.
Рядом с финном устроился щуплый господин в желто-зеленом мундире Училища Правоведения; пресловутая пыжиковая шапка, из тех, что наградили правоведам их прозвищем, лежала на краю столика. Тут же стояла, прислоненная к подлокотнику трость с костяным набалдашником в виде шара.
Сережа вздрогнул.
Это был тот самый тщедушный правовед, что заподозрил в Сереже топтуна — это было летом, в студенческом трактирчике в ротах Измайловского полка, где он впервые увидел Нину. Молодой человек ощутил накатывающую, против его воли, волну раздражения.
«Чижик-пыжик» тоже его узнал. На лице его мелькнула растерянность, почти сразу сменившаяся застывшей гримасой высокомерного презрения. Сережа скосил взгляд на Нину — девушка сидела, неестественно выпрямившись, и с вызовом смотрела на старого знакомого.
Правовед встал, взял трость, картинно, крутанул ее в пальцах.
— Как я погляжу, теперь филеры в чинах не очень-то быстро растут? Что, начальство не ценит, или должного усердия не проявляете?
И притронулся набалдашником к своему плечу. Сережа вспыхнул от гнева — мерзавец недвусмысленно намекал на его погоны.
Правовед дернул уголком рта — это, вероятно, должно было означать язвительную ухмылку, — и перенес внимание на девушку.
— А вы, мадмуазель… э-э-э… Огаркова, если мне память не изменяет? Нина Георгиевна? Вы, я слышал, бросили курсы и решили переменить род занятий? Берете, значит, пример со своего… э-э-э… кавалера? Ну и как, делаете успехи?
Нина охнула, прикрыв лицо руками. «Чижик-пыжик» снова изобразил ухмылку, вздернул подбородок и знакомой журавлиной походкой направился к выходу. Трость он нес под мышкой, подобно тому, как носят стеки британские офицеры. И это почему-то особенно взбесило Сережу.
«Англоман, чтоб тебя… погоди, сейчас потолкуем за политику!»
Отпрыск сыровара, не понявший ровным счетом ничего, буркнул что-то неразборчивое по-фински, бросил на столик смятую ассигнацию и, подхватив со стола шапку приятеля, кинулся к выходу.
Сережа встал и направился за ними. Нина осталась сидеть, не отрывая ладоней от лица; плечи ее сгорбились и подрагивали. Сережа толкнул стеклянную дверь и оказался на улице.
Те двое успели отойти от кофейни шагов на двадцать, и мичман с удовлетворением заметил, что правовед нервно оглядывается и прибавляет шаг.
«Боишься, мерзавец? Правильно, бойся…»
Он нагнал их через полквартала. Правовед неожиданно, по-заячьи прянул вбок и скрылся в низкой подворотне, замешкавшийся, было, финн последовал за ним. Сережа наддал — двор вполне мог оказаться проходным, и тогда ищи эту парочку по всему городу…
Что он будет делать, когда нагонит беглецов, мичман не представлял.
Видимо, «чижик-пыжик» тоже надеялся уйти от неожиданной погони дворами. Когда Сережа миновал низкий, пропахший кошками, тоннель подворотни, первое что он увидел — это стоящего посреди узкого колодца двора правоведа и жмущегося к обшарпанной стене финна. Второй выход со двора отсутствовал; унылый пейзаж украшала лишь фигура дворника в необъятном тулупе, фартуке и с латунной бляхой на груди. Дворник нерешительно мялся на месте в обнимку с широченной деревянной лопатой.
«Вот этой самой лопатой… — мстительно представил Сережа. — по наглой нигилистической харе… плашмя, чтоб юшка брызнула…»
Вместо этого он шагнул к правоведу. Тот вскинул в обеих руках трость, в попытке отгородиться от преследователя, как шлагбаумом, но Сережа легко отбил ее в сторону и с размаху залепил по тщедушной физиономии пощечину.
— Вы мерзавец, сударь! Если пожелаете сатисфа…
«Чижик-пыжик» и не думал отгораживаться! Отлетел в сторону, шафт, синевой сверкнула сталь. Мичман едва успел отпрянуть — недаром в роте он был в числе первых по фехтованию и один раз даже взял кубок на корпусных состязаниях. Сейчас этот навык, казалось, бесполезный для морского офицера, спас ему жизнь.
Правовед вовсе не собирался праздновать труса — он надвигался на мичмана, по-крабьи, широко расставив ноги и руки. Мелькнула мысль — такой способен и напугать… В правой руке извлеченный из трости клинок, то ли короткая шпага, то ли стилет-переросток, чуть меньше аршина длиной.
«Драться, значит, хочешь? — Сережа усмехнулся, извлекая из ножен палаш. — Будет тебе драка….»
Правовед замер, на лице его проступил испуг. Этого он явно не ожидал.
«Думал, я дам себя заколоть, как борова?»
— Что ж это деется, господа хорошие! — заблажил дворник. — Вот я полицию позову!
Боковым зрением Сережа увидел, что отпрыск сыровара пытается слиться со стеной. Это ему не очень-то удалось, и тогда финн бочком, скребя по известке спиной в дорогом пальто, стал отступать к подворотне. Он явно не собирался вмешиваться.
Сережа поднял оружие в терцию, и, не удержавшись, коротко отсалютовал.
Клинки чуть соприкоснулись; на дне дворового колодца звяканье стали раскатилось набатом.
— Немедленно прекратите этот балаган, господа! Тоже мне, бурши! Вообразили, что здесь Гейдельберг?
«Нина. И когда только успела… вышла из кофейни сразу вслед за ними? Ну да, иначе как бы она нашла нужную подворотню?»
Правовед враз оплыл, словно восковая фигурка, выставленная на освещенный летним солнцем подоконник. Отступил назад, безвольно выронил шпажку на грязный снег. Руки мелко трясутся, на дне водянисто-серых глаз плещется темный страх.
На Сережин локоть легла узкая ладонь. Оказывается, он по-прежнему стоит в терции, и кончик палаша нацелен в гортань «чижика-пыжика».
— Не стоит он того, Сергей Ильич… — тихо произнесла девушка. — Пойдемте, пусть его…
За спиной дроботом раскатился стук башмаков — похожий на буренку финн улепетнул в подворотню. Его спутник по-прежнему неподвижен, только плечи крупно трясутся. Он больше не опасен, скорее, противен, и Сережа поймал себя на том, что не испытывает к нему и тени былой ненависти.
Сережа бросил саблю в ножны. Наклонился, подобрал шпажку (дворник заполошно отпрянул, заподозрив дурное; правовед лишь попятился). Поставил клинок к стене, под углом — рукоять упиралась в землю, жало — в облезлую побелку. Выпрямился, примерился, двинул каблуком. Шпажка со звоном переломилась.
«Будто гражданская казнь, лишение дворянства. Только там шпагу ломают над головой…»
Правовед издал горловой звук — не то стон, не то скулеж.
«Все. Нет больше «чижика пыжика». Был — и нет; остался лишь обмылок человека, сломленный и жалкий.»
И, подхватив Нину под локоть, пошел прочь со двора. Правовед проводил их невидящим взглядом, упал на колени и тонко, взахлеб зарыдал.
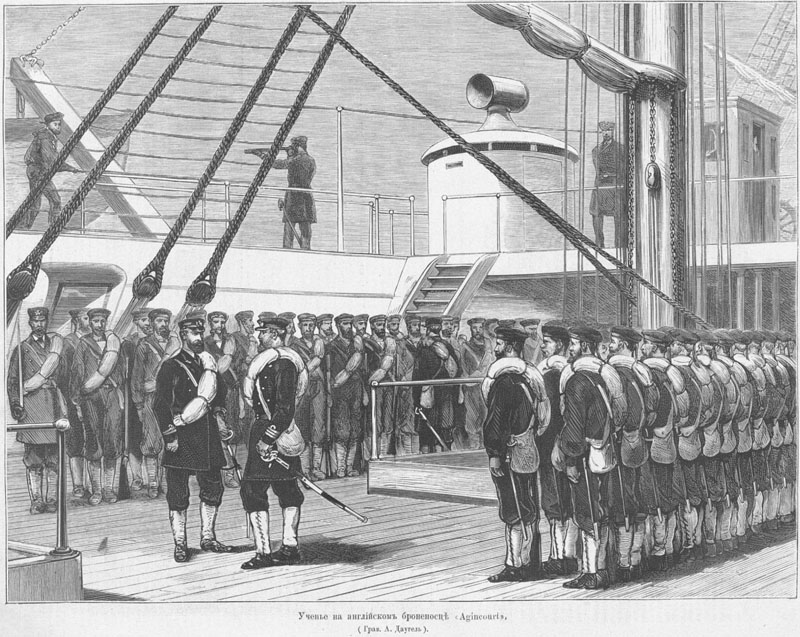
Назад: III.Одиссея барона Греве
Дальше: V. «Тучи над городом встали…»

