Книга: Дневник кислородного вора. Как я причинял женщинам боль
Назад: 2. Я – абсолютный параноик
Дальше: Сноски
3. Что я ощущал – любовь или одержимость? не знаю до сих пор
Она опоздала примерно на полчаса, но выглядела офигенно здорово. Черный свитер с V-образным вырезом, черные брючки, черные туфли. Очень по-прадовски. Длинные орехового цвета волосы трепетали за спиной, когда она вошла в двери. Она выглядела знакомо, словно я уже знал ее прежде. Точно сестра, которую я когда-то потерял.
Такая чистая, юная и в то же время взрослая. С того момента, как она переступила порог, самой большой трудностью было скрыть от нее, как сильно она на меня действует. Она подошла ко мне с намерением, как мне показалось, наклониться к моему левому плечу – мне предстояло потом узнать, что это был обязательный нью-йоркский «чмок в щечку». В Сент-Лакруа о таком и не слыхивали.
Эти глаза!
Это прозвучит ужасно, но мне плевать. Я давно миновал стадию стыда.
Невозможно ранить мужчину шпилькой, когда у него уже торчит копье в груди. Клянусь вам, она выглядела точь-в-точь как изображение Девы Марии в домах ирландцев-католиков. Я не шучу. Дева, мать ее, Мария.
– Выглядишь великолепно, – сказал я, направляясь к метрдотелю.
– Спасибо, ты тоже.
Это была ее первая ложь. Мы вошли в зал. Сплошь коричневая кожа и кафель чайного цвета. Был вечер пятницы. Утром следующего дня я должен был лететь сами-знаете-куда. Народу было полно, так что отдельную кабинку мы не получили. Зато получили вполне симпатичный столик. Она была не дура. Это стало ясно очень быстро.
Это была не какая-то там соска двадцати двух, двадцати трех или даже двадцати четырех лет. Речь у нее была не под стать облику. Это положило меня на обе лопатки. Я рассчитывал, что весь вечер придется провести, отмахиваясь от гнусных комплиментов, и приготовился возненавидеть ее за отсутствие тонкости. Вместо этого в результате я пинал за то же самое себя. И был уже поздняк метаться. Я не мог внезапно очнуться и сказать: «Ой, я и не представлял, что ты умная. Я думал, что ты – глупый ребенок, у которого молоко на губах не обсохло, не стоящий моей лучшей игры».
Должно быть, она увидела все, что нужно было увидеть, в первые пятнадцать минут моей невероятно эгоцентричной напыщенной речи. Медленно, почти участливо она дала мне понять, насколько сильно я себя выдал. Она уже побывала на выставках, о которых я только начинал читать. Фильмы, о которых я только слышал, уже стали для нее воспоминанием. И я даже не догадывался, что неправильно произношу фамилии иностранных художников, пока их не произнесла она.
Однако ее превосходство было милостивым, даже сочувственным. Вот и говорите о позорных недоразумениях. Разумеется, я с тех пор успел приписать каждый маленький нюанс беседы того вечера ее дьявольским манипуляторским навыкам, но правда заключается в том, что, когда меня кто-то затмевает, я прячу гнев, возводя этого человека на пьедестал. Это позволяет казаться великодушным, чтобы, когда захочется вонзить нож, мне уже доверяли. Да, иногда я и сам себя пугаю.
Как бы там ни было, далее она рассказала мне, что родом из Киллини, что в графстве Дублин. Гораздо позднее я узнал, что это чрезвычайно богатый район. И что ее брат работает в Лондоне, а сестра замужем во Флориде, а она сама живет в Нью-Йорке больше года. Она работала помощником фотографа на фрилансе, потому что это позволяло ей посвящать больше времени собственной работе между периодами занятости. Простите меня, но я всегда переводил эти слова так: не могу устроиться на полноценную работу.
Все время, пока она говорила, я абсолютно и необратимо влюблялся. Эти длинные кисти рук, прямой взгляд, резкие движения головой, откидывающие назад мягко вьющиеся волосы, чистая кожа шеи, плавные холмики маленьких грудей. Стоп.
Когда на нее все же производило впечатление что-то из сказанного мной (теперь я понимал, что придется, так сказать, смахнуть пыль со своего фарфора), казалось, что она хвалит меня, как хвалят маленького мальчика. О, правда, черт, это же замечательно! Или: Должно быть, они о тебе очень высокого мнения. И: Мне бы твои проблемы. По этим замечаниям я понял, что, должно быть, вел себя так, будто пытался произвести впечатление. Я чувствовал, что попался в эту ловушку. Мне хотелось начать весь этот вечер заново, с чистого листа.
И я не мог не думать, что ей скучно, но она играет роль.
Во время ужина она пила бакарди с колой. Большую порцию. Я ел свиные отбивные. Я до сих пор храню тот счет. Правда! Мне оплатили его в счет командировочных, но я его сохранил. Видите ли, тот вечер изменил мою жизнь. Если бы не тот вечер, я не сидел бы здесь, в Ист-Виллидж, в Нью-Йорке, и не кропал эту долбаную писанину. Она сказала, что мне понравится Ист-Виллидж. Она оказалась права.
Но к делу. Я влюбился в нее по уши. А как я мог не влюбиться? Мой покойный папа дарит мне подарок, а я скажу «нет»? Нет! Мы непринужденно болтали о рекламном деле, и я изо всех сил старался ослепить ее. Она была сдержанной, но манерной, очень манерной. Старая школа. Мне в этом до нее было как до Луны. Она даже налила в мой бокал минеральной воды и резко крутанула бутылку, как делают с шампанским.
Я прям кончил.
Она была очень внимательна. В этом все дело. Она знала, как надо обращаться с мужчинами. Она заставляла тебя почувствовать, что быть мужчиной – это хорошо. Быть собой. Это, как мне кажется, самое разрушительное оружие из всех, имеющихся в арсенале женщины. Если ты умеешь поощрить мужчину быть собой, выдать тебе свой характер, свои особенности, то ты знаешь, как его направлять, а следовательно, он никогда не сможет от тебя спрятаться.
Я уже знал это.
Я сумел продержаться в рекламном бизнесе десять лет. Этот бизнес не из тех, что снискали себе славу благотворительностью. Но даже я, сам мистер Предвзятость, прошел через ее бархатные занавеси и подписал отказ от иска. Учтите, что я был готов: я не прикасался к женщине пять лет, блин!
Итак, она играла свою роль благовоспитанной ирландской аристократки, а я играл свою. Ирландского потерянного мальчика с глазами теленка. Она скользнула по полу ресторана и вывела меня обратно на Бродвей и Бликер-стрит, которые – в невежестве своем и к своему вечному стыду – я попросил показать мне, поскольку слышал, что это «круто-круто».
Она привела меня в гей-бар.
Я много лет не был ни в каком баре вообще, не говоря уже о гей-баре. У меня ушло около часа, чтобы сообразить, в чем дело. Там было много – как мне показалось – очень радостных мужчин средних лет с крашеными волосами, которые пели хором, столпившись вокруг пианино.
Они были взбудоражены. Не пьяны, просто счастливы. Херувимы. Она удалилась в туалет и оставила меня одного – на более долгое время, чем я счел необходимым. Насколько я знаю, она, должно быть, перешла через улицу, чтобы неторопливо выпить порцию, и вернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как ко мне прислоняется какой-то здоровяк с самой белозубой улыбкой из всех, что я видывал в своей жизни. Ей это понравилось. Ну, еще бы!
Мы переместились в другой бар. Чуть более людный. Мы сидели на барных табуретах, придвинутых вплотную, и она рассказывала мне с помощью своих ладоней – похоже, подхватила у американцев привычку жестикуляцией придавать форму словам, слетающим с губ, – как выиграла грин-карту в ирландскую лотерею и проработала около года в Новом Орлеане, прежде чем переехать в Нью-Йорк. Она заметно воодушевилась, рассказывая о Марди Гра и, конкретнее, о сопровождающих этот карнавал танцах. Говоря об этом опыте, она, казалось, была далеко отсюда. Это был единственный момент, когда она дала себе волю… Да, даже когда мы трахались – или следовало бы сказать, когда она меня трахала, – я помню, какой красивой она выглядела, но в этом было что-то еще, что-то нервирующее, не то чтобы настоящая ненависть, – может быть, ненависть к себе. Да. Больше похоже на ненависть к себе. Что бы это ни было, это было внутри. Ей самой пришлось с этим справляться. Мне так и не суждено было получить этот шанс. Эту привилегию.
Итак, оттуда – в кофейню, которую я и по сей день не могу отыскать. Должно быть, она была где-то за пределами Бликер-стрит. Под стульями бегали мыши. Хотя я был бы более чем счастлив на этом и остановиться, она оказалась так настойчива, что мы не стали расходиться. Казалось, она хочет еще потусоваться. И в итоге я сказал, что разговор с ней доставляет мне истинное удовольствие. Она ответила, что думает то же самое, снова помогая себе руками, на этот раз потянувшись вперед, словно говоря «возьми меня за руку». Я потянулся вперед и не успел сообразить, что происходит, как мы уже нежно целовались.
Отнюдь не элегантно.
Я стоял полусогнутый, наклонившись через столик, а вокруг наших ног бегали мыши. Но это было замечательно.
Я почувствовал, как паутинки затрепетали, потом улетели прочь в теплом порыве летнего воздуха, который, казалось, сгустился вокруг меня. Кто ее знает, что чувствовала она, но я был сражен на месте. Я вполне удовольствовался бы тем, что целовал ее губы следующие пару часов. Никаких проблем.
Вот только она искусно подняла ставки легким напряженным промельком языка. Это было изумительно. Точно запальник сработал в горелке моего члена. Вы знаете, как это звучит. Те из вас, у кого газовые водонагреватели. Пф-ф или пых-х.
И вдруг я уже смотрел на эту милую невинную девочку-подростка так, словно она была насквозь пропитанной спермой шлюхой. И мне это понравилось. Что еще важнее, понравилось и ей. На следующий день мне полагалось уехать. Но это уже был следующий день. Вероятно, я не увиделся бы с ней до Рождества, да и тогда не наверняка. Мы оба намеревались на каникулы вернуться домой, в Ирландию. Больше рассчитывать было не на что.
– Хочешь зайти ко мне в номер?
Феерическая глупость с моей стороны. Я уже втиснул около пятнадцати лет полуопытной подростковости в два часа, а теперь полусостоявшийся тридцатипятилетний бросал главную подачу в своей жизни. Она пробормотала что-то насчет «слишком быстро» или что-то вроде того. И я с благодарностью пошел на попятный. С облегчением. Так мы и шли по улице, медленно, держась за руки, высматривая такси, но не слишком усердно. Под конец она повернулась ко мне и сказала:
– Мы можем пойти в отель, но с условием: ничего серьезного не будет.
После этого мы прибавили шагу. Она остановила такси. Мы еще немного поцеловались на заднем сиденье. Каким замечательным казался Нью-Йорк сквозь поблескивающие пряди золотистых волос, падавших мне на лицо между поцелуями.
Дайте мне минуту.
Благодарю. Вскоре мы уже прибыли на угол 31-й улицы и Мэдисон, и швейцар моего отеля неторопливо двинулся к нам. Я до жути боюсь этих швейцаров, потому что знаю одного из них в Сент-Лакруа, и он только и делает, что жалуется на маленькие чаевые. Я вообще не давал им чаевых. За что? За то, что они там стоят? Итак, я и моя юная подружка проскользнули мимо улыбающегося и – как мне показалось – завистливого лица и зашагали к лифту. Я ужасно нервничал в этом гудящем зеркальном контейнере. Почему они всегда бывают зеркальными? Для меня нет ничего более пугающего, чем образ моего собственного образа, показанный с двух или трех разных ракурсов. Поэтому я уставился в пол.
Номер 901 означал девятый этаж.
Я молился о том, чтобы ключ не подвел. Я также молился, чтобы ей было больше восемнадцати. В этой стране никому не нужно, чтобы его, пусть даже в шутку, связывали с педофилией. А эта девушка выглядела очень юной. Я успокаивал себя мыслью о том, что ей по крайней мере двадцать, но все же не мог отделаться от ощущения, что полиция может вышибить дверь в любую секунду. В какой-то момент она повернулась ко мне – на этой стадии мы лежали на кровати – и невинно моргнула.
– Расскажи мне какую-нибудь историю, – проговорила она.
Должно быть, я побледнел. Ей вполне могло быть и четырнадцать. Я рассказал ей анекдот о женщине, которая привезла из Индии крысу, приняв ее за собачку. Мы целовались и ласкались, а потом я спустился по ее телу вниз.
Ну, я не собираюсь живописать все в подробностях, но должен сказать одно, ибо это правда и, судя по моему опыту, редкость. Вкус ее женственности был еще лучше, чем вкус рта. Я мог бы остаться там, внизу, на всю ночь. Без проблем.
Я поднимался только для того, чтобы убедиться, что она именно настолько красива, насколько я подозревал. Да, настолько. Так продолжалось до тех пор, пока не начало светать. Она сказала, что не должно быть ничего серьезного, ну так ничего серьезного и не было. Я был полон железной решимости не дойти с ней до самого конца.
Воспоминания о близости с Пен – телесные воспоминания – начали всплывать во мне. Помню, как смотрел на спящую Эшлинг и думал: она вернулась. Я получил Пенни назад. Я когда-то любил смотреть на спящую Пенни. Было здорово просто позволить взгляду беспрепятственно блуждать по гладкой коже. Живая дышащая картинка. Странно вновь прикасаться к обнаженному телу после столь долгого перерыва. Я был настолько поражен тем, что она не нашла меня привлекательным, что даже снял не всю одежду. Втайне я был рад, что мы ограничились петтингом, поскольку это означало, что мне не нужно заморачиваться с качеством исполнения. Что, если бы я кончил слишком быстро или не смог заставить его встать? Я воспользовался максимой АА, и это помогло.
Когда сомневаешься, будь полезен.
Итак, я сосредоточился на стараниях доставить ей как можно большее удовольствие. Это Пен научила меня оральному сексу, и теперь я был этому только рад. На спящем лице Эшлинг играла нежная улыбка. Она казалась достаточно счастливой.
На следующее утро я сказал, что нам следует пойти позавтракать. Я собрал свой багаж и выписался из отеля. Вскоре мы уже сидели в другом такси на пути к какому-то кафе неподалеку от ее дома. А вскоре после этого я был в третьем такси и в начале обратного пути в Тот Город. Она не оглянулась, когда я забрался в такси. Я знаю это, поскольку я обернулся.
Там, в Сент-Лакруа, снега еще не было. Я все еще не продал этот долбаный дом. Я уже был вне себя от паранойи, думая, что моя компания наложила вето на продажу моего дома. Я думал, что они дают взятки риелтору, чтобы тот придерживал энтузиазм при осуществлении моей сделки. Мне нужно было срочно заняться большой рекламной кампанией для благотворительного фонда, организующего летние каникулы для детей, больных СПИДом. Большой проект. Большая сделка.
Каждое рекламное агентство считает нужным иметь в своем портфолио благотворительную организацию, которой оказывает всевозможные запредельные любезности. Однако за это получает и привлекательные стимулы. Один из них заключается в том, что агентство, как правило, делает отличную зрелищную работу для таких организаций, более впечатляющую, чем то, что вам позволят делать, скажем, для запеченной фасоли. А во-вторых, есть налоговые послабления и вычеты. Но важно, с какой именно благотворительностью ты связываешься. Особенно в Соединенных Штатах.
Например, группа сбора пожертвований, которая желает помогать наркоманам слезть с героина, и близко не так фотогенична, не так вызывает доверие или даже давит на жалость, как ребенок, больной СПИДом. От взрослых, больных СПИДом, никакого толку. Это вполне может быть их собственная вина. А вот детишки – это хорошо. Детишки со СПИДом – еще лучше. Прошу прощения, но это правда. Это не вина рекламных агентств. На самом деле, это ваша вина.
Вина общества.
Вы просто не желаете принимать героинового наркомана, который просит денег, чтобы избавиться от своей привычки. Может быть, вы и правы. Кто знает? Но уж как есть. Благотворительные организации так же конкурируют, как и коммерческие компании, и в наши дни им приходится мыслить теми же категориями.
В конце концов, они гонятся за одним и тем же долларом.
А еще у вас есть телекомпании. У них имеется некое конечное количество ежегодно доступного эфира для пожертвований на благотворительность. Какой из организаций дать время? У каждой телекомпании есть свои стандарты… и опасения – съехать от них в сторону. Все сводится к тому, какая реклама поможет каналам выглядеть наилучшим образом. Опять же, детишки – дело безопасное. Так что рекламное агентство поступает умно, выбирая благотворительность с кучей детишек, потому что с самого начала знает, что у телесетей в этом случае всегда будет для них больше времени – эфирного времени.
В общем, давайте я расскажу вам свою историю о летнем детском лагере. Мы снимали рекламу на территории лагеря «Северная Миннесота». Мы спали на откидных койках прямо там. Я даже не знал, что это такое – летний лагерь, пока мне это не объяснили. И все равно мне казалось, что туда ездят только детишки из среднего класса. Но в Соединенных Штатах нет среднего класса. Ага, точно. Я поднялся утром после беспокойного сна. Вокруг было так тихо, и я пробрался в общую ванную комнату – эвфемизм для обозначения туалета, – чтобы облегчиться и побриться. Я подумал, что при наличии двух сотен детей, которые ошиваются здесь все лето, некоторые их микробы можно подцепить с раковин. Это пришло мне в голову как раз перед тем, как я собрался бриться. Я думал о своих кожных порах, беззащитных перед всем этим зараженным воздухом. Иисусе Христе!
Конечно, я собрался с мужеством и побрился. И после нескольких одобрительных взглядов на себя был удовлетворен тем, что, хоть и спал скверно, не выглядел так, будто скверно спал. Я старался не улыбаться самому себе. Не хочу, чтобы меня когда-нибудь застали за тем, как я улыбаюсь своему отражению. Наедине с собой – сколько угодно. И двинулся на завтрак. Съемочная группа и режиссер уже собрались вокруг исходящих паром тарелок. Они выглядели потасканными и небритыми. Это доставило мне удовольствие.
Я уселся и принялся поедать яичницу с тостами – или что там было в меню? Кофий. Затем явился лагерный босс и вообще всеобщий герой дня, весь запыхавшийся, заламывая руки и опуская взгляд с излишней скромностью. Он руководил лагерем и был основателем всего этого дела. Я заметил, что он тоже небрит. Это было нехарактерно для него, поскольку он всегда очень тщательно подходил к своему внешнему виду. В сущности, не считая небритости, он был в своем обычном амплуа – хорошо одет, только в деревенской шерсти и твиде. Кровь начала киснуть у меня в жилах. Он рискнул скромно обвести взглядом стол. Он искал только информацию. Кто сидит за столом? С кем ему нужно быть любезнее всего и в каком порядке? Он остановился на мне.
– Вы же не брились сегодня, правда?
Должно быть, я побледнел.
– Да. Брился. Я…
– Ой, да перестаньте, я ужасно разочарован!
Я как раз собирался спросить его, а что, по его мнению, чувствую я сам, когда он добавил:
– Мы здесь, в лагере, не бреемся. Обстановка предполагается неформальная, но, думаю, поскольку вы, строго говоря, все же на работе, на сей раз мы посмотрим на это сквозь пальцы.
Я искренне рассмеялся.
Я буду жить! И что еще важнее, мне не придется сдавать анализ на ВИЧ, прежде чем снова встретиться со своими любимыми. Время, проведенное в этом лагере, где повсюду пели птицы, а все детишки были так милы и добры друг к другу, пробудило во мне нечто знакомое. Я видел, как мы с Эшлинг живем где-то в лесу, похожем на этот. Солнце заливало светом наше счастье, смех эхом отдавался среди деревьев, пока мы не принимались шикать друг на друга, чтобы не разбудить малыша. Какими счастливчиками мы считали себя из-за того, что наш ребенок не заражен какой-нибудь ужасной болезнью!
Номер телефона моей будущей жены горел и пылал в кармане на моем бедре, и внутри ящика рабочего стола, и в нескольких других местах, где именно – я не мог вспомнить. Я принял меры предосторожности, записав его и разложив в несколько разных мест, чтобы не потерять. Я не дурак. Мне приходилось бороться с искушением позвонить ей. Все время.
Физическая жажда.
Я был в плохом состоянии. Я имею в виду, я даже не смотрел на девушек пять лет, и вот все это обрушилось на меня. Я даже не понимал, что оно – это. Я никогда прежде не испытывал таких чувств. Теперь мне не хочется даже вспоминать, но я действительно то ли был влюблен, то ли потерял рассудок. Мой взгляд тяжелел, когда я думал о ней, одна только мысль о ней заставляла расширяться зрачки.
Реклама лагеря прошла на ура, даже завоевала какую-то награду. Все дети, которых мы снимали, к сегодняшнему дню уже умерли.
Даже не понимаю, что с этим делать.
Но уж как есть. Мне легко быть абсолютно честным на этих страницах, поскольку вероятность того, что кто-то когда-то их опубликует, так мала. По крайней мере, мне они пойдут на пользу как форма терапии.
Что я ощущал – любовь или одержимость? Не знаю до сих пор. Каким-то образом мысль о ней или даже просто мысль позвонить ей помогала мне держаться в эти миннесотские ночи.
Итак, я позвонил ей, и мы поболтали, в основном о рекламе, а следовательно, обо мне. Мне показалось, она заинтересовалась. Может быть, так и было. По крайней мере, это сделало бы наш разговор приятнее для нее. Не могу не думать о том, что она, должно быть, отнеслась к этой части всего происходившего, как проститутка относится к небольшому разговору перед сексом. Надо выслушать часть его дерьма, пока он не почувствует себя достаточно комфортно, чтобы пришел стояк – а без стояка никак, потому что тогда он не станет заниматься сексом с тобой, а тебе нужно, чтобы он занялся с тобой сексом, иначе ты не получишь денег. Вот, как я думаю, что это было. Она слушала меня, я знал, что она слушала меня. Опять же, в этом весь я. Мужское эго. Как тот парень, который верит, что шлюха кончает, когда ему так кажется. Я хочу верить, что она слушала меня, и что я ей нравился, и – да, что она даже любила меня немножко. Даже сейчас я, кажется, хочу в это верить. Безумие, а?
Когда-то я говорил: безумие, да? Но теперь вместо «да» будет «а». Америка.
В Миннесоте я пребывал в ужасном состоянии ума почти два года, и мне казалось, что я заслуживаю того, чтобы случилось что-то хорошее. Теперь, пробыв в Нью-Йорке больше года, я понимаю, насколько невинным и глупым я, должно быть, казался 27-летней голодной, как ад, девушке-фотографу, полной решимости пробиться на нью-йоркской сцене. И вполне справедливо. Ее обаяние, должно быть, было нездоровой разновидности, и мое недалеко от него ушло.
Я хотел, чтобы она выручила меня. Вытащила из Сент-Лакруа. Я хотел, чтобы она была моим штурманом в Нью-Йорке. Я многого хотел.
У меня были свои резоны, у нее, полагаю, свои. Ей, должно быть, я казался кем-то вроде мокрого-жирного-лысого-купающегося-в-деньгах калчи – прозвище, которым припечатывают любого, кто не из дублинской округи, то есть деревенщину. Урожай, созревший для жатвы.
Эшлинг пришлось повидать немало нашего брата – таких, как я – в своих поездках в качестве помощницы фотографа. Майами – свет, дорогая – был привычным пастбищем для фотографов из пасмурного Нью-Йорка. Множество отельных номеров, баров и долгих фотосессий. Множество арт-директоров вроде меня, с кучей денег, женами, детишками и ипотеками. Надеюсь, что я выделялся на общем фоне, поскольку единственное, что было у меня из всего этого, – ипотека.
Она, должно быть, думала, что я женат, или надеялась на это. Видите ли, не могу не думать, что она собирала информацию обо мне, чтобы как-то применить ее впоследствии. Вероятно, хотела шантажировать меня женой, которую воображала рядом со мной. Ну а почему бы еще я стал жить в викторианском доме с тремя спальнями? Причина шантажа? Поиметь большие сочные комиссионные от рекламного агентства. Для нее, начинающего фотографа, много значила бы перспектива получить пару-тройку заказов от такой прославленной компании.
Я думал: какого черта, она очень красива, я холост, и мне, кроме того, нужен усилитель храбрости. У меня самого не хватило бы яиц сделать следующий шаг, не будь такой вкусной цыпочки, которая бы меня подзадоривала. Я дал ей власть вытащить меня оттуда.
Я начал названивать в отдел кадров, спрашивая, как я могу уволиться. Как будто я сам не знал. Я хотел, чтобы они поняли серьезность моих намерений. Их мнение больше меня не волновало. В реальности это был безумный шаг. Они, должно быть, уверились, что я влюблен – и давайте смотреть в лицо фактам, так и было. Я не забыл попросить, чтобы наш разговор остался конфиденциальным, зная, что им придется проинформировать в подобной ситуации руководителя группы. Так что я сумел пригрозить увольнением без необходимости уволиться. Грэм, мой босс, узнал то, что я хотел дать ему знать: я настроен серьезно.
Прошло не так много времени, и он как-то раз вскользь спросил меня, продал ли я свой дом. Никогда не забуду выражения его лица. Помоги мне боже, но оно доставило мне наслаждение. И опять же, поверьте мне, я составил свою версию происходившего позднее, но это был мой момент. Лучший способ описать его бледное лицо – сказать, что оно пошло волной. Снизу. От подбородка и вверх до линии волос, одной одинокой волной. Как молоко. Он был настолько бледен. Потребовалась пара ударов сердца, чтобы важность этого дошла до него, а затем до меня. Я и не думал, что это будет так много значить для него, в любом случае. Но, похоже, таки значило. Он, должно быть, был уверен, что я весь его с потрохами еще на пару лет. Если бы я повелся на ту шведку, вероятно, так и вышло бы.
На следующий день он вызвал меня, чтобы сообщить: я должен лететь в Нью-Йорк, чтобы пару недель помогать в тамошнем офисе. Я не знал доподлинно, что больше не вернусь, но надеялся на это, – и у меня была бы возможность увидеть мою Эшлинг. На работу мне было плевать. На хер работу, меня тошнило от рекламы и от всех, кто был с ней связан. Все, что мне хотелось, – это пары оплаченных недель в хорошем отеле в Нью-Йорке вместе с моей любовью.
Возвращаясь в Форт-Факап – такое прозвище я придумал своему дому, – я разговаривал с ней. Я воображал, что она сидит в кресле передо мной. Я с любовью смотрел в точку где-то на средней линии, чуть выше спинки кресла, словно в ее голубые глаза, и, впечатленный, вскидывал голову. Куртуазно кивая, я наклонялся вперед и почти неохотно соглашался с тем, что она имела мне сказать. Она была настолько умна, что даже мне приходилось уступить на йоту. А потом я радостно смеялся. Потому что я был счастлив. Я завел роман. Идеальный роман без всяких вмешательств со стороны. Когда-то я видел мультик о Нарциссе, глядящем на свое собственное отражение в пруду. Его подружка задает ему вопрос: «Нарцисс, здесь есть еще кто-то?»
Если они уволят меня к концу моего пребывания в Нью-Йорке – отлично, по крайней мере, у меня останется несколько памятных моментов. Я пытался организовать поездки в Нью-Йорк и раньше, но все они провалились. Каждый раз, отчаянно пытаясь не выдать голосом разочарования, я говорил Эшлинг, что в итоге ничего не получилось.
Я пинал себя, чувствуя, что всякая надежда на наши отношения ускользает. Это меня убивало. Потом я звонил в субботнее утро около половины одиннадцатого, и ее не было дома. Разница в час делала этот факт еще более тревожным знаком – в Нью-Йорке была половина десятого. Иисусе, мой разум поднял бы меня на смех, точно вам говорю.
Ее нет?
Очевидно, она возвращается домой из квартиры какого-нибудь хмыря, а может быть, даже еще там, трахается с ним. Почему бы и нет, она же легла в постель со мной в первую же ночь после нашего свидания? Но это было другое дело, это была любовь. Это было со мной. Я звонил и предлагал приехать к ней как-нибудь на выходных. Она деликатно отклоняла предложение, говоря, что будет лучше, если мне не придется делать это за свой счет. Лучше подождать деловой поездки. Она была права, конечно, но я аж давился, так хотелось секса. Я также понимал, что она амбициозна. Она не боялась говорить о своей работе. Это немного пугало меня, потому что означало, что она интересуется мной только из-за моей должности старшего арт-директора. Я ненавидел слово «старший», оно заставляло меня казаться стариком. Ей я, должно быть, казался старым пердуном. Утешал я себя тем, что выглядел не старше тридцати двух. Она подыгрывала. Да и какая красотка, которой едва исполнилось 27, не стала бы? У нее намечается выставка, сказала она однажды вечером. Я был так рад, что она в достаточной степени включает меня в свою жизнь, чтобы рассказать об этом, что предложил свою помощь. Я пытался впечатлить ее своими талантами манипулятора масс-медиа, но она не впечатлилась.
Скорее разочаровалась.
Я хотел снизить пафос всего этого, отбросив на происходящее тень Дня св. Патрика. Теперь я понимаю, что это, должно быть, позволило ей с еще большим удобством сделать то, что она собиралась сделать. Разве не забавно, как, решив, что нам кто-то не нравится, мы способны находить причины поддержать свое решение – и наоборот! Вот что, как я думаю, происходило на самом деле. Увязая все глубже, я уже решил, что она мне нравится – да что там, я люблю ее, – и все активнее стал плести ромашковый венок из маленьких наблюдений и нюансов, которые нежно привязывали ее ко мне.
Одновременно она составляла собственный список.
Жалобную книгу.
Я помню паузы, которые возникали после моих слов. Молчание, в котором ты позволяешь вариться умолкнувшему собеседнику. Точно прожектор, наведенный на сказанное. Точно повторение фразы холодным, бесстрастным голосом. И в тех передышках, которые она давала себе от меня, она заново разжигала свое страстное стремление завершить то, что, должно быть, уже начала.
Вот что я знаю о ней.
27 лет. Эшлинг Маккарти. Помощник фотографа. Работала продюсером в большом и неэффективном рекламном агентстве в Дублине в начале 1990-х. Эту работу добыл ей тогдашний бойфренд. Уехала из Дублина, выиграв грин-карту в лотерею. Сказала мне, что ей пришлось уезжать из Дублина в спешке. Около года пробыла в Новом Орлеане. Работала в отеле «Кларенс» (принадлежащем группе U2) в качестве администратора. Я стараюсь не давать определения гостиничным администраторам, если не пребываю в особенно недобром настроении духа. Она любит Килкенни, мой родной город, и своего дядю, Тома Баннистера, моего знакомого, которого всячески рекомендовал мой отец, ныне покойный.
Ее мать родом из Килкенни. Она довольно патриотично настроена к Ирландии, но не в непривлекательном фенианском стиле. Когда я познакомился с ней, она работала помощницей Питера Фримена, известного фотографа, очень известного, возможно, одного из лучших в Нью-Йорке, а следовательно, и в мире. Делила квартиру в нью-йоркском районе Нолита с друзьями – архитектором Шоном и закупщицей «драгоценных камней» для универмагов «Мэйсис» по имени Моретт. Ее дом в Ирландии – в Киллини. Фешенебелен до отвращения, уж поверьте мне. Ее брат работает в журнале The Strategist Magazine в Лондоне. Сестра замужем за каким-то владельцем отеля во Флориде. И она выглядит очень, очень юной. Ее порой принимают за шестнадцатилетнюю.
В детстве некоторое время воспитывалась монахинями, по крайней мере, так она мне сказала. С одной монахиней она была особенно близка. Да ну? Полагаю, это ее двоюродная бабка. А еще ее родная бабка умерла в то время, когда я уже познакомился с ней. Ее работы включают метод двойной экспозиции. Это когда один снимок накладывается на другой. Двуличность? Она жила во Франции и работала как au pair.
Все эти данные собраны после одного короткого вечера и не более чем четырех телефонных разговоров. Она не смогла бы упрекнуть меня в том, что я не слушаю. Если что, я даже слишком прислушивался. Я старался впитать ее в себя. Я мог бы написать о ней книгу. Боже упаси!
Как-то раз она вместе с братом ездила в отпуск в Мексику. Говорила, что у нее вызывали отвращение взгляды, которыми одаривали ее мексиканцы. Голубоглазая блондинка в этом обветреннолицем, вороноволосом окружении. Ее новая работа требовала хорошего знания компьютера. Она подбивала меня открыть собственное агентство в Дублине. Она пинтами пила «Гиннесс». Получала помощь в работе от Питера Фримена. Он даже пару раз заезжал к ней на выходных, чтобы помочь. Слушая это, я мучился ревностью.
Пару месяцев назад к ней в Нью-Йорк на неделю приезжала погостить мать. Я узнал об этом только потому, что мельком упомянул о ней в беседе с Томом Баннистером, обговаривая финансовые транзакции.
Вот и все. За исключением, конечно, всего остального, что я собираюсь вам поведать. Я это скажу. Я сам себя удивляю, потому что в норме я веду себя осмотрительнее.
Если бы был способ пытать ее и убить, не отправившись в тюрьму, я бы это сделал. Или мне кажется, что мог бы. Не волнуйтесь, я не грежу наяву о том, как или что я бы сделал. Я просто чувствую себя способным причинить ей вред. Однако не буду. Эти страницы – максимум, что я сделаю, чтобы поквитаться за результаты того вечера в марте. Но давайте не будем забегать вперед, ладно? Я был на грани ярости почти шесть месяцев. Чтобы вызвать такое неистовство чувств, требуется определенная доля таланта и, как я предпочитаю думать, интеллекта. Любовь, ненависть – какая разница?
Однажды вечером по телефону она сказала мне, что у нее есть издательский договор. Это интересно, ответил я. Каким образом она исхитрилась его добыть? Меня всегда интересовали пути, которые могли бы увести из мира рекламы. Она ответила, что какой-то ее приятель изучает издательское дело в Гарварде. Я чуть не подавился. Мы имеем дело с богатенькими ублюдками. Я забыл, разумеется, что к тому времени сам стал зарабатывать приличные деньги. Я никогда не чувствовал себя богатым. Только глупым. Особенно в этом доме. Эта книга будет состоять из фотоэссе, сказала она. Из портретов. Часть она уже сделала. Но у нее есть пара лет, чтобы завершить работу.
Я тут же преисполнился зависти. Я бы с удовольствием занялся чем-нибудь чистым. Чем-то таким, где не требуется ничего продавать.
Может быть, в ней будешь и ты, сказала она. Этот вопрос она оставила открытым. Я не знал, должно ли это мне польстить, но был польщен.
Мы договорились встретиться в Дублине, когда оба приедем домой в Ирландию на Рождество. Я позвонил из Сент-Лакруа и забронировал славный номер в дублинском отеле «Шелбурн». В Сент-Лакруа было адски холодно, когда я благодарно запрыгнул в такси на Хеннепин-авеню, громко выдохнул и с американским акцентом велел таксисту везти меня в аэропорт. Поездка заняла 45 минут и – нет, поговорить мне не хотелось.
Перелет тоже был долгим. Восемь с половиной часов. На самом деле, больше по вине «Нортсаут Эйрлайнз». Худшая авиакомпания на свете. Задержки рейсов у них – стандарт. Я брал с собой только ручную кладь, потому что иначе багаж доставляют с опозданием на двое суток, куда бы ты ни летел. Пассажиры вечно орали на сотрудников, а сотрудники, очевидно, привыкшие к тому, что на них орут, носили профессиональные маски безразличия. Это была единственная компания, которая летала из Миннесоты, так что мы мало что могли сделать, кроме как орать.
Я предполагал, что буду очень усталым перед встречей с любимой в Дублине. Выкроил для себя несколько часов сна в «Шелбурне», а проснувшись, обнаружил под дверью послание. Фирменный бланк отеля «Шелбурн» с одной из этих табличек с квадратиками, где надо ставить галочки, и списком пунктов типа «пожалуйста, перезвоните», «во время вашего отсутствия» и т. д. Имя ЭШЛИНГ, выписанное красивым почерком, венчало ансамбль викторианской полиграфии, казавшейся мне такой экзотической после полутора лет, проведенных в лишенной истории обстановке, из которой я только что вырвался.
Мне оставалось убить еще около часа, прежде чем позвонить ей в семь вечера, как она просила в отмеченном галочкой квадратике. Мне нужны были презервативы, и я начал паниковать, потому что никак не мог припомнить, остается ли Ирландия до сих пор средневековой в этом вопросе. Было время, и не так уж давно, когда их нельзя было просто купить. Требовался рецепт врача.
Я пошел прогуляться. Повернул направо сразу от красивой входной двери «Шелбурна» и направился к Графтон-стрит. Мне приходилось сдерживать слезы. Не думаю, что способен описать, каково это было – гулять среди всех этих прекрасных молодых лиц. Было такое ощущение, словно кто-то вот-вот заорет: «Только не он! Нет! Всем остальным дозволено гулять здесь, и смеяться, и вести себя непринужденно, и хорошо одеваться, но не ему. Ему не следует даже быть здесь».
Это было так чудесно. Я даже не уверен, что шел именно по Графтон-стрит. Это была пешеходная улица, день накануне сочельника. Я никогда не забуду этот момент. Я даже нашел там аптеку «Бутс», так что мне показалось, будто я в Лондоне. Дублин сильно изменился, как и я.
Только я был печальнее.
Купив упаковку из 12 презервативов (некоторые ведь могли порваться), я несколько приободрился. Вернулся в отель, чувствуя себя человеком, только что выпущенным из тюрьмы. Позвонил ей домой из своего номера и нарвался на отца. Иисусе, на это я никак не рассчитывал. Так что я просто сказал, что перезвоню попозже или как-то так, и голос у него был не больно-то довольный. В семь вечера она перезвонила и сказала, что нам следует встретиться на углу Графтон-стрит в том большом стеклянном торговом центре. Я знал, где это, и, пытаясь сохранять спокойствие, согласился встретить ее там через пятнадцать минут. Пятнадцать минут? Я пришел туда размашистым шагом и стал ждать ее, стоя на другой стороне улицы. Она немного опоздала. Но была очень красива. Мне пришлось то и дело поглядывать на нее, чтобы убедить себя, что она на самом деле такая чудесная, какой кажется. Она, казалось мне, проделывала то же самое со мной, но теперь я понимаю, что она, должно быть, проверяла, насколько у меня идиотская рожа. Насколько меня просто кинуть.
Мы зашли поесть в «Темпл-Бар», и именно там, в этом ресторане, было сделано первое фото. Я на самом деле этого даже не заметил, но увидел что-то в ее глазах, когда она щелкнула кнопкой маленькой одноразовой камеры. Она сказала, что в этом тускло освещенном ресторане фотография, возможно, даже не получится. Я спросил ее, повсюду ли она носит с собой камеру. Она сказала, что да, повсюду, но что я буду смеяться, если увижу ее. Я сказал, что не стану. Она возразила, мол, нет, станешь. Тогда я сказал, ладно, стану. После чего она вытащила одноразовый фотоаппарат – такой, какие бывают у новостных агентов, – и, наклонив его на столешнице, направив вверх мне под подбородок, щелкнула затвором. Помню, я смотрел на нее, когда она меня сфотографировала. Смотрел прямо в ее большие, голубые, невинные глаза… щелк. Я тут же почувствовал себя ограбленным.
Она получила мою идиотскую рожу. Блаженно-идиотическое выражение слетело с моего лица, сменившись недоверием. Всего на миг. Моя первая инстинктивная реакция была верна. Я знал, что фото, сделанное так, экспромтом, без предупреждения, без ожидания, снятое профессионалом, не предназначено для того, чтобы быть лестным.
Еду она запивала водой, а потом мы сидели в обнимку у стойки в «Темпл-Баре», где она пила бакарди с колой до конца вечера, а я осушил около пяти бутылок воды «Балли-мать-ее-гаун». Должно быть, она была уже никакая к тому времени, как мы пришли в отель.
Я был доволен тем, как это обставил. Я сказал:
– Жаль, что ты не можешь прийти ко мне в отель.
– Почему, там какие-то правила? Ты не можешь приводить к себе гостей? – удивилась она.
– Нет, я просто подумал, что ты не сможешь зайти ко мне. Ну, у тебя там родители и…
– О нет! Я бы с удовольствием зашла.
Динь-динь. Вперед на всех парах. Кто там говорил об айсбергах?
Мы зашагали к отелю, она сжимала мою короткую и толстую кисть своими длинными пальцами. Вечер был прекрасен, и деревья вдоль Стивенс-Грин стояли позолоченные уличными фонарями на фоне темно-синего неба. Мы почти не разговаривали. Она все время меня целовала. Безостановочно. Был один момент, когда зрачки ее больших глаз расширились, а затем сузились в булавочные головки. Это меня немного напугало. Я не знал, употребляет она что-нибудь или нет. В номере мы занялись делом, как я теперь понимаю, в очень прозаичной манере. Вместо освещения у нас было MTV.
Это было великолепно. Мне так понравилось. Она была очень красива. Очень. Пожалуй, я даже не стал бы об этом писать, не будь это правдой.
Не каждый день мужчине выпадает шанс заняться неторопливым сексом с Девой Марией, когда ей шестнадцать. У нее была великолепная худая спина. На моей росли волосы. Я то и дело хихикал.
На самом деле, были даже моменты, когда я смеялся во весь голос. Ее это немного раздражало. Однако я не мог остановиться. Это было так приятно! Когда мне так приятно, я смеюсь. Она думала, что я смеюсь над ней. А еще я нервничал. Ведь прошло (да-да, мы знаем) пять лет.
В общем, мы были заняты до рассвета. Помню, как она в какой-то момент сидела на мне сверху. Ее длинные медового цвета волосы падали вперед, когда она трахала меня. Эти волосы образовали тьму, которая выглядела как внутренность капюшона Беспощадного Жнеца. Как нечто из фильма ужасов, где во тьме ты видишь слабый блеск двух больших красных бусин. Я не мог не думать о ее рассказе о Марди Гра в Новом Орлеане и том впечатлении, какое на нее произвели танцоры и атмосфера всего фестиваля. Я воображал гребаных вуду-персонажей, сплошь залитых куриной кровью. Только это был Дублин. Мы теперь были далеко от Луизианы, и рассвет деликатно стучался в окно. Я начал готовиться к нашему расставанию. Мы заказали завтрак, и я пошел в душ.
Когда я вышел из ванной, она высунулась из окна, делая снимки своей маленькой одноразовой камерой. Несомненно, мы вскоре их увидим. Бог знает, что еще она наснимала, пока я переодевался из купального халата в свою одежду. Но у нее были все возможности. На пути к лифту она шла передо мной.
Она обернулась, ее большие голубые глаза горели.
– Я выгляжу как дерьмо.
Стараясь не дать ей знать, как красива она на самом деле, я сказал:
– Ну, все не настолько плохо.
– Не настолько плохо? – переспросила она, явно раздраженная.
Я состроил рожицу. Она позвонила с рецепции. Накануне вечером она тоже звонила. Родителям, чтобы дать им знать, что она сегодня не придет ночевать. Мы выпили кофе, и я поймал такси до Хьюстонского вокзала. Вот, в сущности, и все.
Второе Рождество после смерти отца я провел дома.
Мы хорошо справились, Ма и я. Папа всегда любил Рождество, так что пустой стул в гостиной торчал в это время года, как бельмо на глазу. Но я был настроен оптимистично. Ну, на самом деле, это не то слово – я был на вершине блаженства. У меня была роскошная подружка-ирландка, мой дом пребывал в родовых муках продажи, что означало, что Сент-Лакруа как место жительства скоро уйдет в небытие. В то Рождество я привнес радость в родительский дом. Приехал в гости брат. Я ходил на встречи АА. Даже Эшлинг навестила меня в Килкенни, и мы зашли выпить кофе в новом кафе, перестроенном из бывшего банка. Ирландия очень сильно изменилась.
Мне все было по фигу.
Задним числом мне кажется, что она хотела пригласить меня на новогоднюю вечеринку, которую кто-то из ее друзей в Дублине устраивал каждый год. Она приехала в Килкенни, чтобы навестить дядю Тома, а позднее выбралась повидаться со мной. Это было за два дня до кануна Нового года.
Может быть, она хотела сделать в канун Нового года то, что в конечном счете сделала со мной в баре «Том и Джерри» три месяца спустя. У меня нет ни одного доказательства, что это так, за исключением моей знаменитой своими сбоями интуиции/паранойи.
В тот вечер в Дублине она упомянула, что какой-то ее друг из Нью-Йорка приехал в гости на рождественские праздники и что она оставила его в каком-то баре. Когда при встрече тем вечером мы поцеловались, от нее исходил сильный запах спиртного, так что она, должно быть, опрокинула с ним пару бокалов, прежде чем прийти ко мне. Я, разумеется, начал протестовать, мол, его не следовало оставлять одного, мы должны пригласить его присоединиться к нам.
Она отмела это предложение взмахом руки с длинными пальцами.
– Он слишком грубый, – сказала она. – Он бы тебе не понравился.
Кажется, как раз его я и встретил в следующем марте в «Томе и Джерри». Но вернемся в Hibernian Café. Думаю, тот факт, что я уже договорился в новогоднюю ночь встретиться с друзьями в Лондоне, отложил растерзание моей души еще на несколько месяцев. Я заказал номер в отеле «Кларенс» на следующий день после Нового года в надежде, что, возможно, мы повторим нашу ночь секса, случившуюся всего неделю назад. И думал, что это был бы славный сюрприз для нее, поскольку она когда-то работала там администратором.
Я позвонил ей из Лондона днем после наступления Нового года, проведя накануне разочаровавший меня вечер с друзьями из АА. Трубку взяла ее мать. Эта женщина была очень мила и спросила, как меня представить. Надеясь, что Эшлинг обо мне упоминала, я назвался.
– Простите, кто?
В груди у меня все застыло.
И когда девушка моих грез наконец сонно зашуршала телефоном и сказала «алло», я услышал разочарование в ее хриплом голосе. А потом из трубки начали сплошной чередой ползти «нет». Нет… она должна провести время с родителями. Нет… она и так редко с ними видится; нет… может быть, когда мы оба вернемся в Нью-Йорк. Нет. Нет. Нет.
Я не сказал ей, что заказал номер в отеле. Это было легко – я привык скрывать разочарование. В отеле «Кларенс» за отмену бронирования штрафуют на сто процентов. Просто на случай, если вы когда-нибудь решите снять там номер, это означает, что деньги вы обратно не получите.
Моя сестра выразилась по этому поводу лучше всех:
– Звучит как задорого подрочить!
Она тоже отличается завидным владением английским языком.
И при 600 долларов за ночь не так уж она неправа. Я сделал все, что мог, чтобы не позвонить Эшлинг, пока не вернулся в Сент-Лакруа. На самом деле, я вообще не хотел туда возвращаться. Я ненавидел свою замечательную работу. Ненавидел – это даже не то слово, оно слишком активное. Это было скорее похоже на апатию. Я небрежно замечал в разговорах с людьми, любившими потрепать языком, что недоволен и вскоре уволюсь. До этого момента я боялся даже думать такое, чтобы кто-нибудь не прознал. Но теперь хотел, чтобы меня уволили. Я приветствовал бы увольнение с радостью.
Однако меня не уволили. Совсем напротив. Когда я вернулся после рождественских каникул, меня послали в Нью-Йорк. Было очевидно, что мне уже на все наплевать, и было очевидно, что я хотел быть в Нью-Йорке. И тогда они это организовали. Официально я должен был поехать туда и несколько недель помогать в тамошнем офисе, но я знал, что больше не вернусь. Думаю, они тоже это знали. Особенно поскольку продажа дома была назначена на 2 февраля.
Двумя месяцами раньше на моем пороге объявилась молодая пара.
– Здрассте. Мы тут просто подумали, а не заинтересованы ли вы продать свой прекрасный дом?
Я едва сдержался, чтобы не обнять их. Прекрасные люди. Прекрасные слова, что слетели с их уст. После бесчисленных объявлений о продаже и стольких поздних вечеров, проведенных за разглядыванием фотоальбомов, полных людей, подобных этой парочке, я уже начал думать, что я – единственный, кто пердит громкими долгими звучными нотами и дрочит в ванне. Они, казалось, самим своим видом подтверждали, что мне вообще не следовало находиться в этом доме. Я словно возвращал его правомочным владельцам. И если бы вокруг них облачком парила эльфийская пыльца, это не показалось бы мне сюрреализмом.
Молитва, на которую пришел ответ, не то явление, к которому я привык.
Они, должно быть, проезжали мимо моего дома, когда на нем висел риелторский знак, и решили подождать. Умницы. Потому что теперь, когда я разорвал договор с тем агентом, никому из нас не надо было платить комиссионные. Бегство в Нью-Йорк перестало быть просто мечтой. Я должен был вылететь вечером в воскресенье. Я оставил два сообщения для Эшлинг со словами, что в следующие выходные буду в Нью-Йорке. Я намеренно не стал ей говорить, что собираюсь поселиться там навсегда. Я знал, что она будет все время меня динамить.
Вечером она оставила сообщение о том, что ей это совпадение показалось забавным, но она в воскресенье будет в Майами. Смешно! Я знал, что меня собираются мариновать, но ни в жизнь не догадался бы, насколько искушенным будет этот маринад.
Так что вечером во вторник около семи она позвонила мне в номер отеля «Сохо Гранд», где по запросу выдают постояльцам собственную золотую рыбку и где я воображал, как позже буду трахать ее так, чтобы вылетели ее ничтожные мозги.
Не суждено, друзья, не суждено.
В тот вечер начали разворачиваться события, при мысли о которых у меня до сих пор становится сухо во рту. Мы договорились встретиться в «Фанелли», кафе-баре на углу Принс и Браун. Я пришел туда заранее и сел за маленький столик. Она пришла в белом пиджаке, вид у нее был усталый. К счастью, не слишком красивая. Кстати говоря, я сознаю, что вплоть до этого момента выражался как обманутый бойфренд, пытающийся замаскировать свою попытку отомстить (т. е. все это повествование) под литературное событие, на которое вам (читателям) полагается повестись. Может быть. Но я думаю, вы согласитесь, что странности Эшлинг стоят летописания под любым предлогом. Называйте это предостережением моим собратьям-романтикам. Называйте как хотите. Я понимаю. Называйте это терапией для меня (а вы все просто подслушиваете). Имейте в виду, если она узнает себя на этих страницах, и это тоже хорошо. Разумеется, это может дать обратный эффект и сделать ее знаменитой. И все же такое явление указало бы, что будет продано много экземпляров моей книги, а это означает, что я тоже не останусь в проигрыше. Все еще читаете? Хорошо.
Вернемся в «Фанелли». Я сказал что-то типа: «какой славный бар». Приехав из Сент-Лакруа, я говорил это вполне искренне. Сказал, что видел где-то его фото, и спросил, знаменитое ли это место. Никогда не забуду ее холодный взгляд, когда она ответила:
– После сегодняшнего вечера ты его запомнишь.
Я понаблюдал за ней, чтобы понять, имела ли она в виду, говоря это, что-то хорошее. Мне так не показалось. Я стал немного заикаться.
– Что ты имеешь в виду? Меня сегодня ждет какой-то большой сюрприз? – Я хотел, чтобы вопрос прозвучал неопределенно.
Все, что она ответила:
– Подожди.
Это было не то, на что я рассчитывал, и это меня напугало. Подожди? Должно быть, у этого вечера было какое-то расписание. Определенный порядок. Схема развития событий, которая сложилась у нее в уме. Я проглотил ком в горле, как человек, который осознал, что вляпался по самые уши. Должно было что-то случиться – что-то нехорошее. Но не обязательно это происходило прямо сейчас. Это должно было случиться вскоре, и она знала, что́ это, а я – нет. Я пока не мог уйти, потому что мне не на что было реагировать.
Она начала задавать вопросы. Где находятся офисы «Киллалон»? Катаюсь ли я на горных лыжах? Тренируюсь ли в спортзале? Ездил ли когда-нибудь верхом? Играю ли в шахматы? Я отвечал на все это и думал: я как на допросе. Что за хрень? Полное ощущение пассивности. Она сказала, что ей очень хотелось бы как-нибудь сыграть со мной в шахматы. Я ответил, что потерпеть поражение в шахматах было бы для меня вдвойне унизительно, потому что я мню себя стратегом. Ее глаза блеснули. Я не мог не ерзать на стуле, так мне было неуютно. Она откинулась на спинку и наблюдала, как я извиваюсь. Она выглядела… расслабленной. Теперь уже не такой невинной. Более непринужденной. Абсолютно контролирующей ситуацию – и я завидовал этому ее чувству, хоть и не знал, что именно она контролирует. Вскоре мне предстояло это выяснить.
Она огляделась по сторонам. Прикурила сигарету. Скрестила руки на груди. Затем чуть манерно зевнула. Ей было скучно.
– Думаю, пойду-ка я домой, – сказала она.
Все значение этой фразы дошло до меня лишь некоторое время спустя. Но я таки понял, что данная мне отставка была значимой. Она подождала, дав мне время это понять.
Должно быть, я сумел задать вопрос, который дал мне возможность убедиться, собирается она пойти домой одна или нет. Не могу точно вспомнить, что было сказано, за исключением того, что ощущение было, будто меня убивают. (Настоящий король драмы, не правда ли?)
В фильме «Спасение рядового Райана» есть сцена, в которой немецкий солдат убивает американского ножом. Немец сидит на янки верхом. Джи-ай начинает тихо упрашивать немца, говоря что-то вроде: «Погоди, разве мы не можем договориться?» Бесполезно. Немец с почти извиняющимся видом продолжает орудовать ножом. Его лицо изобличает совершаемый им поступок. (На случай, если вам интересно, я и есть тот американец.) Итак, в этом кафе в меня тыкали ножом, но тут же накладывали бинты. Настолько быстро, что я в результате чуть ли не извинялся перед ней. Я мешал ей, из-за чего она хмурила свой красивый лоб. Как я мог? Дело в том, что, если бы она велела мне свалить, я бы ушел. Но она этого не сделала. Она слишком наслаждалась происходящим.
Мне потребовался добрый час, чтобы вынудить ее сказать, что она «не стремится к отношениям». Словно я какой-то долбаный продавец в магазине, пытающийся выяснить требования госпожи покупательницы. По крайней мере, я сумел составить точное суждение о том, что это означало. А означало это в основном (если честно) – «никакого секса». Так что моей первой реакцией было – ладно, тогда иди на хер.
Она сказала, что с удовольствием ходила бы со мной на выставки, с удовольствием показала бы мне Нью-Йорк и… Я уже качал головой. До меня дошло, что она использовала почти все клише, за исключением самого главного – слова «друзья». Я сделал это за нее.
– Ты имеешь в виду, что хочешь, чтобы мы остались друзьями.
Она не стала соглашаться. Потому что это, вероятно, прозвучало бы слишком окончательно, и она понимала, что я спасусь бегством.
Она постаралась оставить вопрос открытым, сказав: «Я хочу получше узнать тебя». Это подразумевало, что мы, возможно, снова сойдемся в будущем. Мои инстинкты настаивали, что нужно встать, уйти и решить, что у меня выдался неудачный день. Но ей, казалось, хотелось еще это обсудить, словно для того, чтобы выслушать мои мысли.
Она говорила: «Ты, кажется, задумался» и «Ты сердишься?», на что я отвечал: «Правда? Прости, пожалуйста. Сержусь? Нет. С чего мне сердиться? Ведь это я сюда приехал». Это было мое решение. Я чувствовал, что она разочарована моей реакцией, что она хочет, чтобы я рассердился, а я – вот незадача! – так спокойно это все воспринял. Любой посторонний подумал бы, что она рассказывает мне про свои новые занавески. По крайней мере, я на это надеялся. Теперь казалось, что ей стало еще скучнее – от того, что она не получает того шоу эмоций, на которое рассчитывала.
А потом, без предупреждения, меня ослепил свет. Фотовспышка. Я ничего не видел и был в шоке. Парень рядом со мной повернулся, ухмыляясь, и сказал:
– Прошу прощения. Она сама сработала.
Я автоматически кивнул:
– Нормально. Никаких проблем.
Он обменялся взглядом с Эшлинг. Она улыбалась. Я тоже. И он тоже. Я даже не обратил внимания на то, что на соседнем столике, рядом с солонкой и перечницей, лежит камера.
Я снова взглянул на этого мужчину. Что-то было не так. Я не понимал, что именно. Он, казалось, слишком уж радовался этому маленькому происшествию. И время было выбрано слишком удачно, словно он сознавал, что был достигнут эмоциональный пик. Уже не было бы ничего более выразительного на моем лице, чем в тот момент, и это надо было сделать именно сейчас. Невольный фотограф со своей сообщницей остался сидеть рядом с нами за соседним столиком.
Эшлинг спросила, не хочу ли я что-нибудь выпить. У меня еще была в бокале вода «перье». Я так понял, что она спрашивает, не хочу ли я чего-нибудь покрепче. Это очень меня задело, учитывая то, что уже случилось. Но мою боль было легко спрятать. Единственное, что я теперь хотел, – это убраться подальше и заняться лечением своего разбитого сердца.
Однако что-то во мне не желало сдаваться. Я спросил ее, не хочет ли она пойти прогуляться. Она отреагировала на это громко и слишком подчеркнуто:
– Нет!.. – а потом мягче: – На улице ужасно холодно.
Я никак не мог отделаться от мысли, что она следует какой-то заранее подготовленной схеме. Я как-то читал очень циничную статью в женском журнале под названием «Как разбивать сердца и наслаждаться процессом». Там было изложено немало антимужских методов, включая (в моем изложении) следующие: «Выясни его хобби, прежде чем бросить, он может оказаться полезен как друг; или тебе, возможно, захочется познакомить его с одной из своих подруг. Особенно если он хорош в постели. Можно ли придумать лучший подарок для подруги? Научись играть в шахматы, нет ничего более унизительного для мужчины, чем когда ему наносит интеллектуальное поражение красивая женщина. Ты сможешь причинить ему физическую боль. Если он не дает тебе знать, что чувствует, позвони ему поздно ночью. Разбуди его. Ему трудно скрыть свои чувства, когда он влюблен в тебя и ты нежно говоришь с ним, лежащим в постели, даже если только по телефону…» Это лишь некоторые советы, упомянутые в той статье. Эшлинг применила на практике добрую их долю еще до конца этого вечера.
Все это дошло до меня задним числом. В то время на моей тарелке лежало слишком много всего, чтобы анализировать. Я просто ел, что дают, так сказать. Вы должны вспомнить, сколь многое в то время происходило в моей жизни: новый город (Нью-Йорк), в сущности, новая работа (нью-йоркское отделение «Киллалон Фицпатрик»), новое назначение. Ужас. А теперь еще это. Что касается меня, я перебрался в Нью-Йорк, чтобы быть с этой девушкой, а она лишь посмеялась надо мной. Вот как мне это виделось. Уже этого было бы достаточно, но существовал еще дополнительный слой. Это раздражающе-тревожное ощущение, что существует какая-то программа. Скрытый план. Когда я оглядываюсь назад, это кажется мне еще более пугающим, чем тогда. В то время, думаю, меня защищал шок – или, смею ли сказать, Бог.
Прошу прощения, но я тут собираюсь сказать несколько слов о божестве. Около месяца с лишним я ежедневно молился об избавлении (хорошее слово) от Сент-Лакруа. Я был избавлен. Вспоминая весь этот эксперимент по психологическим пыткам (ибо это были именно пытки), я гадаю: если бы я знал, что происходит, раньше, использовал бы я это как предлог для выпивки (мы, алкоголики, любим свои отмазки), или предпринял бы неэффективную интрижку с какой-нибудь женщиной, или выплыл бы из «красного тумана», держа ее безвольное тело за перерезанное горло – перерезанное, как бы я медленно осознал, моими руками? Ярость, которую я ощутил позднее, когда до меня дошло, что случилось, витала вокруг почти видимым облаком. Как всегда, у меня есть свои теории.
Поскольку я познакомился с ней в студии Брайана Томкинсина, я думал, что все это могло быть подстроено. Томкинсин делал огромную долю работы для «Киллалон», а следовательно, имел свои «плюшки». Время от времени он брался за бесплатные съемки, когда его просили, потому что знал, что это хороший бизнес – работать с одним из лучших рекламных агентств в мире. Это была обычная практика. Его агентом была бывшая королева красоты из Польши (по-прежнему красавица) с глазами, как у ягуара (не то чтобы я когда-нибудь смотрел ягуару в глаза, но вы понимаете, что я имею в виду).
Кстати, одна из теорий заговора заключается в том, что, поскольку руководителям «Киллалон Фицпатрик» не понравилось, что работник, в которого они столько вкладывали, уезжает в Нью-Йорк, они хотели помочь мне уничтожить себя, познакомив с юной леди из Ирландии, сосредоточенной на собственной карьере. Она получила хорошую работу у Питера Фримена вскоре после того, как «устроила мне веселенькое время» в Нью-Йорке. Это я просто размышляю. Я знаю, что это немного чересчур, но «Киллалон Фицпатрик» – охренительно странная контора.
Другая теория могла бы существовать параллельно первой или самостоятельно, если вам так больше нравится. Теория Номер Два поддерживает тему художественного фотоальбома. В этой версии у Эшлинг есть двое друзей из Гарварда, изучающих издательское дело, которые уже заключили с ней издательский договор и одобрили концепцию высококачественной книги фотографий, включающей фотоэссе в стиле тех фотосерий «Настоящая любовь», которые были более распространены в 1970-х. Однако в данном случае во всех романтических сюжетах фигурировала бы одна девушка с разными мужчинами. Фотоэссе отражали бы развитие событий от самого начала до самого конца (каким бы этот конец ни был). В Теории Номер Два я – один из этих мужчин. Теория Номер Три заключается в том, что и Теория Номер Один, и Теория Номер Два – полное фуфло, и что жизнь непредсказуема, и что все, что происходит, не имеет ни смысла, ни структуры; это просто случается. Как с непотопляемым «Титаником». В общем, как-то так. Я аккуратно распределил все ставки на область Теорий Номер Один и Два, бо́льшую часть – на Номер Два. Просто чтоб вы знали.
Если мы рассмотрим Теорию Номер Два, Эшлинг отработала начальные этапы этой «настоящей любви» и даже начало ее конца. Но не получила ничего достойного. Только блаженно-идиотские портреты слишком влюбленного мужчины. Ни гнева, ни слез, ни му́ки. Какая же любовь без гнева, слез и мук? Мы же не можем сделать книжку под заглавием «Настоящая дружба», верно? Нет, конечно же, нет. Не в том случае, если у тебя заключен издательский договор, который означает дедлайн и деньги, потраченные из определенного бюджета, выделенного тебе, чтобы помочь «собирать материал». Хм-м-м. И не в том случае, если ты уже вложила немало времени и энергии в свой сюжет. О нет! Еще одна фотовспышка перед входом в «Фанелли», когда я поднимаю ладони (направленные вверх) в жесте, который, как я понимаю, может быть превратно истолкован как умоляющий, – и эта конкретная страница ее будущей книги перевернута.
Дав обещание позвонить, на следующий день я делал все возможное, чтобы не поддаться искушению оставить пятнадцать умоляющих сообщений на ее автоответчике. Под конец я оставил сообщение со словами, что не смогу увидеться с ней этим вечером, что нарисовалась работа и что «увидимся как-нибудь». Рука моя дрожала. Я собрал все силы – а было их не так много, – чтобы сделать этот звонок.
Я намеревался больше никогда ей не звонить. Никогда. Я собирался воспользоваться тем же методом, который потребовался, чтобы отказаться от выпивки. Делать это посильными порциями – на один укус. Один час. Одна минута. Иисусе, вот это была пытка! Мое эго говорило мне, что я причиняю ей ненужную боль, не звоня. Что я причиняю боль ей. Что она и должна играть недотрогу. Что именно это должны делать девушки.
В общем, я каким-то образом продержался еще день, и в тот вечер, ближе к ночи, около половины двенадцатого, она позвонила мне в отель. Я спал. Вечером шел снег, и я пытался встретиться с Тельмой, чудесной девушкой с работы, с которой уже встречался несколько раз (она любит флиртовать), но она так и не объявилась. Когда зазвонил телефон, я проснулся и… угадайте, с кем же я разговаривал?
С источником своих худших кошмаров. Она заставила меня говорить о таких вещах, о которых я поклялся никогда ей не говорить. Фу! Я морщусь, даже просто вспоминая об этом сейчас. Все это наивное фуфло насчет Тома Баннистера, моего отца, насчет того, что она, должно быть, Моя Единственная, и насчет того, как я пригрозил на работе, что уволюсь, если меня не пошлют в Нью-Йорк… О Боже! Я был полусонный и не понимал, что говорю. Она поощряла меня, разумеется, обхаживала такими фразами, как «я же не знала, что…», и «тебе следовало сказать мне…», и «это же совсем другое дело». Я так понял, что эти едва слышные фразы означали «надежда есть».
Вот еще одна деталь наших телефонных разговоров, которую я помню. Я никогда, блин, не мог ее расслышать. Мне было стыдно просить ее повторить то, что она сказала. Так что – да, я вывернулся наизнанку, но дал понять: «Я не собираюсь маршировать под знаменем просто приятеля».
Я повесил трубку, гордый хотя бы тем, что сумел первым закончить разговор. Вот насколько жалок я стал! Она закончила отношения, а я закончил телефонный разговор. Не то чтобы «один – один» на табло, но сойдет и так.
И сходило, пока не прошло два дня. Я не смог удержаться. Я позвонил ей и оставил сообщение, мол, я подумал о том, что она сказала, и хочу встретиться с ней за обедом. На мой взгляд, обед был менее обязывающим событием, чем ужин. Она оставила ответное сообщение: мы могли бы встретиться за ужином в это воскресенье, «если ты не против». Вот это, блин, меня убило. Это подразумевало, что она знала, как действует на меня. Точно знала.
Я не смог себя остановить. Мне нужна была моя доза. Я позвонил ей, и мы договорились встретиться во французском ресторане недалеко от ее работы. Она готовилась к открытию выставки, которое должно было состояться в следующую среду. Она много работала. Полагаю, мне следовало принять это во внимание. Я пытался увидеть ситуацию с ее точки зрения. Мужик объявляется в Нью-Йорке, рассчитывая, что она бросит ради него все, просто потому что ему было удобно уехать из Сент-Лакруа. Мужик, к которому она, для начала, испытывает еле-еле теплые чувства. А теперь он разыгрывает из себя всего такого обиженного, потому что она не захотела заняться с ним сексом. Я мог это понять. Однако проблема заключалась в том, что были сделаны эти фотографии. На середине нашего разговора в очаровательном французском ресторанчике на Лафайет щелкнула еще одна фотовспышка. На этот раз со столика на противоположной стороне зала, за которым сидели четверо. Они засмеялись и даже помахали. Я не мог поручиться, что свет был направлен именно на меня, возможно, они просто фотографировали самих себя. Но в ретроспективе (что бы мы делали без ретроспективы!) это вписывалось в общий узор. У людей за тем столиком были сумки. Ну и что? А то, что это были сумки, предназначенные для аппаратуры, а не для одежды. (Ладно, может, я чуть-чуть слишком нагнетаю.) В тот воскресный вечер определенно был сделан еще один снимок. Я даже пошутил на этот счет. Я рассказывал ей, как мы с моим прежним партнером однажды снимались на лондонском телевидении, поскольку сделали великолепную рекламу. Я пытался произвести на нее впечатление. Дать ей знать, что она отвергает гребаного медиагения. И в результате рассказал ей, как сильно мне не нравился мой прежний креативный партнер.
– Вот кого бы тебе опустить вместо меня. Он этого заслуживает. Он нехороший человек. Тебе и твоим друзьям следовало бы на него поохотиться, – добавил я, кивнув в сторону того другого столика.
Знаете, вам придется сейчас простить меня, поскольку память подсказывает мне, что она ответила с многозначительным взглядом:
– Итак, ты знаешь.
А потом, как моя память говорит мне, я ответил:
– Разумеется, знаю.
– Тогда зачем ты это делаешь?
– Потому что мне это интересно, – сказал я.
Не то чтобы это могло что-то значить, но я знаю, что́, по моей мысли, это означало. И действительно прошу прощения, потому что даже не могу быть уверен, что этот диалог вообще имел место. Однако я точно упоминал своего бывшего партнера и даже рассказал ей, где тот работает, на случай, если она захочет его опустить. (Кстати говоря, я таки слышал, что он недавно ездил в Нью-Йорк жениться и в результате устроился здесь на работу. Молчать!) В общем, я оплатил счет и объяснил ей, что мои расходы берет на себя компания и что я зарабатываю больше денег, просто находясь в Нью-Йорке. Мои отельные счета и каждая крошка пищи оплачивались. Кажется, ей стало завидно.
Деньги были единственной темой, которая вызывала у Эшлинг явные эмоции. Ее чудесные глаза расширялись, когда этот предмет всплывал в разговоре. И что с того? Не могу ее в этом винить. Женщины любят деньги лишь постольку, поскольку мы, мужчины, мешаем им до денег добраться. Им приходится делать массаж нам и нашему эго, чтобы заполучить их. Иначе они бы и пальцем ради нас не пошевелили. Может, только трахались бы с нами изредка. Мы обращаемся с ними не лучше.
Мы ушли из ресторана. Не рискуя нарваться на отказ, я даже не пытался поцеловать ее в щеку. Я не хотел, чтобы вся эта история с дружбой стала официальной. По крайней мере, так оставалась еще какая-то надежда на секс. Итак, я стоял примерно в двух ярдах от нее (не сказать, чтобы она пыталась сократить расстояние) и говорил всякие вещи вроде «я тебе позвоню».
Как раз когда я собирался уйти, она произнесла:
– Ты придешь в среду?
Я в глубине души подпрыгнул от радости.
– О да, конечно, я совсем забыл, твоя выставка! По какому адресу?
Я помахал ей на прощанье и понесся прочь, словно у меня была еще тысяча дел, в направлении «Сохо Гранд».
В то время я работал в одном из самых знаменитых рекламных агентств мира над проектами двух его самых трудных клиентов, производителя фотоаппаратуры Nikon и журнала Fortune. Каким-то чудом все шло хорошо. Начальник, кажется, был доволен. Я не мог в это поверить, поскольку работал только вполсилы.
Итак, наступил великий вечер открытия выставки Эшлинг, и я ужасно нервничал. Предстояла встреча с ее друзьями. В мыслях я все еще считал себя ее бойфрендом. У нас просто был сложный период. Я имею в виду, я не то чтобы был слишком в этом уверен. У меня было мерзкое чувство, что я обнаружу нечто такое, что мне не понравится. Когда я явился туда, событие было уже в полном разгаре. Я протолкался сквозь впечатляющую толпу модных, комфортно чувствующих себя людей. Людей, которые, казалось, привыкли быть любимыми (странно так говорить, но именно такими они мне показались… пользующимися спросом). В общем, я попытался отыскать ее и поначалу не преуспел. Я видел огромную фотографию на задней стене бара. Вот и все, что там было. Большой бар и большое пространство стены за ним. Там было изображение фигуристов на льду, снятых в Вандербильт-Центре, с двойной экспозицией, так что один снимок накладывался на другой, создавая впечатление движения. На мой взгляд, такого рода работ можно было ожидать от фотографа в 1920–1930-х годах. Этакий русский Мэн Рэй, или если бы Кандинский заделался фотографом. Экспрессивность в классическом смысле слова. Я был шокирован тем, что мне это так понравилось, и разозлен тоже. Это означало, что она даже талантливее, чем я опасался. Она не только украла мое сердце, но теперь похитила и жизнь, которой я жил бы с превеликим удовольствием, если бы имел мужество не пойти в рекламное дело.
Не думаю, что в тот момент я понимал это на сознательном уровне, но мне было неуютно. Нет. Я завидовал. И сверх всего, когда я таки нашел ее, она держала в руках гребаную здоровущую камеру Iris, которую кто-то ей подарил (несомненно, какой-то мужчина), и гребаную большую пинту «Гиннесса». Пинту «Гиннесса»! Я вообще не видел ни одной за почти четыре года, не то что в руках девушки, которую любил. Земля у меня под ногами треснула.
Я вежливо кивнул, когда она представила меня подруге. Самой высокой девушке, какую я только видел в жизни. Должно быть, ростом за два метра. Я не шучу, она была охренеть какая огромная. Она приехала из Мэна специально для того, чтобы увидеться со своей подругой Эшлинг. Я сказал, типа, вот что значит дружеская верность. Она довольно свирепо заявила, что сделала это потому, что Эшлинг когда-нибудь станет богатой.
Помнится, мне это показалось странным. Итак, я застрял в беседе с пупком этой девицы о всяких благоглупостях, в то время как две самые большие любви моей жизни, «Гиннесс» и Она, скользили по бару. Эшлинг клевала поцелуем в щечку всех подряд. Заявился даже ее босс. Питер Фримен, как оказалось, был этаким седовласым существом херувимского вида в свободных джинсах и шерстяном свитере. Он выглядел гораздо старше, чем я его себе представлял. Чуть за пятьдесят. Помню, как испытал облегчение и подумал: что ж, по крайней мере, на его счет я могу не беспокоиться.
Я купил этой дылде порцию «Бейлис», и, по моему настоянию, мы присели за маленький столик, потому что я чувствовал себя до ужаса смешным, глядя ей в ноздри и притворяясь, что интересуюсь ее жизнью в Мэне. Единственное, что я от нее хотел, – это информацию о ее подруге, моей возлюбленной, восходящей звезде фотографии. Разумеется, я не получил ничего. Мы некоторое время сидели с ней, и вдруг я ощутил, как «Бейлис» расплескивается по моему лицу и груди. Сам себе не веря, я уставился на нее. Она случайно махнула пластиковой соломинкой в мою сторону. Принялась извиняться. Я осознал, что на моей нижней губе висит капелька. Я улыбнулся. Осторожно, тщательно вытер грудь и рот. Я отчетливо осознавал, что стоит только облизнуть губы, и может случиться все, что угодно. Между прочим, я договорился встретиться со своим другом Адамом из АА попозже вечером, если дела пойдут неважно. Это, решил я, и есть неважные дела. Как хорошо, что у меня был реальный человек, с которым я мог пойти и встретиться, вместо того чтобы хромать прочь под каким-то надуманным предлогом. Я посидел еще некоторое время и, угостив дылду еще одной порцией «Бейлис» (всегда джентльмен), попросил извиниться за меня перед Эшлинг, поскольку у меня назначена встреча за ужином.
Какая удача! Я выбрался оттуда. Та дылда излишне долго извинялась и пыталась сцапать меня за руку, умоляя снова присесть. Я ни за что не собирался оставаться – зачем, чтобы меня могли еще более подчеркнуто игнорировать? Да пошло оно все, сказал я себе, и вышел наружу, в приветливый мартовский вечер. Превосходно.
Всего через пятнадцать минут мы с Адамом шли наперекор неистовому ветру с дождем по Уильямсбургскому мосту. Мне это было на пользу. Полагаю, ему тоже. Я продолжал мысленно проигрывать тот момент с «Бейлис». Неужели это могло быть гребаной случайностью? Я пил все, что только попадало в руки, на протяжении более чем пятнадцати лет, и меня ни разу так не обливали выпивкой. Во всяком случае, случайно. Было слишком чудовищно предполагать, что она сделала это нарочно. Слишком параноидно. Так что я забыл об этом, – вроде как.
Я не стал звонить Эшлинг на следующий день. Я был убежден, что теперь знаю цену ей и ее компании. Я познакомился с парочкой ее приятелей (помимо той дылды), и у меня были все основания называть их богатыми скучающими ирландцами. Единственные типы, для которых унижение калчи (любого, кто не из Дублина) по-прежнему представляло какой-никакой интерес.
Но я сломался еще через день, позвонил и оставил сообщение со словами о том, какое удовольствие доставило мне знакомство с ее друзьями и что было бы чудесно как-нибудь снова вместе пообедать (вот я долбаный идиот, да). Она, разумеется, оставила другое сообщение, мол, да, было бы чудесно увидеться, и она с удовольствием пообедала бы со мной или еще что-нибудь, и т.д….
В конечном счете мы встретились за обедом в Cafe Habana на пересечении Принс и Элизабет, сразу за углом дома, в котором она жила. Я, конечно, пришел заранее, а она опоздала примерно на три четверти часа. Она ведь жила прямо за этим гребаным углом! Она даже специально привлекла внимание к этому факту. Я лишь пожал на это плечами – мистер Толерантность, мистер Понимание. Последовала обычная болтовня, ничего особенного, много чепухи о рекламе. А потом, ни с того ни с сего, она извинилась за довольно резкую реплику в мой адрес в тот вечер. Это оказало эффект пощечины. Вот что она сказала тогда:
«Была б твоя воля, так ты привел бы сюда все эти гребаные СМИ».
Это по поводу моих попыток впечатлить ее тем, что я считал хорошим способом «раскрутки» для ее выставки. Я хотел пригласить на открытие фотографов из разнообразных СМИ-идолов вроде Vogue, Elle и Vanity Fair. Я даже дошел до идеи поместить огромный снимок на стену, чтобы на любых фотографиях, сделанных на открытии, ее работа четко выделялась на заднем плане. Также помню, как сказал, что было бы прекрасно, если бы перед ее фотографией вспыхнула драка. Потому что если бы такая драка вспыхнула, а у нее «чисто случайно» оказалась установлена там камера, и она – тоже «чисто случайно» – сделала бы удачный снимок этой драки, то уже сам этот снимок стал бы одной из ее работ. Кроме того, будучи СМИ-торгашом, я понимал, что любому редактору любого журнала было бы трудно отказаться от такой фотографии. Им тоже нужно чем-то заполнять пространство на белых страницах, как и остальным нам. Какая ирония, что именно я на самом деле подал ей эту идею! Вся соль, конечно, заключается в том, что лучше всего она сработает, если удастся вовлечь в драку кого-то хорошо известного.
Но я опять забегаю вперед. Вы не должны позволять мне это делать.
Итак, вот она сидит и извиняется за свою резкость, говоря, что все дело в том, что она нервничала из-за открытия.
Я ей это простил. Конечно же, я это простил. А потом я произнес то, о чем сожалею. Я сказал:
– Можешь заплатить за это. Ты дожидалась такой возможности с тех пор, как мы с тобой познакомились. Это не разобьет мне сердце.
И вот что она сделала. Она рылась в кошельке, вероятно, ожидая, что я попрошу ее отложить его в сторону. Услышав слова «разобьет» и «сердце», она замерла. Ее глаза (о, эти глаза) поднимались от сумочки так, словно собирались вцепиться в мои, но неестественно остановились на полпути. Теперь казалось, что она смотрит в пол. Я знал, что она знает, что я за ней наблюдаю. В течение нескольких ударов сердца она так и сидела, а потом, словно заметив что-то на столе, позволила взгляду подняться до столешницы, моргая медленно-медленно, и теперь, без единого движения телом или головой, сместила его вверх и вбок за мое левое плечо, пока, наконец, он не совершил финальное диагональное восхождение по моей щеке и не вбуравился в мои глазницы.
– Я. Так. Не. Думаю.
Вот что она сказала. Словно знала, что может убить меня на месте, но время еще не пришло. Это была дисциплина, которая меня напугала. Это означало, что бы она ни делала, она делает это по профессиональным причинам. Не будет никакой страсти. А следовательно, и прежде никакой страсти не было. «Шелбурн» был просто необходимым актом, частью предварительно испытанной и опробованной формулы. Вплоть до того момента, когда она похлопала меня по плечу посреди занятий любовью и стала позировать, как шаловливая шестнадцатилетняя девчонка, дополнив образ кокетливой улыбкой и кивком указав вниз, на свое тело. Чтобы я гарантированно сделал задуманный ею мысленный моментальный снимок. Никто не смог бы сказать, что она не понимает природы фотографии. Сдержанность, которую она продемонстрировала во время того обеда, показала мне, насколько глубока степень ее искушенности, и это заставило меня желать ее еще сильнее.
Честно говоря, возникала мысль о том, что меня водят вокруг пальца, но я и хотел, чтобы меня вели куда-то… хоть куда-нибудь. В конце концов, если она этого желала и я мог ей это дать, то почему бы нет? Я ведь был влюблен в нее, правда? А еще я был заворожен. Я два года смотрел в Сент-Лакруа французские фильмы и ни разу не видел ничего настолько интересного. И еще, помимо прочего, всегда оставалась возможность, что мне удастся снова с ней переспать. Но в действительности я был рыбкой, а она – рыболовом. Весь вопрос был в том, что она захочет, чтобы я сделал дальше.
Дальше она захотела, чтобы я сопровождал ее на выставку в Новом Гуггенхайме на Бродвее. Сказано – сделано. Упомянуть стоит лишь об одном. Когда мы подошли к одному перекрестку, забыл, к какому именно, она развернулась и, словно желая не дать мне попасть под машину, очень сильно ударила меня в грудь. Я имею в виду – действительно сильно. С секунду я не мог вдохнуть. У меня закружилась голова, я ведь уже потерял от этих потрясений около стоуна веса. Я читал где-то, что, когда человек пребывает в эмоциональном шоке, область вокруг сердца теряет часть защитной жировой прослойки, и поэтому оно опасно обнажается. Один хорошо нацеленный удар может оказаться не просто очень болезненным: когда человек, который был в шоке, начинает снова набирать вес, сердце остается в «синяках», и это может привести к аортальной недостаточности. Жизни это не угрожает, но доставляет дискомфорт.
Мне было больно, но я притворился, что это не так.
Следующим портом захода в моем личном путешествии открытий стало «Шахматное кафе». Да, в Нью-Йорке есть такое заведение. В Сохо. Это было ужасно. Мы шагали мимо чуть ли не самой романтичной недвижимости на земном шаре, а я с тем же успехом мог гореть в аду. Совсем рядом со мной была девушка моих грез, но она же – источник наиболее сильной боли, какую мне доводилось испытать. В «Шахматном кафе» платишь доллар, чтобы арендовать столик, и можешь играть в шахматы сколько угодно. Там подают кофе, и, верное извечной шахматистской нейтральности, это было одно из немногих мест, где курение не только разрешалось, но и активно поощрялось. Все эти нахмуренные лбы хорошо смотрятся сквозь плюмажи сигаретного дыма.
Она победила меня с легкостью, и я обнаружил, что ерзаю на своем скрипучем стуле так же, как в «Фанелли». Во второй игре я опрокинул своего короля. Она выглядела разобиженной и обманутой. Обиженной потому, что я сократил длительность ее наслаждения. Обманутой потому, вероятно, что она планировала для меня долгую смерть от истощения, а я сам себя убил и лишил ее удовольствия. Кроме того, должно быть, это показало ей, как я играю в жизненную игру – воздерживаюсь от боли, вместо того чтобы длить ее. Она слишком активно протестовала. Словно это что-то значило.
Словно я задел больной нерв.
– Закончи игру! – крикнула она.
Я сказал, мол, не хочу длить агонию, и сделал ей комплимент по поводу того, как она хорошо играет в шахматы.
– Почему? Потому что я победила тебя?
К этому времени я уже почти хромал. Я был в психологических и эмоциональных лоскутах и лохмотьях. Еще один удар – и я бы заплакал. Завыл бы прямо на улице. Еще всего одно замечание – и из усталостных трещин у моих глаз начали бы просачиваться струйки, потом потоки и, наконец, наводнение превратило бы в каналы улицы Сохо.
Я должен был встретиться со своим добрым другом и наставником Дином в половине седьмого, и сказал ей об этом. Я никогда еще не был так благодарен за возможность убраться от нее подальше, как этим днем, – и все же сердце щемило при расставании. У меня не хватило храбрости даже поцеловать ее в щеку. Я боялся, что еще один, последний отказ – и я сорвусь. Я унесся от нее, наполненный яростью, смятением, страхом, любовью и облегчением. Мы договорились как-нибудь на неделе сходить в кино.
Меня тошнит от разговоров о ней. Но я должен рассказать кому-то всю историю. Не только отдельные куски там и сям, но всю ее, отчасти потому, что не уверен, что сам в нее верю. Я придерживаюсь того мнения, что если я ее запишу, то смогу, по крайней мере, уйти от всего этого. С этим будет покончено. Может быть, это сработает как предостережение другим.
Итак, на следующей неделе я был занят на работе и даже сумел сказать Эшлинг, что не могу пойти с ней в среду в кино, потому что меня домогается еще одно агентство. Это было правдой только на треть. Парень из другого агентства, писатель, хотел встретиться со мной и поболтать – и, да, у них была вакансия, но это место не славилось прекрасными условиями работы.
Мы с Эшлинг договорились встретиться «выпить» в баре в пятницу вечером. Я не знал, что это будет последний раз, когда я ее увижу. Я просто думал, что иду встретиться с девушкой, которую люблю, и это будет лишь одна из миллионов встреч, ожидающих нас на протяжении всего остатка жизни. Любовь была терпелива, добра и нетребовательна. Многое из того, что я далее опишу, происходило со мной не в то самое время, а позднее, когда я стал спокойнее и объективнее. В то время, могу сказать определенно, я день за днем пребывал в состоянии шока. Несомненно.
Я пришел туда рано. Она сказала – от половины девятого до девяти. Я явился около четверти девятого. Я был первым. Спустя пару минут в бар вошли ее подруга Шэрон (ирландка) и какой-то парень – будем называть его Бразильская Рубашка, потому что он на самом деле был одет в желтую бразильскую рубашку-футболку.
Шэрон поболтала со мной какое-то время, и Бразильская Рубашка бросил: «О, еще один?», когда я назвался другом Эшлинг. Я сразу же ощутил странность происходящего: он казался каким-то преувеличенно недружелюбным. Недружелюбным ради самого недружелюбия. Так продолжалось какое-то время, я мало говорил, а он пытался быть недружелюбным с человеком, который с ним соглашался.
Потом появилась она. Выглядела великолепно. Думаю, она успела опрокинуть пару порций спиртного. Может быть, даже догналась чем-то еще, судя по тому, как сверкали ее глаза. Может быть, это было лишь предвкушение. Казалось, все они в приподнятом расположении духа от чего-то, имеющего отношение только к ним. Если моя теория верна, они наслаждались восторгом предубийства. Или, может быть, просто предвкушали хорошее вечернее развлечение. Эшлинг едва взглянула на меня, едва заметила мое присутствие. Я был очень задет этим, но переключился в режим автопилота. Я сказал себе: вежливо улыбайся и ни в коем случае ничего им не показывай. Если бы я ушел прямо тогда, у меня получился бы куда более приятный вечер, и я не сидел бы здесь с этой писаниной. Но мне было любопытно проверить, не получится ли с ней переспать. Я знал, что она будет планомерно напиваться, а мне все равно было больше нечем заняться.
Мои варианты были таковы: (1) подвергаться пыткам от рук красивой блондинки, похожей на Деву Марию, хоть с какой-то отдаленной надеждой на секс, или (2) пойти на очередную встречу АА. На самом деле, здесь я несправедлив, поскольку на встречах нью-йоркского отделения АА в Сохо бывают самые сексуальные женщины, каких я только видел в своей жизни. Я был там на прошлой неделе. Но я продолжал сидеть, игнорируемый единственной девушкой на свете, которая была мне небезразлична, и получающий слишком много внимания от Бразильской Рубашки. Примерно после третьей пинты колы со льдом мне стало по-настоящему скучно. А потом у меня возникло это неопределенное ощущение в голове. Точнее было бы сказать – онемение. Вроде как там была боль, но что-то ее притупляло.
Бразильская Рубашка наклонялся очень близко к ней. Слишком близко. Достаточно близко, чтобы можно было ее целовать. Он не целовался с ней, но мне не показалось бы странным, если бы он это сделал. В какой-то момент он встал между ее ногами и наклонился над ней, а она в это время откинулась назад на своем барном табурете, опираясь локтями о стойку.
Это было нереально – то, как она смотрела через его плечо на меня, словно говоря: «Смотри, что я делаю. Смотри, что он делает. Разве это не вызывает у тебя гнев?» Вызывало. А еще это заставило меня почувствовать себя дураком. Но эта сцена оставалась неоднозначной для трактовки. Он, возможно, решил попытать счастья. Она была привлекательна, в конце концов, или, может быть, использовала свое право – право молодой цыпочки – пофлиртовать в пятничный вечер в баре в центре Нью-Йорка. Конечно. Но то, что случилось дальше, перевело происходящее на совершенно иной уровень.
А происходило вот что. Если можете, представьте, что стоите в баре, справа от вас барная стойка с большим зеркалом позади нее. Девушка, которую вы любите, сидит справа от вас, между стойкой и вами. Парень в бразильской рубашке, которого вы ненавидите, стоит спиной к вам и разговаривает с другой ее подругой. Девушка, которую вы любите, делает обеими руками жест, который может означать только одно. Она держит обе руки перед собой, словно описывая длину маленькой рыбки. Маленькой рыбки? Делая это, она хихикает и смотрит на вас. Вы на самом деле не осознаете, что она имеет в виду. Вы вопросительно смотрите на нее. Вы благодарны за то, что она вообще на вас смотрит. Она снова бросает на вас взгляд и показывает этот жест Бразильской Рубашке. Он смотрит на ее руки, потом на вас – и ухмыляется, словно ему за вас неловко. Почти сочувственный взгляд. Она наклоняется вперед и что-то шепчет ему. Его ухмылка становится шире. Теперь его лицо сияет. Она кажется более счастливой, чем вы когда-либо ее видели. Она прекрасна, но не хочет, чтобы вы так на нее смотрели. Она видит, насколько вы охвачены любовью. Она снова наклоняется вперед, и он нагибается, чтобы подставить ей ухо. Она могла бы поцеловать его в висок. Она снова показывает руками эту «рыбку». На этот раз «рыбка» еще меньше. Затем смеривает вас взглядом. Он повторяет этот взгляд. Они смеются вместе. Чтобы не чувствовать себя изгоем, вы тоже смеетесь.
Неловко. Затем он громко говорит, словно обращаясь к той другой девушке:
– Я бы сказал ему, что он мертв и похоронен и что поверх него похоронены еще четверо других. Сколько?..
С этим вопросом он поворачивается к ней, чтобы уточнить. Она считает на пальцах. Переигрывает, намеренно прижимая палец к губам, притворяясь, что задумалась, а затем загибает еще один палец. Он продолжает:
– Я похоронен поверх него… Я хотел бы быть похороненным поверх него… или в тебе.
Она бросает в ответ:
– Нет уж, сверху буду я.
Договор заключен.
Он пожирает ее глазами, точно они собираются заняться этим здесь и сейчас. Вы схватываете идею. Единственное, что есть в происходящем милосердного для вас, – это что они устроили представление не прямо вам в лицо, что позволяет сделать вид, будто вы не понимаете. И вы, насколько возможно светски, подвигаетесь к той другой девушке и заводите вежливый разговор. Вам нужно время. У вас мутится в голове. Если то, что вы думаете, действительно происходит, то вам лучше убраться отсюда, поскольку это по-настоящему мерзкое дерьмо.
Но вы не можете быть уверены. По крайней мере, не так быстро. Что, если вы неправы и скроетесь бегством? Это будет уже во второй раз. Это ее друзья, что они о вас подумают? Или она сама. Если они смеются над вами сейчас, что они сделают, когда вы уйдете? Так что вы остаетесь. Та другая подруга ничем вам не помогает. Она буквально оглядывается на нее, словно говоря: «Он – твоя проблема, сама с ним и разбирайся». Она разбирается. Вы облокачиваетесь на стойку, разговаривая еще с одним из ее друзей, с каким-то олухом из Голуэя. Кстати говоря, единственная причина, по которой вас пригласили, – это потому что здесь присутствуют двое ее друзей, приехавших в город только на выходные, с которыми вы должны познакомиться. Это, как вы позднее понимаете, и есть те студенты-издатели из Гарварда. Одна из них – ирландка, и вы хватаетесь за соломинку. Старые школьные приятели, несомненно. И они стоят примерно в пяти ярдах от нее. Потом это происходит. Медленно. Или, может быть, вам только кажется, что медленно, словно вы вспоминаете это в замедленной съемке. Бразильская Рубашка натянул зеленую камуфляжную куртку и держит в руках парусиновую сумку. Он подходит к вам и ставит сумку на пол рядом с вашими ногами. Взмахнув кистями рук, поддергивает выше манжеты, как пианист перед началом исполнения. Вы ощущаете облегчение, поскольку думаете, что он собирается уйти. Теперь он стоит перед вами, меряя вас взглядом с ног до головы. Он берет то, что, как вы знаете, называется экспонометром (используется фотографами для измерения количества света, отражаемого предметом), и делает замер. Эта штука направлена на вас. Жестами показывает какие-то числа людям, которые теперь подозрительно смахивают на маленькую аудиторию, состоящую из девушки, которую вы любите, и ее союзников. Они болтают между собой, но бросают взгляды на вас и вашего нового друга с нескрываемыми ухмылками и периодическими взрывами глумливого смеха. Вы спрашиваете Бразильскую-Рубашку-Теперь-В-Камуфляжной-Куртке, не собирается ли он сделать фото. Он не отвечает. Поскольку вы арт-директор, вам знакомы жесты, которые он делает, сообщая фотографу, какую скорость затвора и диафрагму установить на камере. Вы ощущаете неуверенность. Во всем этом есть что-то неправильное. Этот парень действует с профессионализмом, который начинает нервировать вас. Нынче вечер пятницы, разве не следует всем быть более расслабленными? Почему он так серьезен? Потом вы видите, что экспонометр исчез. Снова спрятан в сумку? А он держит в руках камеру. Отводит ее от себя. Плотно зажмурив один глаз, смотрит вначале сквозь объектив на свет, затем вниз. Он переигрывает. Его движения клоунские и гротескные. Словно он выполняет определенные действия, чтобы доставить удовольствие остальным. Однако что же это за удовольствие? Он смотрит только в объектив. Снимает с него пылинку, чтобы видно было отчетливее.
До вас доходит.
Поначалу вы думаете, что у вас паранойя, поскольку, будем смотреть правде в лицо, вы очень к ней склонны. Но потом вы осознаете, что это единственное решение всей этой эскапады.
Смягчая ситуацию креативной отвлекающей попыткой, вы говорите ему:
– Ты словно хочешь показать, что у меня маленький член.
Объектив камеры направлен точно на вашу ширинку.
Он прищуривается еще сильнее, когда она указывает туда. Вы смеетесь. Вам это не нравится, но вы смеетесь. Лучше смеяться вместе с другими, чем быть посмешищем. Вы соображаете. Вы видите его реакцию: он словно говорит «и как ты догадался?». Он обращается к аудитории за указаниями. Пожимает плечами. Указывает на вас, потом на собственную макушку и губами артикулирует слова «он знает» – или, по крайней мере, так вам кажется задним числом. Он пристально смотрит на вас озадаченным взглядом. Вы улыбаетесь. Вы думаете, что сами подали ему эту идею.
Он делает это снова. На сей раз откровенно.
Вот здесь я хочу внести предложение для киноверсии книги, которую вы сейчас читаете. После вступительных титров экран становится черным. Проигрывается симфония «Данте» Ференца Листа, появляется привычная претенциозная цитата белыми буквами на черном:
Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям…
Входящие, оставьте упованья.
Может быть, предостережение Данте следовало бы написать над дверью «Тома и Джерри». К этому времени Бразильская-Рубашка-Теперь-В-Камуфляжной-Куртке наставляет объектив на ваш член и открыто гримасничает якобы от усилий, которые прилагает, пытаясь рассмотреть вашу маленькую штучку. Он снова снимает с объектива воображаемую пылинку, которая наверняка скрывает от его взора ваш крохотулечный член. Смотрит на вас с глумливым сочувствием.
Вам это не доставляет удовольствия. Но вы не можете позволить ему это понять. Вы смеетесь, как будто считаете его очень остроумным. Смеется и аудитория. Теперь я знаю, что происходит, думаете вы. Они делают из вас дурака. Вы и есть развлечение. Пятничный вечер в пабе, и вы, мой друг, – угощение. Вы рискуете бросить взгляд на девушку, которую любите.
Она такая милая. Даже когда смеется над вами. А она смеется. Вам всегда нравился ее смех. Вы смеетесь вместе с ней. Ее смех усиливается. Она смеется над тем фактом, что вы смеетесь. Вот она указывает на Бразильскую-Рубашку-Теперь-В-Камуфляжной-Куртке. Вы прослеживаете взгляд ее смеющихся глаз. Он протягивает вам объектив. Он предлагает его вам. Вам приходит в голову, что, если вы его возьмете, по крайней мере, это положит конец всей мучительной трагедии. И вы его берете. Он теплый на ощупь… Но погодите-ка, забыл сказать, как же это я мог забыть? Чуть раньше вы попытались выйти в туалет, вы думали про себя: «Пошло все к такой-то матери. Я не обязан стоять здесь и терпеть это». И вы делаете движение в направлении туалета с намерением собрать в кучу мысли, а может быть, даже сумку и пальто, и убраться отсюда. Но нет! Два парня – один из них ростом около 195 см, очень аристократического вида – слишком твердо кладут руки вам на плечи и останавливают вас.
– Погоди, – говорят они, улыбаясь. – Давай-ка увидим это, – и указывают на объектив.
Вы говорите:
– Я вернусь через секунду, – и тоже улыбаетесь.
Но теперь речь уже не идет об обиде или даже гневе. Теперь вы напуганы. Они ведут себя достаточно любезно, но не дают вам пройти в туалет. Что это за хрень вообще? Вы стоите смирно. Вам нужно подумать. Парень с объективом подмигивает вам. Аудитория хохочет. Вы думаете, что можете попытаться прорваться сквозь их строй, но не делаете этого. Вы разворачиваетесь и просите бартендера позвонить в полицию. Вы улыбаетесь, озвучивая эту просьбу, но все равно просите. Он смотрит на вас странным взглядом, но недостаточно странным. Может ли он тоже участвовать в этом маленьком салонном развлечении? Он кажется недостаточно ошеломленным. Спрашивает вас, зачем звонить. Вы говорите ему, что эти парни к вам пристают, тыкая большим пальцем в грудь. Кажется, он послушался, но идет к аудитории, а не к телефону, и вступает в разговор с компанией. Теперь вы уже очень встревожены.
Итак, вы берете объектив, думая, что, может быть, ваша идея позвать копов показала Бразильской Рубашке, что продолжать это унизительное фиаско бессмысленно. Но вы не можете удержаться и не испытать его. Вы держите объектив под тем же углом, под которым он рассматривал вас. Направляете на его ширинку и прищуриваетесь. Чувствуете себя немного отмщенным. Делаете это еще раз. Так, уже достовернее. Но вам требуется пара секунд, чтобы осознать, что у него в руке – другой объектив, направленный на ваш уже осмеянный стержень.
На этот раз – гигантский объектив для телефотосъемки.
В этот момент вы должны были его ударить. Когда чаша переполняется. Но вы почему-то в порядке. Вы можете это стерпеть. До такой степени, что улыбаетесь ему.
Улыбаетесь ему?
Да. И это искренняя улыбка. По какой-то причине вы внезапно находите все это вроде как лестным для себя. Лестным потому, что эти урбанисты и космополиты так усердно старались унизить вас. Может быть, срабатывает защитный механизм, но, честно, именно это вы и чувствуете. Он снова подмигивает вам. Тем самым подмигиванием, которое является последним жестом перед тем, как два человека начинают драться. Я уже видел такое подмигивание прежде. Я участвовал во множестве драк в барах. Поправка: меня били во множестве драк в барах. Это подмигивание прямая противоположность тому, что оно обычно означает. Так один мужчина подмигивает другому, когда всплывает правда о том, что он втайне занимался сексом с его женой. Оно издевательски-дружелюбно говорит: «Я трахаю твою жену, а следовательно, и тебя». Это такое же интимное действие, как и последующая драка. Но вы не испытываете желания узнать этого парня ближе, чем уже знаете. Вы улыбаетесь. Ваша улыбка тоже говорит нечто прямо противоположное тому, что означает обычно. Она говорит: «Я не собираюсь ввязываться в драку с таким мудаком, как ты. Я не идиот». Он по-прежнему держит телефотообъектив.
И внезапно происходит гигантская вспышка света.
Гигантская.
Поначалу вы думаете, что это молния. Но в здании?.. Потом понимаете, что это вспышка камеры. И поскольку вы арт-директор, до вас доходит, что это не просто обычная вспышка камеры. Это такая вспышка, какую профессиональные фотографы используют в студиях. Кажется, что свет протянулся над всеми, как гигантская белая рука, которая потянула вас за грудь большим и указательным пальцами. Она почти вынула что-то из вас. Почти. После этого вы вспоминаете что-то насчет того, что аборигены, или новогвинейцы, или еще какие-то такие же первобытные люди верят, будто камера может украсть душу. Вскоре после всего этого вы с ними согласитесь. Но вы каким-то образом остаетесь невредимы. Вы просто это знаете. Вы это чувствуете. Нападение на вас произошло, и вы его отразили. Вы чувствуете себя отнюдь не прекрасно, но знаете, что выживете. Это хорошее чувство. Вы знаете теперь, что по какой-то причине они делают ваши профессиональные фотографии. Вам плевать. Все, что вы знаете, – это что от фотографии, на которой вы стоите в баре и улыбаетесь, никому никакого проку. Так что вы продолжаете улыбаться. И, не думая, отгибаете средний палец – идите-ка вы – на правой руке, а руку, в свою очередь, показываете аудитории. Не совсем победа, но вы чувствуете, что должны открыто признать: вы сознаете, что вас унижают.
Вот вам.
Глядя на них, вы ждете, когда будет сделан следующий снимок. Вы стараетесь сказать им: «Ладно. Так вы хотите меня фотографировать? Получи́те. Это единственное фото, которое вы сделаете со мной сегодня». Но у Бразильской-Рубашки-Теперь-В-Камуфляжной-Куртке появляется идея. Неплохая, приходится признать. Он начинает, прищурившись, разглядывать через телефотообъектив ваш поднятый палец. Это, конечно, не ваш член, но сойдет.
Вы понимаете, к чему он клонит, и снова опускаете руку. Он разочарован. Он знаком велит вам снова поднять руку. Вы отказываетесь. Теперь он раздражен. События идут не по плану. Он поворачивается к девушке ваших грез за вдохновением. Она занята, хвалит его за идею с пальцем. Бесшумно аплодирует ему. Он кланяется.
Она хочет повторить это еще раз.
– Мы это не сняли, – говорит Бразильская-Рубашка-Теперь-В-Камуфляжной-Куртке.
– Просто сделай так рукой еще раз, и мы оставим тебя в покое.
Его слова вы воспринимаете как победу. Вплоть до этого момента вы не были уверены, реальный весь этот фарс или воображаемый; в конце концов, в последнее время у вас было немало стресса; но теперь вы знаете наверняка. Вы решаете про себя, что, какие бы еще события ни произошли сегодня вечером, он/они/она не получат это ваше фото.
Вы улыбаетесь. Вы хотите, чтобы они знали, что вы побеждаете или, по крайней мере, верите, что побеждаете. Далее он достает расческу. Высоко поднимает над головой, чтобы видели все. Точно волшебник палочку, он держит ее между указательным и большим пальцами. Проворно причесывает сначала ваше правое предплечье, потом левое. Вы искренне озадачены таким развитием событий. Потом до вас доходит. Вы смотрите на нее. Ее лицо – сама утонченность, но глаза остекленели от ненависти.
К вам. Она ненавидит вас? Почему? Это сейчас не важно. Прямо сейчас вам нужно из этого выпутаться. К вашему стыду и вечному позору, у вас на спине и руках растут волосы. Позднее вы сделаете эпиляцию, но в данный момент они есть.
Единственным человеком в этом баре, кто знал о вашей растительности, была Эшлинг… а сейчас и мсье Бразильская-Рубашка-Теперь-В-Камуфляжной-Куртке. Она сказала ему. Начинает раскрываться чудовищность всего замысла. Она собирается вас уничтожить. Вот тогда-то вам приходится по-настоящему сдерживать себя, чтобы не изобразить какой-нибудь жалкий жест, типа ударить или пнуть кого-то. Вы будете испытывать вечную благодарность за то, что этого не сделали. Судебные иски в Соединенных Штатах – обычное дело, и человек, зарабатывающий 200 000 долларов в год, сто́ит усилий.
Бразильская-Рубашка-Теперь-В-Камуфляжной-Куртке уже внаглую пытается спровоцировать вас расческой, объективом и – время от времени – тычком пальцами в грудь, то и дело подмигивая. Вас продолжает защищать шок. Вам очень хочется наброситься на него, но что-то останавливает. Вы молитесь.
Я молился.
Может быть, это и помогло. На самом деле, я должен сказать об этом конкретнее. Я знаю, что помогло именно это. Иначе я попытался бы убить его. И, оглядываясь назад, тот факт, что он надел камуфляжную куртку, должно быть, означал, что он с уверенностью рассчитывал, что я попытаюсь. При наличии фотографий и свидетелей со всех сторон это было бы неудачным шагом. Моя рекламная идея насчет того, чтобы подбить кого-то подраться под ее фотографией, воплотилась бы в реальность. Поэтично.
Это был бы превосходный вклад в ее работу. Рекламщик, который падает на собственный отравленный меч. Она могла бы сыграть роль ангела мщения. Я воображал это красивое невинное лицо, выглядывающее с клапана суперобложки. Отличный черно-белый портрет, сделанный Питером Фрименом.
Нет, она не стала бы публиковать эту книгу, пока не закончила бы свою работу с ним. Имейте в виду, даже он не был застрахован. Ему следовало бы вести себя осторожнее. За четырехлетний период она могла нащелкать сколько угодно его фотографий.
Так что в конечном счете я не дал ей ничего из того, что она хотела для своей книги, за исключением нескольких статичных кадров, на которых я стою в баре с дурацкой улыбкой на лице. Может быть, они были достаточно хороши, чтобы их использовать. Может быть, нет, но я хотя бы не подарил ей фото, на котором катаюсь по полу в драке в баре. Пронесло!
Полагаю, мои записи – это попытка осмыслить то, что случилось, и забыть. Опять же, я сомневаюсь, было ли это на самом деле. Я словно все это вообразил. Самое странное – то, насколько умно была поставлена эта сцена. Я с удовольствием сам поучаствовал бы в чем-то таком семь лет назад, когда играл в похожие игры. Но мои тогдашние старания были не более чем духовным вандализмом. А это было сделано профессионально.
Я сорвал зло на девушке, с которой был четыре с половиной года. Эта половина имеет значение. Я поступал с ней по-свински. Неверный, нелюбящий и бо́льшую часть времени невменяемый. Она сказала, что ей нужно некоторое пространство. Поначалу я был рад, потом безутешен. Отличный повод, чтобы напиться. Я и пил. Много. Но в то время как все это спиртное вливалось внутрь, я развлекался тем, что использовал историю своего разбитого сердца, чтобы «кадрить» других девушек, забредавших в убогие бары, завсегдатаем которых я был. Я заманивал их в свои так называемые сети, а когда убеждался, что они влюбились в меня, начинал нападать на них. Я воображал себя беззаботным плейбоем в смокинге и шейном платке. Я наслаждался, причиняя им боль. Я не сознавал всей глубины ее воздействия. Я понимал, как сильно нравился им, только после того как делал им больно, а к этому времени было уже слишком поздно. Поправка. Я знал. Именно поэтому и делал им больно. Как могли они любить меня? Я наказывал их за то, что они любили меня. Я также знал, что даже после того, как я делал им больно, они продолжали любить меня – иногда даже больше – в силу своей натуры.
Мне стыдно признаться, но я считал это самой дьявольски продуманной частью всего дела. Тот самый факт, что они по природе были заботливыми и любящими, должен был становиться жерновом, который утопит их. Эта формула идеальна. Медсестра готова принести себя в жертву ради пациента. Но пациент страдает не от какого-то внешнего недуга, а от ран, нанесенных самому себе. Медсестра хочет уберечь его от этой боли. Пациент хочет, чтобы она тоже ощутила эту боль. Как иначе она его поймет? И она присоединяется к нему. Теперь у нас два пациента. Как-то так. Но я, по крайней мере, был способен распознать некоторые признаки происходящего. Чего никогда не сумел бы сделать, если бы сам через все это не прошел.
А еще я просто хочу включить сюда упоминание о «французском следе». После всей этой истории я узнал, что в Париже в среде аристократичных французов есть модная привычка приглашать на общественные мероприятия, как мы когда-то говорили в Ирландии, вербальную боксерскую грушу. Очень важно, чтобы жертва не знала, что происходит.
Жертву приглашают на ужин или иное сборище, и она поневоле обеспечивает остальным гостям всяческое веселье. Вечер считается успешным, если каждому удастся разок воткнуть нож в беднягу, и еще более успешным, если тот не знает, что происходит. Так что я знаю – вы, должно быть думаете: Иисусе, у этого парня бзик насчет всего этого дела. Но, говорю вам, я не хочу, чтобы ее книжонка вышла без всякой реакции с моей стороны. Я ведь буду абсолютно беззащитен.
Разумеется, я даже не знаю, сумею ли уломать кого-то это опубликовать, но надеюсь, что смогу издать свою книгу прежде, чем выйдет ее. Таким образом, первое слово в этом деле будет моим. Тогда мне будет до фонаря, какие мои снимки у нее есть.
В смысле – можете себе это представить?
Фото-долбаное-эссе – часть вашей жизни. Справедливость? Справедливость ли это, что кто-то будет манипулировать моим изображением после того, как я провел последние десять лет в рекламе, манипулируя другими изображениями ради денег? Может, и справедливость. По крайней мере, если вы это читаете, то можете выслушать мою сторону. Я знаю, что если бы увидел ее книгу и в ней был какой-то парень, связанный с рекламой, я просто сделал бы вывод, что он заслужил то, что получил. Стереотипы, видите ли. Вроде как я сам ожидал, что меня застрелят в Нью-Йорке, как только я сойду с самолета.
Так что, кстати, я опять отклоняюсь от темы. О чем бишь я? Ах да, «входящие, оставьте упованья»… Иисусе, я до сих пор содрогаюсь, проходя мимо этого бара. У меня теперь есть подруга, которая живет в том районе. Я часто хожу мимо него. Мне это не нравится. Она все об этом знает. Она француженка. Поначалу меня бесило, что она живет рядом с тем баром, поскольку я думал, что она – из команды Эшлинг и у нее есть задание растоптать меня еще сильнее. Она считает, что мне следует пойти к психотерапевту. Да я и так хожу на шесть встреч АА в неделю. Но она милая, и мне нравится. Я нравлюсь ей. Скажем так, мы нравимся друг другу. Кстати говоря, по-французски «член» будет bite. Так что я полагаю, это своего рода счастливая концовка, потому что ничего на самом деле не закончено, я по-прежнему живой и намерен таковым оставаться, и все еще жду выхода в свет ее книги.
На самом деле, мне только что пришло в голову, что у этой моей книги – если это книга – тоже нет конца, ни счастливого, ни иного. Это всего лишь запятая в предложении, которое будет дописано тогда, когда выйдет ее книга. Во всем этом есть элемент мести. Я способен понять, что здесь присутствует одна моя сторона – зашоренная, и печальная, и изломанная, и озлобленная, и вообще напоминающая корни какого-нибудь европейского дерева (в этой гребаной стране не увидишь корявых узловатых корней). Страница за страницей осунувшейся, изможденной желчности. Однако на самом деле я этого не чувствую, честно.
Погодите, вы пока еще не все слышали. Прямо перед тем как я решил уйти из «Тома и Джерри» в тот судьбоносный вечер, голубоглазая блондинка, которая выглядела слишком юной, чтобы ей наливали алкоголь, передала мужчине из Голуэя пинту кока-колы. Затем мужчина из Голуэя передал эту пинту колы мужчине из Килкенни, который ни разу не выпил спиртного за почти уже шесть лет. Он был алкоголиком. Ему вообще не следовало быть в баре. Он сильно рисковал. Он был, в конце концов, влюблен в девушку, которая только что купила этот напиток. Эта пинта колы не так уж сильно отличалась на вид от пинт «Гиннесса», к которым, казалось, припадали все остальные. В этом и была идея. Не отличаться. Вписаться. У него выдался странный вечер. К тому же он выпил много кока-гребаной-колы. Но этот бокал был от нее. Он был особенным. Он это знал. Она это знала. Мужчина из Голуэя это знал. Скажем так, это было известно. Мужчина из Килкенни взял в руку этот бокал. Она смотрела на него издали. Казалось, она старалась сохранять безопасную дистанцию. Словно боялась, что он может броситься на нее без предупреждения. Она почти как будто хотела, чтобы он бросился на нее. Она стояла там, готовая действовать, готовая спасаться бегством. Ее поза оказала на него странное воздействие. Он обнаружил, что ищет в своей душе причины, по которым ему могло бы захотеться броситься на нее.
Не нашел ни одной. Он был защищен от чего-то. Защищен чем-то другим. Чем-то таким, что встало между ним и побуждением броситься. Он логически понимал, что его выставили дураком, причем со знанием дела, но его право на ответ было… отложенным. Не отмененным, только оставленным на потом.
Она подняла бокал в насмешливом приветствии и подмигнула ему, словно говоря: «Попался!», – и от этого должно было быть больно, но не было. Не в тот вечер. Позднее это ранило его настолько глубоко, что ему приходилось скрипеть зубами, чтобы суметь вдохнуть. Озарения обжигали и резали его, словно сама кровь сделалась ядовитой. Точно вместо нее в нем текло толченое стекло. Он видел ее милое лицо, смеющееся над ним.
Однако в тот вечер все это на него не действовало. Он приподнял свой бокал и подержал его на весу, создавая, пусть даже всего на пару мгновений, симметрию между ними, которой вплоть до этого момента не существовало. Будь это кино, в нем были бы крупные планы: вначале ее улыбка, когда она поднесла свой бокал к губам, а потом его, когда он поднял свой. Монтаж: туда – сюда. Ее верхняя губа погружается в пенистую жидкость. Его – тоже. Она глотает. Он – нет. Она отводит бокал от губ и поднимает его высоко в триумфальном жесте. Его бокал остается на месте, перед нижней половиной лица. Его верхнюю губу холодит кола. Он ощущает запах водки. Он верит, что ощущает запах водки. Человек из Голуэя смотрит на них так, словно они играют в теннис. Человек из Килкенни повинуется некоему голосу, существование которого призна́ет только многие дни спустя: «НЕ ПЕЙ ЭТО». Его не мучит жажда. В конце концов, он выпил уже пять пинт этой дряни. Алкоголик не хочет пахнуть выпивкой. Забавно, право, можно было бы подумать, что нам наплевать. Но есть один маленький трюк, которому учишься, если не хочешь начать пить снова, – завести себе привычку нюхать все, что пьешь. Даже чай.
Хорошая привычка. Может спасти тебе жизнь.
Итак, вот оно, самое главное… если опубликуют это, то велика вероятность, что не станут публиковать ее книгу фотоэссе, поскольку ее методы были разоблачены. Или, если станут, первое слово будет за мной. Я уже успею обнажить все свои чувства в отношении случившегося. Если же это не опубликуют, тогда ее книга, вероятно, выйдет примерно через год, и я буду унижен или как минимум слегка опозорен, и она будет победительницей, и я навеки останусь благоговеть перед ней. Если вы это читаете, значит, мою книгу опубликовали, и теперь я работаю над следующей либо над сценарием по этой.
Поздравьте меня.
* * *
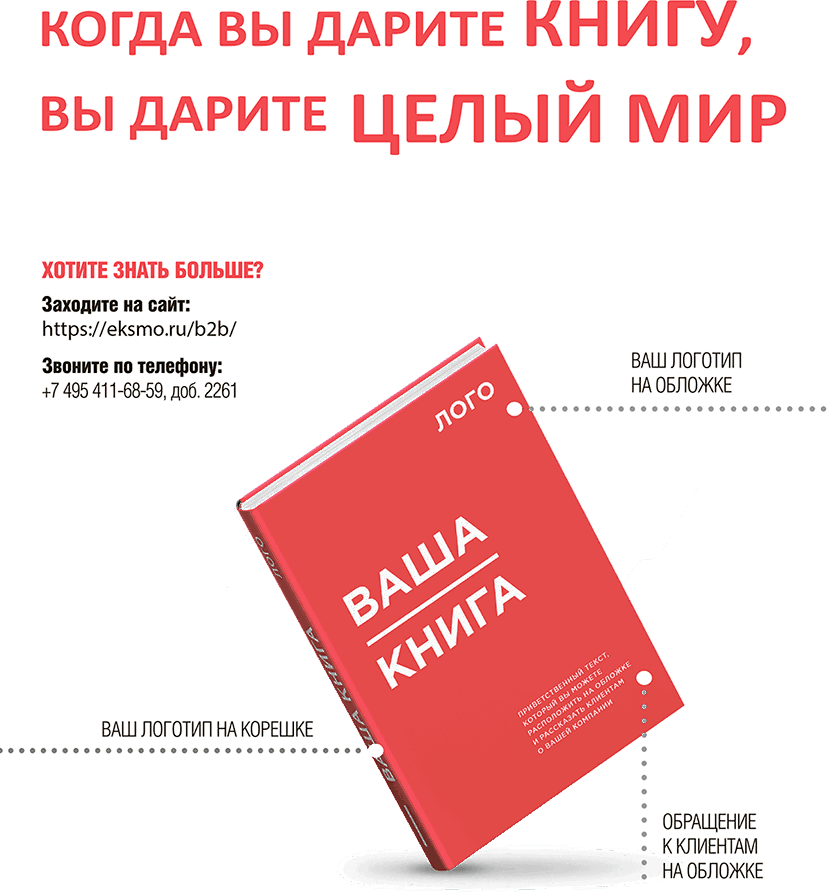
notes
Назад: 2. Я – абсолютный параноик
Дальше: Сноски

