10
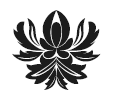
Случился однажды переполох на всю Халимунду: в куче мусора нашли младенца. Мальчик был жив, хоть его изрядно потрепали собаки, – и поняли люди, что вырастет он силачом. Много дней искали мать, но та не объявилась, а уж о том, кто отец, и подавно было не догадаться.
Вынянчила ребенка безмужняя старуха по имени Макоджа – весь город ее ненавидел, при том, что обойтись без нее никто не мог. Промышляла она ростовщичеством – все прочие занятия были ей недоступны. Крестьянствовать она не могла – никто бы не продал ей землю, а клочок, доставшийся в наследство, был слишком мал; работать тоже не могла – не брали, и все тут. Даже замуж ее никто не взял, хоть и предлагала она себя в жены шестнадцати мужчинам. Жила она одиноко и уныло, зато со всеми расквиталась: прикидываясь доброй, давала взаймы горожанам, терпевшим нужду, а потом душила их людоедскими процентами.
Словом, было за что ее ненавидеть, особенно тем, кто увяз в бесконечных долгах. Все ее сторонились, чурались, считали дрянней самых отъявленных грешников. Но если прижмет нужда и никакие другие средства не помогают, то стучались к ней в дверь, зная, что только здесь ждет их помощь, пусть и временная. Макоджа понимала, что их учтивые поклоны – лишь притворство, а за фальшивыми улыбками прячется отчаянная мольба, но что поделать, работа есть работа.
Все гадали, на что она пускает деньги, ведь богатства у нее не прибавлялось. Дом она не перестраивала, разве что стены иногда покрасит или сделает мелкий ремонт. Деньгами не сорила, родных у нее не было, и никто ни разу не видел, чтобы она клала выручку в банк, – значит, рассудили люди, старуха прячет деньги под матрасом. И вот однажды ночью залезли к ней в дом четверо грабителей. Соседи все знали и смотрели из-за занавесок. Макоджа невозмутимо наблюдала, как обшаривают каждый уголок ее жилища. И, все обыскав, денег так и не нашли – ни под матрасом, ни в печи, ни в кубышке. В шкафу оказалась только одежда, а в буфете – блюдо риса да миска морковного супа. Сдавшись, четверка в масках оставила поиски и обступила Макоджу, так и стоявшую в дверях спальни.
– Где деньги? – сердито рявкнул один.
– Буду рада вам одолжить, – улыбнулась Макоджа, – под сорок процентов, до конца недели.
Воры ушли, не сказав больше ни слова.
С тех пор Макоджу никто не грабил, тем более что вскоре взяла она ребенка на воспитание. О малыше она пеклась, потому что всю жизнь мечтала стать матерью, а еще потому, что не нашлось других охотников забрать его с помойки. Вот мальчик и рос у нее. Имя Макоджа дала ему славное, Бима, в честь могучего царевича из “Махабхараты”, но все звали его Идиотом, потому что никому не давал он житья, и вскоре все, кроме Макоджи, забыли его настоящее имя, а потом и сам мальчик забыл, и стал он зваться Эди Идиотом.
Ребенку пророчили страшную судьбу, потому что старуха Макоджа всем приносила несчастье – мать ее умерла от родов, а когда девочке было пять лет, погиб и отец: в кухню заполз скорпион и ужалил его. Макоджу взяла на воспитание вдовая бездетная тетка, перебравшись к ней в дом. А в семь лет Макоджа лишилась и тетки – той свалился на голову кокосовый орех и зашиб насмерть. Как бы там ни было, отец Макоджи держал ссудную кассу и наследство оставил ей неплохое – хватило, чтобы нанять служанку, но, когда Макодже было двенадцать, служанка умерла от скоротечной лихорадки. С тех пор никто больше не хотел жить с Макоджей – решили, что она приносит несчастье.
В молодости была она хороша собой. Многие были тайно в нее влюблены, но знали, что все, кто с нею жил, умирали, вот и женились на других, попроще: уж лучше прожить долгую жизнь с дурнушкой, чем стать мужем красавицы и вскоре после свадьбы умереть. Никто не знал, отчего сыплются на нее несчастья, и никому в голову не приходило считать это простым совпадением. Всем больше по душе была страшная версия, и до самой смерти Макоджа так и не познала мужчины.
Макоджа давала в рост деньги, но ее страшила одинокая старость. Многих хороших людей просила она взять ее в жены, но те ей отказывали. Предлагала она себя в жены и людям дурным – игрокам, забулдыгам, – но и те от нее шарахались. Предлагала она и нищим, но те предпочитали голодать, чем жить в роскоши с нею. Наконец в сорок два года бросила она искать себе мужа и решила усыновить ребенка, но и тут ничего не вышло, и жила она одна до того самого дня, когда принесла в дом младенца с мусорной кучи.
Эди Идиот рос у Макоджи, и, казалось, проклятие его не коснулось. Одно было плохо: никто из детей не хотел с ним водиться, наслушались разговоров в своей семье. Дети сторонились Эди Идиота, как их родители избегали Макоджи, обращаясь к ней только за деньгами. Вот и вырос Эди Идиот сорвиголовой – никому житья не давал. Буянил, чуть что не по нем. Скажут обидное слово – осыпал бранью, и другие дети держались от него подальше.
Чтобы его зауважали, пускал он в ход силу.
В итоге удалось ему сколотить компанию из школьных изгоев. Видел он, как весь класс насмехается над двумя ребятами-калеками, видел, как дразнят тощего, вечно голодного парнишку, а еще одного сторонятся за то, что он сын кули и воровки-карманницы, – и стоял за них горой, вступался, когда их обижали, безжалостно набрасывался на их мучителей. Стал их защитником, и так крепко сдружились они, что вся школа разделилась на две части: хорошие дети и шайка Эди Идиота.
Они сделались чумой всего города. Если другие мальчишки отваживались лишь на мелкое озорство, то Эди Идиот мог перерезать у соседа всех кур, чтобы было чем попировать на пляже. В одиннадцать лет ограбил трактир – ранил хозяина, вынес море бутылок пива и арака, а потом нализался с дружками на плантации какао. Всех проституток в городе они тоже перепробовали и уже в детстве успели узнать, как выглядит изнутри тюремная камера. И всякий раз Макоджа их вызволяла, подкупив полицейских, и что бы ни натворил Эди Идиот, нисколько не огорчалась. Напротив, старуха им гордилась.
– Пусть пакостит здешним жителям, – заявила однажды Макоджа охранявшим его полицейским, – как те мне пакостили много лет.
Так оно и было. Когда родители грозились забрать своих детей из школы, если не исключат Эди Идиота, директор, не в силах отказать, все-таки выгнал Эди, а наутро все окна в школе оказались выбиты, ножки у столов и стульев поломаны, а флагшток опрокинут.
Чего только не вытворял Эди в свои двенадцать лет! Заходил в магазины и требовал у хозяев денег, откажут ему – бил витрины. Мог завалиться в бордель и не заплатить, пробирался в кинотеатр без билета, а если кто-то был недоволен – затевал драку и всегда выходил победителем.
Чтобы найти на буяна управу, хозяева нескольких магазинов наняли премана, которого Эди Идиот в драке и убил. Снова отправили его в тюрьму, но там он затеял бунт – разгромил все камеры, отдубасил охранников, и его поскорее выпустили на волю. Вновь очутившись на улице, убил он в драках еще двоих-троих, но полиция уже рукой на него махнула.
И Эди Идиот занял пост на углу у автовокзала – восседал, как на троне, в кресле-качалке, оставшемся от японцев. Понемногу набрал он себе свиту – кого-то победил в драке, но большинство приходили к нему по доброй воле. Обложил данью и лавочников, и все автобусы на автовокзале, даже проходящие, и все палатки на рынке, и рыболовные суда, и бордели, и пивные, и все фабрики льда и кокосового масла, даже всех возчиков и рикш-бечаков.
Весь город держали в страхе Эди Идиот с дружками. Трезвые или пьяные, творили они что хотели: таскали кур, били окна, приставали к девушкам – одиноким и с провожатыми, – даже сандалии воровали с порога мечети. Ручные горлицы в клетках, боевые петухи, белье с веревок – все пропадало.
Досаждала шайка и “золотой молодежи”: попадешься им на улице – разуют, отберут гитару. А уж сколько сигарет удавалось настрелять им за день, и не спрашивайте. Если кто возмущался, то лишь нарывался на драку. Было ясно, что банда непобедима, особенно если сам Эди Идиот пускал в ход кулаки. А главное, полиция смотрела на все сквозь пальцы, как на детские шалости.
– На белом свете он не жилец, – утешали себя иные. – Он живет под одной крышей с Макоджей, это говорит само за себя.
– Умереть-то он умрет, вопрос – когда.
Смерть настигла его только через три года. Макоджа умерла раньше – скоропостижно, однажды утром, сидя на стульчаке. Нашел ее сам Эди Идиот. Встал в девять утра, а завтрака на столе почему-то нет. Весь дом обошел, но старухи нигде не было, а увидев закрытую дверь уборной, он почуял неладное. Пытался открыть – заперто изнутри. Выломал дверь – Макоджа сидела голая на стульчаке, мертвая.
– Мама, ты что, умерла? – крикнул Эди Идиот.
Макоджа не отвечала.
Эди Идиот ткнул ее пальцем в лоб, и тело рухнуло на пол.
Весть о ее смерти обрадовала горожан: почти все были у нее в долгу. Никто из соседей не хотел обряжать покойницу, и Эди Идиот сам отнес ее к Камино, могильщику. Камино в то время был еще холост – кому из женщин охота жить на кладбище? – и вдвоем они готовили тело к погребению, пока не подоспел, сжалившись над ними, кьяи. Тот велел обмыть тело, и на пару с могильщиком читали они над Макоджей молитвы, а Эди Идиот напряженно ждал. Так Макоджу, на весь город знаменитую, всякого готовую выручить в нужде, хоронили всего трое.
В наследство Макоджа оставила Эди Идиоту лишь дом и двор. Куда исчезли ее сбережения, никто не знал. Эди Идиоту деньги были не нужны – в отличие от горожан, считавших их своими кровными. И еще много лет охотились люди за деньгами Макоджи. Говорили, что под землей у нее был тайник, и рыли от соседского дома подкоп. Ничего не нашли, но один из кладоискателей погиб, надышавшись ядовитыми испарениями, и туннель сразу же завалили.
Всеобщая радость была недолгой. Думали, раз Макоджа умерла, Эди Идиот присмиреет или хотя бы затаится на месяц-другой, погрузившись в траур. Но как бы не так. Стал он водить домой девчонок, и отцы сбивались с ног в поисках дочек. Мог заявиться в любую незапертую кухню и потребовать еды – сядет за стол и уплетает, только успевай подавать. И это еще цветочки – числились за ним и убийства, и налеты на автобусы.
Когда вернулся из джунглей Шоданхо, многие ждали, что он избавит город не только от диких свиней, но и от преманов. Но Шоданхо ни в какую.
– Не тронь дерьма, – пояснил он, – и вонять не будет. – В подробности он не вдавался, но все поняли: связываться с Эди и его шайкой – себе дороже.
В то время многие горожане сидели подолгу у себя на верандах с хмурыми лицами. Если спросят: “Что вы тут делаете?” – они в ответ: “Ждем, когда Эди Идиота в гробу понесут”. Надежды их так и не сбылись. Умереть-то он умер, только в гробу никогда не лежал – утонул, а тело досталось акулам.
Да, появился однажды утром никому тогда не известный Маман Генденг и убил Эди в легендарной драке, что длилась семь дней и семь ночей. Вначале никто не верил, что буяну и вправду конец, но вскоре все будто очнулись от дурного сна: Эди Идиот, оказывается, тоже смертен, как и всякий человек. Жители были от души благодарны незнакомцу, и очень скоро Маман Генденг стал в городе своим.
В честь победы закатили пирушку, равных которой не было ни до ни после. Даже двадцать третье сентября, День независимости Халимунды, никогда не праздновали с таким размахом. Целый месяц длились ночные ярмарки, приехал бродячий цирк – слоны, тигры, львы, обезьяны, змеи, гимнастки-лилипутки и клоуны-карлики – куда же без них? На каждом углу шли бесплатные представления синтрен и куда лумпинг. Парочки гуляли свободно, не опасаясь банды Эди Идиота. Куры снова расхаживали по дворам, а двери кухонь перестали запирать.
И когда Маман Генденг заявил права на Деви Аю, люди не так уж и огорчились – хоть и немалая потеря, зато достойная награда для героя, убившего Эди Идиота, несносного сына Макоджи.
Но однажды душным тропическим днем встал Маман Генденг с кресла-качалки красного дерева, что перешло к нему от Эди Идиота, и отправился с автовокзала в ближайший магазин. В ушах шумело и стучало, он потребовал ящик холодного пива – еще бы, в такое-то адское пекло! – но хозяин вынес всего бутылку. Маман Генденг рассвирепел – вдребезги разнес витрину, взял целый ящик и обругал хозяина за неучтивость. А потом вернулся в свое кресло-качалку и промочил краденым пивом пересохшее горло.
И поняли жители Халимунды: ничего для них не изменилось. Эди Идиот мертв, но на смену явилось новое чудовище, Маман Генденг.
Когда отгремела пышная свадьба Аламанды, Деви Аю велела молодым перебираться в новый дом. Ее весьма огорчили недавние события и то, как повлияли они на старшую дочь. Не раз предостерегала она Аламанду, что нельзя так обходиться с мужчинами, но Аламанда в кого-то из предков уродилась упрямой, и теперь ей аукнулось.
Никогда не думала Деви Аю, что станет матерью трех красивых, но своенравных дочерей, а те будут охотиться за мужчинами лишь затем, чтобы оттолкнуть их прочь. У Аламанды дурные задатки проявились сразу, едва та стала заглядываться на мальчиков, а теперь и Адинда, похоже, шла по стопам старшей. С детства тихоня и домоседка, после скоропалительной свадьбы сестры она вдруг повадилась исчезать из дома. Вот бесстыдница, вечно пропадает с коммунистами на их шумных сборищах! Да еще и бегает за бывшим возлюбленным Аламанды, Товарищем Кливоном. На что он ей, непонятно – возможно, задумала отомстить сестре. Беда с ней, да и только.
Мужчины охотятся за моим причинным местом, говорила себе Деви Аю, а дочери мои охотятся за причинными местами мужчин.
Но еще сильнее болела у нее душа за младшую, двенадцатилетнюю Майю Деви, – вдруг последует примеру старших, непутевых? Девочка растет послушной, умницей-разумницей. Трудится как пчелка, всюду в доме наводит красоту и уют. Каждое утро срезает свежие розы и орхидеи, ставит в вазу в гостиной. По воскресеньям сметает с потолков паутину. Учителя на нее не нахвалятся, и каждый вечер садится она за учебники, чтобы не оставлять уроки на утро. Но все может перемениться, как у Адинды, – этого и боялась Деви Аю.
Ей хотелось поскорей сбыть Майю Деви с рук, до того как та подрастет и ударится во все тяжкие. Всю жизнь быстрый ум выручал ее в любых переделках – решения она принимала молниеносно. Нельзя допустить, чтобы Майю Деви постигла та же горькая участь, что выпала Аламанде и, возможно, ожидает Адинду. Но кому доверить двенадцатилетнюю дочь? Не выдавать же за первого встречного!
Решила Деви Аю спросить совета у любовника, Мамана Генденга. Однажды в воскресенье пошли они втроем в городской парк и провели там весь день – ели всякие лакомства, кормили с ладони оленей, качались на качелях. Деви Аю смотрела, как Маман Генденг водит Майю Деви за руку, показывает ей павлинов, схоронившихся в кустах, бросает орехи стае обезьян. Деви Аю даже не огорчилась, что о ней будто совсем забыли. Вот Маман Генденг с девочкой вышли на обрывистый берег и считают, сколько в небе чаек.
Когда они вернулись с прогулки и Майя Деви убежала куда-то с подружками, Деви Аю заговорила наконец с Маманом Генденгом:
– Почему бы вам не пожениться?
– Кому? – не понял Маман Генденг. – Кому это – нам?
– Тебе и Майе Деви.
– Да ты рехнулась! – опешил Маман Генденг. – Если я на ком и хочу жениться, то на тебе!
За бокалом холодного лимонада поделилась Деви Аю своими тревогами. Они сидели вдвоем на веранде, греясь на солнышке. Шумел вдалеке прибой, хлопотали воробьи в гнезде под крышей. Вот уже почти год были они любовниками, проститутка и клиент, заявивший на нее права. Деви Аю твердила: Майю Деви надо выдать замуж, а поскольку никого подходящего нет, единственный кандидат – Маман Генденг.
– Значит, спать со мной ты больше не желаешь?
– Этого я не говорила, – возразила Деви Аю. – Можешь навещать меня у мамаши Калонг, как все мужья, коли не постесняешься.
– Этим должно было кончиться, – буркнул Маман Генденг.
– Хоть раз в жизни о других людях подумай! Все мужчины в Халимунде с ума сходят! Их до смерти огорчает, что из-за тебя одного меня нельзя трогать. Отпустишь меня – станешь для них героем. А взамен получишь девочку, да такую, что никогда не пожалеешь, – младшую дочь прекраснейшей в городе проститутки!
– Ей же всего двенадцать!
– Собак вяжут в два года, а кур топчут в восемь месяцев.
– Но она-то не цыпленок и не щенок!
– Сразу видно, в школе ты не учился. Человек – млекопитающее, как собака, а ходит, как курица, на двух ногах.
Маман Генденг успел изучить нрав Деви Аю – или, по крайней мере, так думал. Если она что-то вбила в голову, пусть даже глупость несусветную, ей хоть кол на голове теши. И холодный лимонад не помог, он весь задрожал, будто на пути у него мост шириной в семь волосков, перекинутый над преисподней.
– Но хорошего мужа из меня никогда не выйдет, – возразил он.
– Ну так будь никудышным мужем, дело твое.
– И неизвестно еще, согласится ли она.
– Девочка она послушная, – заверила Деви Аю, – все просьбы мои выполняет, вряд ли она откажется.
– Нов постель с такой малявкой я точно не лягу.
– Подожди лет пять, велико дело!
Все, казалось, уже решено. И Маман Генденг, хоть и бывалый преман, содрогался при мысли, что станут говорить о таком браке. Скажут, будто он растлил девочку и его женят насильно.
– Бери ее в жены из любви ко мне, – сказала Деви Аю, – раз уж ничем больше тебя не проймешь.
Слова ее прозвучали для Мамана Генденга приговором. В мозгу будто пчелиный рой загудел, а в животе запорхали стрекозы. Отхлебнул он лимонаду, смыть этих тварей, да где там! Хуже того, в груди будто чертополох разросся, колет изнутри шипами! Безвольной тряпкой упал в кресло Маман Генденг, полуприкрыв глаза.
– Зачем ты так, с бухты-барахты, на меня все это обрушила? – спросил он.
– Скажи я в любое другое время, тебе было бы не легче.
– Уложи меня где-нибудь, мне надо передохнуть минутку.
– Моя постель всегда к твоим услугам.
Почти четыре часа проспал Маман Генденг, тихонько похрапывая. Сон – первое средство от пчел в голове, шипов в груди и стрекоз в желудке. Деви Аю то прихорашивалась в ванной, то сидела в гостиной с сигаретой и чашкой кофе и ждала, когда он проснется. Тут пришла Майя Деви, попросилась искупаться, но мать велела ей подождать, усадила подле себя.
– Доченька, скоро ты выйдешь замуж, как твоя старшая сестра Аламанда, – сказала Деви Аю.
– Говорят, выйти замуж – проще простого, – отозвалась Майя Деви.
– Верно. Куда трудней развестись.
Вышел из спальни Маман Генденг, бледный, точно лунатик, и рухнул в кресло, избегая смотреть на девочку, сидевшую подле матери.
– Видел я сон, – начал он. Деви Аю и Майя Деви молча ждали продолжения. – Снилось мне, будто меня змея укусила.
– Добрый знак, – ответила Деви Аю. – Скоро вы станете мужем и женой. Сбегаю за деревенским старостой.
Так Маман Генденг в тридцать лет стал мужем двенадцатилетней Майи Деви, в том же году, когда вышла за Шоданхо Аламанда. Тихую, скромную свадьбу сопровождали пересуды – все гадали, что за этим стоит. Зато, на радость мужчинам Халимунды, снова можно было навещать Деви Аю в заведении мамаши Калонг.
Деви Аю оставила молодым свой дом и двух слуг, а сама с Адиндой перебралась в один из свежеотремонтированных домов японской постройки. Деви Аю нравилось, что ванны в тех домах огромные, настоящие бассейны.
– Если и ты хочешь замуж, говори, не стесняйся, – сказала она Адинде.
– Я никуда не тороплюсь, – отозвалась Адинда. – До конца света еще далеко.
Накануне своего отъезда Деви Аю приготовила молодым роскошную спальню, благоухавшую жасмином и орхидеями. Заказанную в городе кровать с модным пружинным матрасом доставили еще днем и завесили розовой москитной сеткой, собранной в изящные складки. Стены украсили цветами из гофрированной бумаги. Но вся красота пропадала даром, ведь о первой брачной ночи и речи не шло.
Вместо этого Майя Деви в пижамке принялась скакать на кровати. Она испытывала на прочность матрас, как много лет назад в японском борделе ее мать. Вдоволь налюбовавшись всей этой роскошью, улеглась она в обнимку с подушкой и стала поджидать жениха. Вошел Маман Генденг, в крайнем смущении. Он не прыгнул в кровать, не обнял жену, не набросился на нее с яростью, подобно многим молодым мужьям. Он придвинул к кровати стул и замер, глядя в лицо девочки с такой мукой, будто та умирала на его глазах. Малышка между тем была очаровательна. Блестящие черные волосы разметались по подушке, глаза, устремленные на него, были ясны и невинны. Носик, губки – все дышало прелестью. Но все в ней еще так хрупко! И руки еще детские, и икры, и грудь под пижамкой едва наметилась. Нет, не станет он спать с такой малышкой.
– Что ты притих? – спросила Майя Деви.
– А что мне, по-твоему, делать? – ответил Маман Генденг чуть ли не жалобно.
– Сказку хотя бы расскажи.
Сказки сочинять Маман Генденг был не мастер – рассказал единственную, что знал, о принцессе Ренганис.
– Если будет у нас дочка, назовем ее Ренганис, – предложила Майя Деви.
– Я и сам об этом думал.
И каждый вечер одно и то же: первой ложится Майя Деви в пижамке, потом приходит Маман Генденг, все такой же потерянный. Придвинув стул, смотрит на молодую жену все так же хмуро, а Майя Деви требует сказку. И рассказывал он всегда одну и ту же, почти слово в слово, – о принцессе Ренганис, которая вышла замуж за дикого пса. Но все же вечера эти были счастливыми, и на лицах молодых не было написано скуки. Майя Деви обычно засыпала, не дослушав сказку. Укроет ее одеялом Маман Генденг, задернет москитную сетку, погасит лампу, зажжет ночник. Полюбовавшись мирно спящей девочкой, тихонько прикроет за собой дверь, поднимется на второй этаж, в свою одинокую спальню, и спит там до утра, а утром придет жена с чашкой горячего кофе. Деви Аю с Адиндой у себя в новом доме потешались: смех, да и только!
Маман Генденг завел новый распорядок. Вставал по утрам, пил кофе, сваренный женой. Через полчаса служанка Мира подавала завтрак, и они с женой садились за стол, как все счастливые семьи. Вначале Маман Генденг, большой любитель с утра поваляться в постели, выходил к завтраку с неохотой. Но после завтрака жена позволяла ему вернуться в постель, а на сытый желудок ему спалось еще слаще. Когда Маман Генденг просыпался снова, часов в десять утра, на кровати его уже ждала отглаженная одежда. Он принимал ванну, что раньше делал нечасто, и одевался. Он не узнавал себя в зеркале: рубашка с воротником на пуговках, строгие брюки с аккуратными стрелками. Лишь ради Майи Деви был он согласен ходить таким щеголем. Поцеловав в дверях жену в лоб, шел он на свой “пост” у автовокзала.
Спустя время он ко всему привык, пусть приятели и смотрели на него косо, не узнавая его. Беспрестанно тоскуя по дому и по жене, он больше не засиживался до вечера на автовокзале, а спешил домой, едва перевалит за полдень.
Однажды вечером, спустя месяц после свадьбы, Майя Деви спросила:
– Можно мне вернуться в школу?
Маман Генденг слегка опешил. Конечно, по возрасту она еще школьница, ей и положено с утра до полудня быть на занятиях, но где это видано, чтобы замужняя женщина сидела за партой? Задумался Маман Генденг и вскоре понял, что брак их не такой, как у всех. С женой он ни разу еще не спал и желания к тому не имел. Пожалуй, пусть лучше вернется в школу.
Но не тут-то было. В школе ему отказали – дескать, замужней женщине здесь не место, будет дурно влиять на детей. Пришлось Маману Генденгу идти к директору и просить, чтобы его жену допустили к занятиям. Кончились переговоры скандалом: директора он прижал к стенке, а двух учителей, подоспевших на помощь, раскидал в стороны. Спустя годы он поступит так же, когда в школу откажутся принимать его дочь, Ренганис Прекрасную.
Насмерть запуганное, школьное начальство разрешило Майе Деви вернуться.
Семейная жизнь потекла так же мирно, как прежде. По утрам Майя Деви, как обычно, будила мужа чашкой горячего кофе, только вместо домашнего платья была на ней школьная форма. Они садились завтракать; точь-в-точь отец с дочкой – думали слуги. Без четверти семь Майя Деви брала портфель. Маман Генденг чмокал ее в лоб на прощанье и, проводив, снова ложился.
Домой Майя Деви возвращалась раньше мужа и старалась к его приходу все подготовить. По вечерам, после ужина, садилась за уроки. Маман Генденг с домашним заданием помочь ей не мог и просто сидел рядом, преданно глядя на нее. Освобождалась Майя Деви часам к девяти. И ложилась спать, но уже не просила сказок о Ренганис Прекрасной, которая вышла замуж за пса. Надев пижамку, ныряла она под одеяло. Заходил Маман Генденг, укутывал ее потеплей, задергивал шторы, гасил лампу, зажигал ночник и говорил:
– Спокойной ночи!
– Спокойной ночи! – отвечала Майя Деви и закрывала глаза.
В постель он с ней не ложился даже спустя год после свадьбы.
Однажды вечером зашел Маман Генденг к мамаше Калонг проведать Деви Аю, как в старые добрые времена. Та уже выпроводила единственного клиента.
– Зачем пожаловал? – спросила Деви Аю.
– Хочу тебя, сил нет.
– У тебя жена есть.
– Эту прелестную крошку я не трону. Не смею осквернять ее чистоту. Хочу спать с тещей.
– Ай, зятек, ай, озорник!
И любили они друг друга до зари.
Странная дружба Мамана Генденга с Шоданхо завязалась за карточным столом посреди рыночной площади. Потому странная, что с тех пор, как Шоданхо силой взял Деви Аю, а Маман Генденг заявился к нему в штаб, между ними укоренилась вражда. И еще сильней отягощали ее стычки между подручными Мамана Генденга и солдатами Шоданхо.
Солдаты в борделе расплачивались неохотно, но преманы были тут как тут, караулили всякого, кто спит с проституткой, не заплатив. Не платили солдаты и в трактирах, и в кабачках под открытым небом – хозяевам было все равно, потому что солдаты много никогда не пили, зато преманам, для которых трактиры, считай, дом родной, это было как пощечина. Мало того, один преман вечно попадался солдатам из-за какой-нибудь ерунды – скажем, выпьет лишнего и давай в витрины камнями кидаться, – и колотили его солдаты за штабом, отпускали чуть живого. Отсюда постоянные мелкие стычки между солдатами Шоданхо и бандой Мамана Генденга.
Но до поры до времени все недоразумения разрешались легко. Поймают солдаты премана, изобьют до полусмерти – тут же банда хватает у дороги солдата и дубасит на плантации какао. Задержат бандита, засадят в каталажку – придет на выручку Маман Генденг с небольшой взяткой, чтобы заткнуть рты солдатам. Был между ними и посредник, полиция, но те по большей части отсиживались на своих постах и только руками разводили.
Многие надеялись, что Шоданхо приструнит бузотеров, но, как и с Эди Идиотом, надежды разбились в прах: Шоданхо, поглощенному семейными передрягами и спорами с Союзом рыбаков, было не до Мамана Генденга. И его репутация героя рухнула, даже больше: ему перестали доверять, начали подозревать в сговоре с преманами, тем более что оба, и Шоданхо, и Маман Генденг, зятья Деви Аю.
Случилась однажды заваруха, солдат из штаба сцепился с вышибалой в заведении мамаши Калонг – не поделили девчонку. Завязалась драка на улице, подоспели их дружки. Стычка один на один переросла в побоище между солдатами и бандитами.
И неважно, с чего все началось, но уже через час десятка два тенистых деревьев у дороги были выкорчеваны, а витрины магазинов перебиты. Посреди улицы валялись булыжники и сгоревшие покрышки, две машины опрокинуты, а полицейский участок подожжен.
Люди в страхе попрятались по домам. Улица Свободы, всегда оживленная, будто вымерла. На одной стороне улицы стояла вооруженная банда – с саблями, самурайскими мечами, пиками, булавами, мачете, булыжниками, коктейлями Молотова. Были у них даже гранаты и партизанское оружие. А напротив собрались солдаты – не одни подчиненные Шоданхо, а со всех армейских постов города, – с заряженными винтовками.
В тот день город затих, будто уже много лет пустовал. Зловещая тишина спустилась на Халимунду, а вместе с ней и страх, что гражданская война захлестнет город, не знавший ни дня покоя со времен войны за независимость. Многие, кому досаждали преманы, решили встать на сторону солдат, если начнется война. Другие, сытые по горло солдатами, собирались драться на стороне преманов.
Но случись такое, все друг друга перебили бы, никого не оставили бы в живых.
Весь день грохотали взрывы, свистели пули близ домов и магазинов. Никто не понимал, есть ли убитые. Погрязший в семейных передрягах Шоданхо узнал о катастрофе с опозданием, а когда узнал, то пришел в бешенство: из-за одной девчонки разоряют самое сердце города! Провинившегося солдата он засадит на семь суток в карцер, без еды и воды, – пускай подыхает! Но сначала надо положить конец разгрому. И отправил он самого надежного солдата, Тино Сиди-ка, на переговоры с Маманом Генденгом – призвать к прекращению огня и заключить мир.
Маман Генденг, у которого был в разгаре странный медовый месяц, тоже только что услышал о беспорядках на улице Свободы и не придал этому значения. Он лишь досадовал – не дают насладиться счастьем, наверстать годы одиночества и бесцельных скитаний. Наверняка, думал он, драку затеял какой-нибудь буян-солдат.
Но двенадцатилетняя жена убедила его навести порядок, и Маман Генденг пообещал Тино Сидику встретиться с Шоданхо на полпути между автовокзалом и штабом. То есть на рыночной площади.
Из-за стола посреди площади прогнали они четверых картежников – продавца соленой рыбы, рикшу, кули и мужа одной из торговок платьем. Игроки встали и, отойдя к палатке торговца птицей, смотрели на приближавшегося Шоданхо. Торговля замерла, а продавцы и покупатели застыли в ожидании переговоров: быть ли кровавой гражданской войне или отложат ее на годы, а то и на века?
Шоданхо высказался за то, чтобы преманы немедленно отступили и разоружились, – только военные имеют право носить оружие. Но Маман Генденг его не поддержал, ведь солдаты применяют оружие бесконтрольно. И вновь заговорил Шоданхо:
– Дружище, если мы станем ссориться, как дети малые, то ничего не решим. – И продолжал: – Ну ладно, давайте пока не разоружайтесь, только гоните ваших людей с улиц – и чтобы впредь никаких беспорядков и разбитых витрин.
– Шоданхо, дорогой вы мой, – отозвался Маман Генденг, – тогда согласитесь, негоже солдатам пускать в ход оружие из-за девчонок. И, как все в городе, пусть платят за себя и в борделе, и в кабачке, и в автобусе. Избранных здесь быть не должно, Шоданхо.
Шоданхо, протяжно вздохнув, посетовал: жалованье у солдат мизерное, а почти вся прибыль от его сделок идет в карман столичному генералу.
– Итак, дружище, есть у меня предложение, на первый взгляд не слишком заманчивое, зато наверняка поможет выйти из затруднения, – сказал он.
– Я весь внимание.
– Может быть, друг мой, – продолжал Шоданхо, – пусть ваши орлы отстегивают часть выручки солдатам, чтобы тем и на выпивку хватало, и на шлюх.
Маман Генденг был не против делиться с солдатами, лишь бы те не досаждали преманам и согласились на взаимовыгодный мир.
На том и порешили, тихонько пошептавшись, – на рынке никто не слышал, все просто стояли, устремив на них полные ожидания взгляды. Маман Генденг и Шоданхо поручили самым верным своим помощникам объявить, что в четыре часа пополудни начнется перемирие. Солдаты вернутся на свои посты, а преманы – в свои притоны. И остались на рыночной площади двое, Маман Генденг и Шоданхо, – откинувшись на стульях, оба отдувались, будто чудом вырвались у тигра из пасти.
Наконец Шоданхо спросил:
– Умеете играть в трамп?
– Мы с ребятами на автовокзале частенько сражаемся, – ответил Маман Генденг.
И позвали они в партнеры торговца соленой рыбой и кули; так началась их странная дружба за карточным столом. Немало вопросов, касавшихся солдат и преманов, решали они тут, с глазу на глаз. Завели обычай встречаться трижды в неделю за игрой. Не секрет, что оба жульничали, каждый стремился выиграть любой ценой, хоть на кону стояли гроши. Иногда играли с мужем торговки платьем, а иногда – с разносчиками снадобий, торговцами соленой рыбой, кули, рикшами-бечаками – со всеми на рынке, кто знал правила.
Лишь сядет за стол Шоданхо – и Маман Генденг тут как тут, и наоборот. Странная все-таки была у них дружба, с налетом вражды. Маман Генденг так и не простил Шоданхо за Деви Аю, а Шоданхо не понимал, как у того хватило наглости угрожать ему, начальнику военного округа, бывшему главнокомандующему, прямо в штабе!
От этой дружбы у всех голова шла кругом. Спору нет – хорошо, когда все вопросы решаются в одночасье за карточной игрой, и все же безобразие, что солдаты и преманы в сговоре, вместе просаживают народные денежки. А главное, пожаловаться теперь некому. На полицию надежды никакой – только и умеют, что на перекрестках свистеть.
Единственным прибежищем горожан оставалась компартия, и первым, к кому обратились они, был Товарищ Кливон. В то время они – и Товарищ Кливон, и компартия – пользовались в городе огромным уважением.
Между тем дружба Шоданхо и Мамана Генденга все крепла. Теперь за карточным столом обсуждали не только дележ добычи и стычки солдат с преманами – Шоданхо жаловался другу на жизнь, изливал ему душу. Когда заканчивалась игра, а торговцы запирали киоски и расходились по домам, наступал час задушевных бесед. Иногда заходила речь и о Товарище Кливоне. Шоданхо до сих пор считал, что в партию тот вступил не по убеждению, а чтобы отомстить за любимую Аламанду. Маман Генденг посмеивался, слушая его печальную историю (давно ему известную), и настаивал: нельзя отбивать чужую женщину. Потому-то и было ему так больно из-за Деви Аю. Шоданхо при этих словах покраснел и едва не расплакался, как ребенок, потерявший маму.
– В этом безумном мире я один как перст, – жаловался он. – Попал к японцам в Сэйнэндан еще юнцом желторотым, а вскоре стал шоданхо. Ушел в партизаны, воевал с японцами, а о том, что японцы сдались, узнал с опозданием в несколько месяцев. Вся моя жизнь – бесконечная война, не с людьми, так со свиньями. Устал я. – Маман Генденг протянул ему носовой платок, который Майя Деви всегда клала ему в карман брюк, и Шоданхо вытер глаза. – Хочу жить по-людски. Хочу любить и быть любимым.
– Солдаты тебя любят, да еще как, – сказал Маман Генденг.
– Но не жениться же мне на них!
– Зато у нас обоих красавицы-жены.
– Да только меня угораздило жениться на женщине, которая любила и любит другого и, может быть, не разлюбит никогда.
– Пожалуй, да, – кивнул Маман Генденг. – Видел я Товарища Кливона, он выступал перед рыбаками. За простой люд он и вправду стоит горой. Я порой ему завидую. Иногда мне кажется даже, что во всем городе он один смотрит в будущее с надеждой.
– Коммунисты есть коммунисты, – отозвался Шоданхо. – Дурачье, не понимают, что мир наш – наипаскуднейшее место. Вот Бог и посулил рай, страждущим в утешение.
Увлеченные беседой, не замечали они, как ночь сменяла день. Сообразив, который час, вскакивали и, обнявшись на прощанье, расходились в разные стороны – каждый домой, к жене. Однажды случилась неприятность: Мира и Сапри отказались служить у Мамана Генденга – они вдруг поняли, что любят друг друга, и решили пожениться и уехать в деревню, завести хозяйство. Призадумался Маман Генденг: где найти новых слуг, непонятно, а жена совсем еще малолетка. Но все обернулось иначе, чем он ожидал. В первый день без слуг, когда он в темноте вернулся домой после игры с Шоданхо, его ждал ужин.
– Кто готовил? – спросил он в недоумении.
– Я готовила.
Тогда-то он и понял, что жена его – прирожденная хозяйка. Она не только тщательно гладила и спрыскивала духами его одежду, а еще и стряпала – отменно и точно так, как он любит. “Мама меня учила с детства”, – объяснила Майя Деви. Вдобавок она оказалась превосходным кондитером – пекла печенье и торты, постоянно пробовала новые рецепты, угощала соседей. В их семье Майя Деви взяла на себя роль посла – поддерживала добрые отношения с соседями, потому что Маману Генденгу мешала дурная репутация, а поправить ее он и не надеялся. Пироги и печенье приносили семье удачу: соседи стали заказывать их на праздники в честь обрезания сыновей, и заказы не переводились. Майя Деви пекла днем, после школы, и теперь, что бы ни случилось, бедность им не грозила.
Маман Генденг устыдился своих походов к мамаше Калонг и связи с тещей, ведь у него такая чудесная жена. Как-то вечером зашел он в бордель и Деви Аю спросила с усмешкой:
– Сдается мне, жену ты до сих пор не трогал, хочешь спать с тещей?
– Я пришел сказать, что больше никогда к тебе не прикоснусь.
Настал черед Деви Аю удивляться:
– Почему?
– Твоя младшая дочь – прекрасная жена, с ней мне никто больше не нужен.
И, простившись с Деви Аю, поспешил он домой, где ждала его жена.

