Книга: Почему мы существуем? Величайшая из когда-либо рассказанных историй
Назад: Глава 16 Носимая тяжесть бытия: симметрия нарушена, физика отремонтирована
Дальше: Глава 18 Туман расходится
Часть третья
Откровение
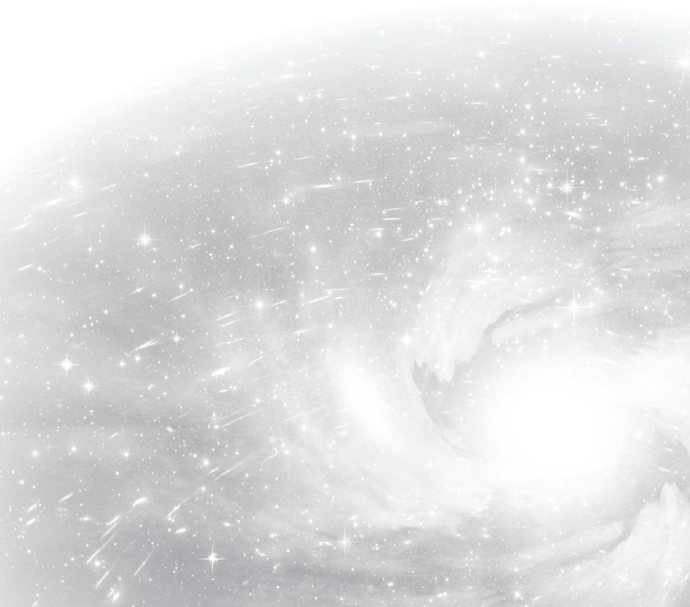
Глава 17
Чужое место в нужное время
Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.1 Коринф. 15:33
Все шесть авторов статей, описывающих так называемый механизм Хиггса (хотя после недавней Нобелевской премии, которую Хиггс разделил с Энглером, некоторые называют его БЭХ-механизмом в честь Браута, Энглера и Хиггса), предполагали и надеялись, что их труд поможет физикам понять сильное взаимодействие в ядрах атомов. В их статьях любое обсуждение возможной экспериментальной проверки гипотезы относилось к сильному взаимодействию, и в частности к предположению Сакураи о том, что это взаимодействие переносят тяжелые векторные мезоны. Все они надеялись, что вот-вот появится теория сильного взаимодействия, которая объяснит массы ядер и близкодействующие ядерные силы.
Мне представляется, что, помимо общей для тогдашней ядерной физики увлеченности сильным ядерным взаимодействием, физики пытались применить свои идеи к этой теории еще и по другой причине. С учетом радиуса и силы этого взаимодействия получалось, что массы новых янг-миллсовских частиц, необходимых для переноса сильного взаимодействия, должны быть сравнимы с массами самих протонов и нейтронов, а также других новых частиц, которые то и дело открывали на ускорителях. Поскольку экспериментальное подтверждение – высшая честь, которой может удостоиться теоретик, естественно было сосредоточиться на физике достижимых энергетических масштабов, где новые идеи – и новые частицы – можно было быстро проверить и исследовать на существующих установках и относительно быстро добиться славы, если не денег. Напротив, как ранее показал Швингер, любая теория про новые частицы, связанные со слабым взаимодействием, потребовала бы для них масс, на несколько порядков превосходящих доступные в то время в ускорителях. Очевидно, разрешения этой проблемы следовало ждать позже – по крайней мере, так считало большинство физиков.
Одним из ученых, увлеченных физикой сильного взаимодействия, был молодой теоретик Стивен Вайнберг. И в этом тоже есть поэзия. Вайнберг вырос в Нью-Йорке и учился в естественно-научной средней школе Бронкса, которую и окончил в 1950 г. Его одноклассником был Шелдон Глэшоу, и после окончания они вдвоем отправились в Корнеллский университет, где в течение первого семестра делили комнату в общежитии, пока их дороги не разошлись. Когда Глэшоу уехал в магистратуру в Гарвард, Вайнберг отправился в Копенгаген, где Глэшоу будет работать позже, уже после получения докторской степени, свою же диссертацию Вайнберг защитит в Принстоне. Оба они в начале 1960-х гг. были на факультете в Беркли и уехали оттуда в одном и том же 1966 г. в Гарвард; там Глэшоу занял пост профессора, а Вайнберг – временную позицию на период отпуска в Беркли. Затем, в 1967 г., Вайнберг перебрался в Массачусетский технологический институт, но в 1973 г. вернулся в Гарвард и принял кафедру и кабинет, которые к тому моменту освободил Джулиан Швингер, бывший научный руководитель Глэшоу. (Заняв кабинет, Вайнберг нашел в шкафу пару туфель, оставленных Швингером, – откровенный вызов молодому ученому и предложение стать ему достойным преемником. И Вайнбергу это удалось.) Когда Вайнберг в 1982 г. покинул Гарвард, кафедра и кабинет перешли к Глэшоу, но никаких туфель в шкафу после Вайнберга не осталось.
Жизни этих исследователей переплелись, возможно теснее, чем у какой бы то ни было другой пары ученых нового времени; тем не менее они образуют интересный контраст. У Глэшоу блестящие способности сочетаются с почти детским энтузиазмом по отношению к науке. Его сильные стороны – творческое начало и глубокое понимание экспериментального ландшафта, но в меньшей мере способность к точным и подробным расчетам. Вайнберга, напротив, можно, наверное, назвать самым серьезным и педантичным (в вопросах физики) среди всех физиков, кого мне довелось знать. Обладая чудесным ироничным чувством юмора, он никогда не подходит ни к одному к физическому проекту легкомысленно, без намерения овладеть соответствующей областью физики. Его учебники по физике – настоящие шедевры, а популярные книги доходчивы и полны мудрости. Любитель и знаток древней истории, Вайнберг умеет донести до читателя историческую перспективу не только того, что он делает, но и физических исследований в целом.
Подход Вайнберга к физике напоминает неуклонное движение парового катка. Во время моего пребывания в Гарварде мы, новоиспеченные доктора, называли его Большим Стивом. Когда он работал над задачей, лучшее, что вы могли сделать, – это убраться с его пути; в противном случае вам угрожала опасность быть раздавленным громадной мощью его интеллекта и энергии. Пока я не перебрался в Гарвард и был еще в Массачусетском технологическом, мой тогдашний приятель Лоуренс Холл учился в Гарварде. Он опережал меня в своей работе и выпустился из университета раньше. Так вот, он сказал мне, что сумел завершить свою работу, позволявшую получить зачет у Вайнберга, только потому, что Вайнберг совсем недавно (в 1979 г.) получил Нобелевскую премию и последовавшая за этим суматоха вынудила его несколько притормозить, так что Лоуренс успел закончить расчеты, не позволив Вайнбергу его обойти.
Одной из величайших удач в моей жизни была возможность тесно работать с Глэшоу и Вайнбергом в первые, самые важные для формирования ученого годы. После того как Глэшоу помог мне, вытащив из черной дыры математической физики, мы с ним сотрудничали в Гарварде и много лет после. Вайнберг научил меня многому из того, что я знаю о теории элементарных частиц. В МТИ не обязательно посещать занятия, достаточно сдавать экзамены, поэтому я, готовясь там к защите докторской степени, прослушал только один или два курса по физике. Но одним из преимуществ пребывания в МТИ было то, что я мог параллельно посещать занятия в Гарварде. Я записывался на все курсы, которые читал Вайнберг, – а если не записывался, то посещал просто так – начиная с квантовой теории поля и далее. Глэшоу и Вайнберг стали для меня взаимно дополняющими друг друга ролевыми моделями. Я всеми силами старался подражать им – в чем-то одному, в чем-то другому – и при этом признавал, что в сравнении с ними мои «все силы», как правило, выглядели не слишком выигрышно.
Вайнберг испытывал – и испытывает до сих пор – широкий и непреходящий интерес ко всем подробностям квантовой теории поля. Подобно многим другим в начале 1960-х гг., он пытался сосредоточиться на том, как понять природу сильного взаимодействия на базе идеи симметрии, которая, в значительной степени благодаря работе Гелл-Манна, полностью доминировала тогда в этой области физики.
Вайнберг также размышлял о возможном применении идей нарушения симметрии к пониманию масс ядер, как предлагал Намбу; подобно Хиггсу, Вайнберг был сильно разочарован результатами Голдстоуна, согласно которым подобную физику всегда должны сопровождать безмассовые частицы. Поэтому Вайнберг решил, – как он делал почти всегда, когда по-настоящему интересовался какой-то физической идеей, – что должен доказать это самому себе. Так что в его следующей работе, написанной в соавторстве с Голдстоуном и Саламом, приводилось несколько независимых доказательств этой теоремы в контексте сильно взаимодействующих частиц и полей. Вайнберг был настолько подавлен невозможностью объяснить сильное взаимодействие через спонтанное нарушение симметрии, что поставил эпиграфом к статье ответ Лира Корделии: «Из ничего не выйдет ничего. Так объяснись». (Из моей книги «Вселенная из ничего» можно понять, почему я не слишком люблю эту цитату. Квантовая механика размывает грань между чем-то и ничем.)
Впоследствии Вайнберг узнал о выводах Хиггса (и коллег) о том, что можно избавиться от нежелательных безмассовых бозонов Голдстоуна, возникающих при нарушении симметрии, когда она является калибровочной. В этом подходе безмассовые бозоны Голдстоуна исчезают, а безмассовые в ином случае калибровочные бозоны становятся массивными. Однако на Вайнберга эти рассуждения особого впечатления не произвели – он, как и многие другие физики, рассматривал их всего лишь как интересную формальность.
Более того, в начале 1960-х гг. идея о том, что пион напоминает во многих отношениях бозон Голдстоуна, оказалась полезна при выводе некоторых приближенных формул для скорости протекания определенных реакций, вызываемых сильным взаимодействием. В результате мысль об избавлении от бозонов Голдстоуна в сильном взаимодействии отчасти потеряла привлекательность. Вайнберг потратил тогда несколько лет на исследование этих идей. Он построил теорию, по которой некоторые симметрии, связанные, как считалось, с сильным взаимодействием, могут спонтанно нарушаться, а различные участвующие в сильном взаимодействии векторные калибровочные частицы, переносящие сильное взаимодействие, могут обретать массу через механизм Хиггса. Проблема была в том, что он не мог примирить свои рассуждения с результатами наблюдений без ущерба для первоначальной калибровочной симметрии, которая защищала его теорию. Единственный способ избежать этого и сохранить первоначальную калибровочную симметрию, которая была ему необходима, состоял в том, чтобы некоторые векторные частицы были массивными, а остальные остались безмассовыми. Но это противоречило данным эксперимента.
Затем, в один прекрасный день 1967 г., по дороге в МТИ его вдруг озарило, буквально и метафорически. (Мне приходилось ездить со Стивом по Бостону, и, хотя я выжил и могу рассказать об этом, я понимаю, что когда он размышляет о физике, то в принципе перестает воспринимать большие массы, такие как соседние автомобили например.) Вайнберг внезапно понял, что, может быть, он и все остальные применяют верные идеи о спонтанном нарушении симметрии, но не к той задаче! В природе могло существовать два различных векторных бозона – один массивный, а другой с нулевой массой. Векторный бозон с нулевой массой может быть фотоном, а массивный (или массивные) – играть роль того самого массивного переносчика слабого взаимодействия, о котором десятью годами раньше рассуждал Швингер.
Если бы дело обстояло так, то слабое и электромагнитное взаимодействия можно было бы описывать объединенным набором калибровочных теорий, из которых одна соответствовала бы электромагнитному взаимодействию (с нарушенной симметрией), а вторая – слабому взаимодействию с нарушенной калибровочной симметрией, отчего у данного взаимодействия появляется несколько массивных переносчиков.
И в этом случае мир, в котором мы живем, был бы в точности похож на сверхпроводник.
Слабое взаимодействие является слабым из-за простой случайности: базовое состояние полей в нашей нынешней Вселенной нарушает калибровочную симметрию, которая в ином случае управляла бы симметрией слабого взаимодействия. Фотоноподобные калибровочные частицы получают большие массы, и, как и ожидал Швингер, слабое взаимодействие оказывается настолько близкодействующим, что почти сходит на нет уже на расстояниях порядка размеров протонов и нейтронов. Это объясняет также, почему нейтронный распад происходит так медленно.
Массивные частицы, передающие слабое взаимодействие, должны выглядеть для нас в точности как выглядели бы фотоны для гипотетических физиков, живущих внутри сверхпроводника. Потому и различие между электромагнетизмом и слабым взаимодействием столь же иллюзорно, как и та разница, которую физики на ледяном кристалле морозного узора на оконном стекле заметили бы между силами, действующими вдоль ребра своего кристалла и поперек него. И только простой случайностью объясняется тот факт, что одна калибровочная симметрия нарушается в мире нашего опыта, а другая – нет.
Вайнберг хотел избежать рассуждений о частицах, участвующих в сильном взаимодействии, поскольку ситуация там по-прежнему была запутанной. Поэтому он решил заняться частицами, взаимодействующими только посредством слабого или электромагнитного взаимодействия, а именно электронами и нейтрино. Поскольку слабое взаимодействие превращает электроны в нейтрино, ему нужно было придумать такой набор заряженных векторных фотоноподобных частиц, который производил бы такую трансформацию. Эти частицы не что иное, как заряженные векторные бозоны, существование которых предположил Швингер; традиционно их называют W+– и W-бозонами.
Поскольку слабое взаимодействие смешивает друг с другом только левые электроны и нейтрино, один из типов калибровочной симметрии должен обусловливать взаимодействие с W-частицами только левых частиц. Но поскольку и левые, и правые электроны взаимодействуют с фотонами, калибровочная симметрия электромагнетизма тоже должна быть включена в эту единую модель таким образом, чтобы левые электроны могли взаимодействовать и с фотонами, и с новыми заряженными W-бозонами, а правые электроны взаимодействовали бы только с фотонами, но не с W-частицами.
Математически единственным способом добиться этого – как выяснил Шелдон Глэшоу, размышляя об электрослабом объединении шестью годами ранее, – могло бы быть существование дополнительного нейтрального слабого бозона, с которым правые и левые электроны могли взаимодействовать, помимо взаимодействия с фотонами. Этот новый бозон Вайнберг назвал Z, от слова zero, нуль.
Далее, в природе должно существовать некое новое поле, которое образует конденсат в пустом пространстве, вызывающий спонтанное нарушение симметрий, управляющих слабым взаимодействием. Элементарная частица, связанная с этим полем, представляет собой массивный бозон Хиггса, тогда как остальные гипотетические бозоны Голдстоуна должны быть проглочены W- и Z-бозонами, чтобы придать им массу посредством предложенного Хиггсом механизма. При этом единственным калибровочным бозоном с нулевой массой остается фотон.
Но этого мало. В силу введенной им калибровочной симметрии новая хиггсовская частица у Вайнберга взаимодействует также с электронами, а когда образуется конденсат, появляются массы у электронов, а также W- и Z-частиц. Таким образом, эта модель не только объясняет массы калибровочных частиц, передающих слабое взаимодействие, и, следовательно, определяет силу этого взаимодействия, но вдобавок то же самое хиггсовское поле еще и придает массу электронам!
В этой модели присутствовали все ингредиенты, необходимые для объединения слабого и электромагнитного взаимодействий. Более того, если начать с калибровочной теории Янга – Миллса с безмассовыми калибровочными бозонами до нарушения симметрии, то можно было надеяться, что те же замечательные свойства калибровочных теорий, связанные с симметрией и впервые исследованные в квантовой электродинамике, позволят получить при помощи этой теории конечные разумные результаты. В то время как фундаментальная теория с массивными фотоноподобными частицами обладала явными неустранимыми недостатками, была надежда на то, что, если массы возникают только после и в результате нарушения симметрии, эти недостатки, возможно, и не проявятся. Но в то время это была всего лишь надежда.
Ясно, что в реалистичной модели хиггсовская частица должна связываться и с другими частицами, задействованными в слабом взаимодействии, а не только с электроном. При отсутствии хиггсовского конденсата все эти частицы: протоны (или те частицы, из которых они состоят), мюоны и т. д. – все они обладали бы в точности нулевой массой. Каждая деталь, отвечающая за наше существование, – мало того, за самое существование массивных частиц, из которых все мы состоим, – должна, таким образом, возникнуть в результате природной случайности – образования в нашей Вселенной особого хиггсовского конденсата. Конкретные черты, делающие наш мир тем, что он есть, – все эти галактики, звезды, планеты, люди и взаимодействия между ними – выглядели бы совершенно по-другому, если бы такой конденсат не сформировался.
Или если бы он сформировался иначе.
Точно так же как мир, который видят вокруг себя ранним зимним утром воображаемые физики на ледяном кристалле разрисованного морозом окна, был бы совершенно иным, если бы кристалл выстроился в другом направлении, так и черты нашего мира, допускающие наше существование, критически зависят от природы хиггсовского конденсата. То, что в свойствах частиц и полей, образующих наш мир, возможно, представляется нам чем-то специфическим, на деле оказывается не более особенным, спланированным или значительным, чем случайная ориентация гребня этого ледяного кристалла, хотя существам, живущим на этом кристалле, она тоже может казаться неслучайной.
И еще немного поэзии. Уникальная модель Янга – Миллса, которая привлекла Вайнберга в 1967 г. и на которую годом позже наткнулся также Абдус Салам, была той самой моделью, которую предложил шестью годами ранее его старый университетский друг Шелдон Глэшоу, откликнувшийся на призыв Швингера найти симметрию, которая помогла бы объединить слабое и электромагнитное взаимодействия. Никакой другой вариант не мог бы математически воспроизвести то, что мы сегодня наблюдаем в мире. Все это время модель Глэшоу практически игнорировалась, поскольку тогда не было известно никакого механизма, способного придать слабым бозонам массы. Но теперь такой механизм появился, и это был механизм Хиггса.
Вайнберг и Глэшоу, жизни которых не раз пересекались начиная с детского возраста, позже разделили Нобелевскую премию между собой и с Саламом за совершенно независимое открытие величайшего объединения в теории физики со времен Максвелла, объединившего электричество и магнетизм, и Эйнштейна, объединившего пространство и время.
Назад: Глава 16 Носимая тяжесть бытия: симметрия нарушена, физика отремонтирована
Дальше: Глава 18 Туман расходится

