Глава 18
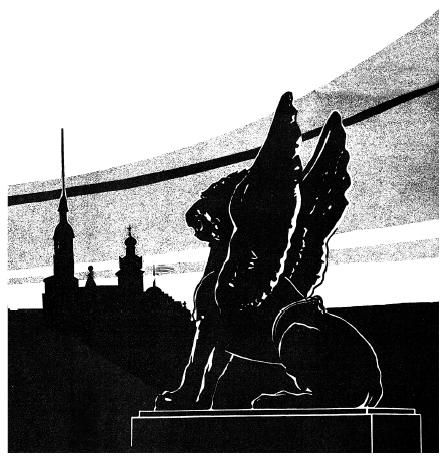
Нефедов вернул листок, выхваченный Зайцевым из пишмашинки.
– Так ведь он ей это уже писал. Про отпечаток чашки кофе на столе. Ровно такими же словами.
– Нефедов, про отпечаток запомнил даже я. Но хотел свериться с истинным специалистом-мнемотехником.
Нефедов чуть шевельнул уголком рта. Взгляд остался таким же сонным. «Улыбается! – отметил Зайцев. – Все любят комплименты, все».
– Ты дальше, дальше читай!
– «Милая Лина»? – тихо проговорил Нефедов. – Ничего не понимаю.
– Я тоже сперва ничего не понял. Знавал я одного Юру. А домашние звали его Тука… Юра – Тука. Варя – Лина. Мало ли. Но вот соседи знали ее давно – и никто из них Линой, сколько мы ни беседовали, Варю что-то не называл. А тут уж поэт этот, невольник чести, все сам и объяснил. Что это было.
– Что же?
– Шутка.
Зайцев осторожно свернул лист по сгибам. Важная улика.
– Шутка?
– Эти два болвана принялись строчить ей письма от имени тайного поклонника. Очень веселились, когда Варя клюнула. Они ведь думали, что она совсем уже древняя старуха – и тут запела соловьихой на току. Обхохочешься. И тут уже вдохновение их припустило…
По движению тени Зайцев понял, что Нефедов покачал головой. Само лицо было в полумраке.
– Хорошенькая шутка.
– Мы сами ведь тоже так поначалу думали. Ты, Нефедов, вспомни: «Старуху кокнули, старуху кокнули». Понятная ошибка. Ничего не поделаешь. Технический прогресс идет быстрее, чем люди живут. Вон, кино разговаривает уже через аппараты Шорина. А через лет пять, не знаю, начнет цвета и запахи передавать. А через десять – полную иллюзию того, что ты в той же комнате сидишь, что и фильмовые люди. Встать можно будет, с другой стороны все осмотреть. Под диван им заглянуть.
– Не в этом дело. Мне она по писанине своей показалась довольно прожженной. Чтобы соловьихой вот так запросто распевать.
– Ну не сразу, – потянул Зайцев. – Не запросто. Сначала наверняка выбрасывала эти цидульки. Потом разок ответила. Может, отшила даже. Потом другой раз ответила. А потом втянулась. Женский пол он такой. Долгой осады не выдерживает. Особенно если слог, прямо скажем, искрометный… Но это мы все по ответам самой Вари установим. Как и что там происходило. Уж точно гоголи наши письма ее с собой в Гагры не прихватили. Наведаемся в ленинградские хоромы их, пошукаем.
– А им-то зачем по башке Варю тюкать?
– Я разве говорю «они тюкнули»?
– А кто?
Зайцев ухмыльнулся, и ему тотчас стало совестно за эту улыбку. Он понадеялся, что в темноте Нефедов не заметил. Так и вышло. Зайцев спокойно ответил:
– Может, у них мы Варины ответные письма найдем, а в письмах – интересные факты. Варя-то не шутила, когда писала этому своему так сказать тайному поклоннику.
А сам думал: «Должен же быть ответ зачем. Почему. Так изуверски. Так страшно безжалостно. Без паники, без нервов. Так решительно. Должна же быть веская причина».
– Ладно, то шутка, – нехотя согласился Нефедов. – А это тогда что? – кивнул на карман, в который Зайцев убрал письмо, вынутое из пишмашинки.
– Это-то? Социалистическое экономное хозяйство. Николай этот, видать, так остался доволен заходом, что теперь шпарит то же самое уже совершенно реальной барышне. Лине. Не пропадать же добру… Правильно делает: хорошие мысли часто в голову не ходят. Хорошие девушки встречаются гораздо чаще.
Зайцев подумал про пьяную красавицу в ночном парке. Откинул затылок к стене, почувствовал ее приятный металлический холодок. Вибрация самолета приятно передавалась голове, сразу начало клонить в сон.
– А я ведь прав был… – неожиданно грустно выговорил Нефедов.
Зайцев открыл глаза.
– …хорошо, товарищ Зайцев, что нас с вами никто так любить не будет. Трепотня все это одна.
– Не в этом, Нефедов, соль.
– А в чем же еще?
– Ты еще только открыл хлебало, а из него уже лезет вранье. Лучше молчать в тряпочку.
– Это Крачкин сказал?
– Тютчев.
– А он из какой бригады? Не знаю что-то такого.
– Он из киевского угро.
Зайцев опять начал проваливаться в сон. В подошву ему ткнул носок ботинка. Зайцев неохотно разлепил глаза. Гудение самолета, казалось, теперь вливалось и через них, заполняя голову, вытесняя мысли.
– Ну?
– А на самолете почему «Амторг» написано? Это как? Торговля с Америкой, что ли?
Глаза закрывались сами. В мозгу у Зайцева пронеслись обрывки: зарубежные гастроли… лодка перевернулась… Америка… лодка перевернулась. Тянуло в сон.
– Торговля тоже, – сквозь зевок проговорил он.
На миг его кольнуло нечто вроде жалости к Каплуну – упитанному гэпэушному сановнику, в той истории ни в чем, кроме слабости к богатым вещам, хорошеньким балеринам и новеньким, технически хорошо продуманным крематориям, похоже, не виноватому. Но только на миг. Запорожца же и вовсе жалеть было нечего.
Опять толчок ногой. Зайцев раскрыл глаза:
– Нефедов, ты что, совсем уже?
– Почему они прислали за нами самолет?
– Я им написал. Как честный человек честным людям, которым нечего скрывать.
– Написали: пришлите самолет?
– Нет. Я написал им: найдите меня.
– А если бы они не нашли?
– Я в них верил.
– Врете.
– Вру. Я им не просто написал. Я отправил им небольшой подарок.
– Какой?
– Дружеский.
– Какой?!
– Нефедов, ну ты даешь. Неужели тебе спать не хочется?
И Зайцев снова закрыл глаза.
* * *
От Шоссейной сперва шли пешком – к шоссе. Потом их подобрала телега, телепавшаяся из Детского Села.
– Жрать охота, – сказал Зайцев. Перспектива завтрака была такой же отдаленной, как ближайшая столовка. До города еще трехать и трехать.
– Печенье будете?
Зайцев удивленно посмотрел, как Нефедов извлекает из карманов надорванный фантик и запылившиеся куски сахара.
– Это для поросенка было, – объяснил он. – На кухне дали.
В голосе его слышалась грусть. «Не успели подружиться, как разлука…» – иронически посочувствовал Зайцев.
– Я лучше, чем поросенок, – заверил он напарника. Оба захрустели сахаром так, что даже возница обернулся.
На Международном проспекте сошли. Дальше конек потопал в Коломну.
– На вокзале есть справочный киоск, – вспомнил Нефедов.
– Зачем? – не понял Зайцев.
– А где они живут? Шутники эти.
– Эх, Нефедов. Ничему тебя жизнь не научила.
– А вас научила?
– Научила. Информацию надо брать кустом. Граждане преступнички ждать не будут, пока мы по ягодке клюем.
Он опять вспомнил Алексея Александровича. Вернее, не его, а мертвую женщину с голенькими младенцами, которые по дьявольскому замыслу изображали путти. Пока они с Нефедовым собирали по зернышку сведения об убитых, безумец убивал: еще и еще. Скольких бы они спасли, если бы сообразили, как обобщить поиск.
– О, – толкнул он Нефедова. – Трамвай. По коням.
Оба припустили вприпрыжку, догнали трамвай на повороте, вцепились в поручни, повисли на площадке. Зайцеву пришлось притиснуться к полной гражданке в пыльнике. Он зря старался, чтобы объятия выглядели менее интимно. Нефедов отвернул лицо от колючей шерстяной спины в кофте:
– На кинофабрику?
– А ты здорово номера маршрутов помнишь, – отметил Зайцев. – Молодец. Слушай, а сделай одолжение?
– Какое?
– У меня руки заняты – не могу на пальцах отсчитать. А в уме не удержать. Когда нас на Красных Зорь вызвали, помнишь? Вот двенадцать недель от этого назад.
– А двенадцать почему?
– А она в неделю по главе скидывала, верно?
Обтянутый пыльником зад нервно задвигался. Тетку нервировал разговор, которого она не могла толком расслышать за стуком трамвая. Особенно слово «руки». Боялась, что речь о ней, точнее о ее сумочке, зажатой между чужих тел, потерявшей чувствительную связь с хозяйкой. Повернуться тетка не могла. Лишь косила глазом, стараясь разглядеть, что происходит у кормы.
Зайцев сделал серьезную мину:
– Спокойно, гражданка. Милиция. А деньги советую не в сумке держать, а в лифчике.
Спрыгнули у Петропавловской крепости.
– Зря идем. Безнадега это. Сперли наши пиджаки давно.
– Ты, Нефедов, пессимист.
– А вы нет?
– Я? Я комсомолец. Я всегда верю в лучшее… Кроме того, видишь ли, артисты Теаджаза произвели на меня впечатление вполне домашних мальчиков. Мама водила на скрипку, папа проверял уроки. Скорее всего, те же мама и папа объяснили своим сыновьям, что нехорошо брать чужое.
Подвело, впрочем, не знание людей, а незнание театрального расписания. Мюзик-холл был закрыт.
– Черт, – выругался Зайцев. На юге он бы и в купальных трусиках чувствовал себя одетым. Но в Ленинграде без пиджака казался себе оголенным.
Нефедов задрал голову.
– Чего?
– А куда вентиляция выходит?
Обошли здание вокруг. Нашли круглую решетку.
Вынырнул Нефедов с паутиной в волосах, но прижимая к себе оба пиджака.
– Вот теперь готов к труду и обороне, – одернул полы Зайцев. Смахнул с рукава пылинку.
* * *
Товарищ Горшков очень изменился с их последней встречи. Он, если так можно было выразиться применительно к его внешности и комплекции, порхал.
Хуже того, пел. И еще хуже – что пел.
– Я маленькая балерина, – мурлыкал он, роясь в шкафу. – Всегда нема, всегда нема… Какие даты, говорите, вас интересуют?
Зайцев повторил. Горшков кивнул. Толстые пальцы бежали по корешкам папок:
– Но скажет больше пантомима… Чем я сама, чем я сама.
Выдернул, передал.
– Отдать насовсем не могу. Собственность фабрики. Хранить бессрочно.
Зайцев уже жадно раскрыл папку.
– Зачем же хранить? Тем более бессрочно, – полюбопытствовал. – Раз кинопробы неудачные.
– Сегодня неудачные, а завтра, может, типаж то, что надо, – профессионально объяснил Горшков, опять замурлыкал: – А мне сегодня за кулисы… Прислал король, прислал король…
Покачивался он с пятки на носок, с пятки на носок. Выглядел он победителем.
«Секретаршу, что ли, увлек в амур», – гадал Зайцев.
– Много у вас тут проб, гляжу.
– У нас план по фильмам. И коммунистическое соревнование с Москвой, – пояснил Горшков. Так, что казалось, соревнование это он уже выиграл.
– Можно у вас заодно и справочку навести? Так, парочку адресов сотрудников.
Хорошее настроение товарища Горшкова располагало. И правда: тот крутанулся на носках, высунулся в предбанник.
И как только он это сделал, Зайцев быстро разжал скоросшиватель, выхватил стопку листов, заткнул себе за пояс, запахнул пиджак…
– Соня! – звал в коридор Горшков.
…Сунул в папку первые подвернувшиеся под руку журналы.
Горшков вернулся:
– Запросто.
Зайцев спокойно завязывал на папке тесемки. Завязал. Вернул папку:
– Спасибо.
Горшков вставил папку обратно:
– Сейчас Сонечка вам поможет в лучшем виде. Какие адреса?
– Текстовиков ваших, Эрдмана и Масса.
Мурлыканье оборвалось. Как будто рука завернула кран с журчащей струйкой.
Только на секунду. В следующую секунду товарищ Горшков уже собрался. Но улыбки не было. И песенка тоже заглохла. Лицо его приняло умудренное выражение.
– Я так и знал. Я смутно чувствовал.
– Да? – пристально посмотрел Зайцев ему в глаза. – Это хорошо.
– Просто не сразу раскусил. Они долго и искусно притворялись советскими людьми.
– Но вы подозревали? – Зайцев и сам не знал, какую рыбку ловит. – Почему?
– У одного папаша бывший купец, у другого нэпман.
В дверь заглянула уже знакомая Зайцеву куколка.
– Ничего, Софья Федоровна! Я по ошибке нажал! – махнул ей Горшков. И куколка послушно исчезла.
– Сейчас. Конечно. Сейчас.
Он раскрыл толстую алфавитную книжку. Нашел обе нужные буквы. Полистал. Но не переписал адреса. Не прочел вслух. Он выдрал странички и отдал их Зайцеву.
* * *
– Ни хрена себе, – молвил Нефедов. Дверь в квартиру Эрдмана была заклеена бумажной полоской – лиловела печать, рядом каракуля подписи.
– Ты, как всегда, тонко заметил, – Зайцев потрогал беленькую бумажку. – Хм.
Зайцев проверил адрес на всякий случай. Адрес правильный: Эрдман Николай. Вот только дверь была опечатана ГПУ.
– Мы же его только что видели. В Гаграх. Обоих.
– Видишь ли, Нефедов. Боюсь, товарищи Эрдман и Масс просто еще не знают о перемене в своей биографии.
Он вспомнил: а профессор Федоров не знает о том, что дача национализирована.
Он вспомнил: «Я отомщу», пообещал тогда по пьяной лавочке Горшков. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, не зря предупреждает русская поговорка. Горшков накропал донос. Отомстил изменникам. Забил баки московским конкурентам. То-то теперь летает.
Зайцев вынул из-под ремня листы, заставлявшие его держаться прямо, как в корсете. Сел на ступеньку лестницы. Нефедов все еще трогал задумчиво печать.
– Можно, в принципе, через окно, – размышлял он вслух. – Отжать фортку – пара пустяков. Знаю этот тип задвижки.
– Не нужно, – ответил с лестницы Зайцев.
Он нашел снимки быстрее, чем ожидал. Их было больше, чем он думал. Быстро перегибал страницы, закладывал пальцами нужные.
– То-то задался я вопросом. Хорошо, тогда на фабрике визжала наша Варя, по выражению одесского лорда, как сто женщин с Привоза, потому что шутка с перепиской открылась.
Теперь уже вся зайцевская пятерня была зажата бумажками:
– И вот. Вот еще.
– А вопрос какой?
Зайцев быстро выдергивал из стопки нужные страницы.
– Ради чего она тогда на фабрику вообще приперлась.
Раскладывал на ступеньках:
– Вот он ее любовник… Смотри.
Нефедов наклонился.
– …ее главная и единственная сердечная страсть.
Варя в косыночке. Варя со значком ГТО на груди. В медицинской шапочке. Или с накладными косами. В круглых очках учительницы. Она безуспешно пробовала попасть в тон какой-нибудь положительной советской героини. Хоть какой-нибудь. Отрицательной тоже. С папиросой во рту. Или в коротком лакированном паричке. Или с бокалом и в вечернем платье.
На каждом снимке она была все еще молода и красива.
Каждый снимок портило одно и то же: выражение одновременно порочности и растерянности. Какая уж тут героиня. Обломок, выплывший после кораблекрушения.
Фотографии, фотографии, фотографии. Фильм, сказал правду Горшков, запускали много.
– Голос, – прочел Нефедов. Показал пальцем. На каждой карточке стояла только одна карающая отметка.
Кино заговорило. Технический прогресс перешагнул через Варю и устремился дальше.
– М-м-м-м, – согласился Зайцев. – Даже мой добрый незнакомый друг, с которым случилось беседовать там у моря среди роз, сказал: голос у нее был мерзкий, как у чайки.
При мысли о скрипе невских чаек обоих передернуло, как от похожего звука ножом по стеклу.
– К кому же она тогда бегала тайком от соседей? В лифте?
– На кинофабрику, – кивнул Вариным лицам Зайцев. – Лифт ей нужен был, потому что иначе днем не выйти из коммуналки незамеченной.
– А чего ж незамеченной? Они же больше нее самой ждали ее возвращения в кино.
– Триумфального, Нефедов. Они ждали от нее нового триумфа. Она была их королевой. Боготворили они ее. А Крачкин прав.
– У вас Крачкин, гляжу, всегда прав.
– У легенды не болят зубы. И ее не вышвыривает за проходную товарищ Горшков. Или еще хуже – какой-нибудь второй ассистент.
– Не понимаю. Раз они ее боготворили. Соседи. Они бы, наоборот, ей посочувствовали. Поддержали бы.
Зайцев вздохнул.
– Ты действительно не понимаешь.
Где-то наверху стукнула дверь. Гулко посыпались вниз шаги. Зайцев стал собирать бумаги.
Женщина в трикотажном джемпере и юбке поглядела на них подозрительно:
– Квасить засели? Вот я дворника сейчас позову.
Мимо гневно пролопотали туфельки, промелькнули белые носочки. На бумажку и печать на двери соседка не обратила ни малейшего внимания.
Зайцев поднялся. Пересек лестничную площадку. Утопил медную пуговку, игнорируя многосложные – тут же к двери прикнопленные – инструкции, кого из соседей как вызывать, составляя коды из коротких и длинных звонков. Держал палец долго. Перебил короткой паузой. Снова утопил. Требовательный голос властей предержащих: дворников, домоуправов, милиции, ГПУ.
– Кто там?
– Уголовный розыск.
– А что случилось? – приоткрылась дверь, недоверчиво звякнула дверная цепочка. Зайцев сунул удостоверение.
– Пока ничего, гражданочка. Позвонить надо… Попаси здесь на всякий случай, – бросил он Нефедову. – Если правда дворник нарисуется.
Зайцева впустили. В полумраке коридора лежал киль света: бдительная соседка наблюдала в приоткрытую дверь. Зайцев снял трубку, коротко приказал:
– Уголовный розыск.
Можно рявкнуть – и любопытный нос скроется в своей комнате. Но ему было все равно. Всё равно ничего не поймет. Он сам не понимал. Пока что. В трубке щелкнуло. Соединили. Зайцев узнал голос дежурного – исполнительный Викентьев.
– Викентьев, привет. Зайцев говорит. …Нет. А Савостьянов где сейчас обретается? …Выходной – это хорошо. …А номер какой?
Зайцев легко запомнил комбинацию.
– …Нет. А когда Коптельцев меня спрашивал? …О, даже так? …Ну скажи ему, я с Красных Зорь звоню…Номер дома не надо. Он знает. …Ага. Пока.
Отбой. В коммуналке, где жил Савостьянов, ответила соседка:
– Спит вроде он.
– Толкни его, гражданочка, а? Скажи, начальство. Срочно. Поживее пусть.
А сам представлял: дежурный набирает Коптельцева. Его, конечно, соединяют не сразу – начальство щекотки не любит. Маринуют для порядка.
– У аппарата, – ответил голос, хрипловатый то ли со сна, то ли с похмелья. Зайцев невольно улыбнулся: почему-то ожидал, что Савостьянов привычно ответит «уголовный розыск».
– Зайцев говорит.
– Здравствуйте, товарищ Зайцев.
– Савостьянов, слушай. Ты автопробег помнишь?
– Который? – сразу оживилась трубка. – Москва – Тифлис? Каракумский?
Зайцев обрадовался: фанат.
– Ну этот. Ты еще нам показывал. Лимузины опытные.
– Восьмицилиндровые. Дальнодорожные. Сто лошадей. – Зайцев отвел ухо от посыпавшейся шелухи сведений.
– Да-да. Там еще «Изотта-Фраскини»…
– …А, ну это старье. Так, для исторического сравнения включили. Она прямо на старте развалилась.
Разговаривать с Савостьяновым об автомобилях было так же тяжело, как с футбольным болельщиком – о последнем матче, с рыбаком – о корюшке.
– …Там еще «Изотта-Фраскини» бежала, – договорил своё Зайцев. – Ты не помнишь случайно – автопробег когда из Ленинграда стартовал?
– Почему же случайно? – слегка обиделся Савостьянов.
Нефедов стоял на площадке, глядел в лестничный пролет – тихий и гулкий, как пустой колодец.
Обернулся. «Вот черт. А я думал, неслышно вышел», – чертыхнулся про себя Зайцев.
– Интересно то, Нефедов, что ювелир торгсиновский, товарищ Вайнштейн, еще в самом начале сказал, что во всех этих побрякушках виден цельный вкус одной личности.
– Вы что, Вайнштейну звонили?
– Идем.
По прикидкам Зайцева, дежурного уже пропустили к уху начальства.
– А теперь-то куда?
– В самое начало. Где мы, собственно, ее и упустили. На улицу Красных Зорь.
Белая ленточка с его собственной росписью так и была разорвана – как оставили в прошлый раз. Дверь не заперта. Зачем? Выносить из комнаты нечего. Голые стены. Исцарапанный пол. Давно нечищенный камин. Шесть высоких окон в ряд.
Зайцев встал под люстрой, задрал голову. Посмотрел на великолепную хрустальную архитектуру. Потом вниз. Потом опять на люстру. Она словно замерла, неприятно остановленная его изучающим взглядом. Никто не любит внимание милиции. Неподвижно лежали на стенах, полу, потолке бриллиантовые искры.
Зайцев присел на корточки. Задумчиво потрогал пальцем узор из ссадин на паркете: ровные, короткие, глубокие. Они не могли быть оставлены, когда двигали мебель. Слишком глубокие, слишком короткие. Словно брошенные с высоты. Именно так он себе это и представлял. И не мог вообразить. Сердце тихо сжимал ужас, похожий на ледяную щекотку. Неужели можно вот так любить… Вернее, не любить…
– Что там? – перебив его мысли, тихо прошелестел Нефедов: как в музее, было неловко говорить в полный голос.
– Репетиция… Нефедов, – Зайцев кашлянул, прочищая горло, – а кем, собственно, Варя служила в цирке?
– С Ирисовым-Памирским работала, я ж вам рассказывал.
– Да. Ну а делала-то что?
– Вы Ирисова-Памирского не знаете? – ужаснулся Нефедов.
«В каждой избушке свои погремушки», – подумал Зайцев: и каждая избушка думает, что стоит в центре мира.
– Так кем Варя у него работала?
– Да ну. Разве это работа? – Нефедов тоже вышел на середину пустой комнаты. Тоже задрал подбородок. На его совиное личико легли радужные искорки.
– А что?
– Скажете тоже, – ворчал Нефедов. – Работа. Просто баба красивая. Стой и глазами хлопай. Вот и вся работа. Иногда только смотри, чтобы с башки яблоко не скатилось. Да и его они там наверняка как-нибудь присобачивали, думаю. Шпильками или еще чем-нибудь. Пока Ирисов-Памирский кинжалы свои метал.
Зайцев охотно бы стряхнул наваждение, не получалось: его пробирал озноб, из-за которого и эта большая светлая комната, которую скоро наверняка нарубят перегородками на три семьи, если только не отдадут какому-нибудь чину с голубым околышем, – эта комната в летний день казалась склепом.
«Как бы то ни было». Пора было двигаться дальше.
– Ты, Нефедов, курить случайно не начал?
– Нет… Вы думаете, ее Синицына пришила?
Зайцев подошел к камину. Просунул руку ему в пасть. Нащупал кремень. В таких новых домах камины всегда снабжались механическим кремнем.
Зайцев проверил. Камешек с тех пор стерся, но все еще давал голубую искру.
Сердце билось быстро, но мерно. Движения экономные, четкие.
Вынул из-за пояса стопку бумаг. Бросил в камин. Варины лица. Щелкнул. Дал искре лизнуть бумагу. По краю побежала оранжевая кайма. Лист стал темнеть. И когда пламя занялось, Зайцев выпростал из внутреннего кармана свернутые листы.
– Ну вы даете, – только и сказал Нефедов. – А говорили, что научились.
– Именно. Варя совершенно права. Повиднее положишь – получше спрячешь.
И бросил в огонь.
Камин прочистили совсем недавно – когда искали, не спрятано ли чего в дымоходе. Тяга была отличная. Один горящий листок, как огненная ведьма, улетел вверх.
Из коридора послышались голоса соседей. А потом безличное:
– Всем сидеть по своим комнатам.
Всё было кончено, когда они вошли. Саламандрами метались последние огоньки.
– Товарищ Коптельцев, – молодцевато доложил Зайцев. – Искомый объект обнаружен, как приказано.
Коптельцев бросился к камину, совершенно позабыв о молодцах, что ввалились вместе с ним. Пыхтя – мешало брюхо – наклонился, подвернул колени, утопил толстые пальцы в еще горячем пепле. Обжегся. Отдернул. Обернулся, сопя. Наливаясь багровой кровью.
Зайцев постарался встретить его особенно круглым взглядом.
– Случай самовозгорания. Необъяснимый наукой. Товарищ Нефедов подтвердит. Всё сгорело. Мы только вошли – а оно само: пух.
– Всё?! …Сука, да ты под расстрел пойдешь. Думаешь, я в игрушки играю.
Кивнул пехоте: берите.
Зайцев поспешил ответить:
– Кроме, конечно, пары небольших фельетонов, юмористических, которые я отправил в Амторг.
В локти ему впивались железные пальцы. «Смирно», «без фокусов», – шипело в уши.
Коптельцев встал. Он громко сопел. Багровый цвет на щеках стал отливать фиолетовым.
– Амторг? – тихо спросил он.
– Ну да, «Американская торговля». Тоже любят похохотать. Чужие мемуары почитать, когда делать нечего, – с невинным видом пояснил Зайцев. – Маленький презент. Пустяки.
Он не сводил с Коптельцева глаз. Какая связь между утонувшей в Петрограде балериной и утонувшими в Америке чиновниками, Коптельцев, скорее всего, не знал: не по сеньке шапка. Но чем занимается Амторг, кроме собственно торговли с Америкой, по своей службе в ГПУ представлял себе, похоже, в чертах хоть и общих, но пугающих. И в одном Зайцев не ошибся точно: два ведомства враждовали насмерть. У Коптельцева затряслась челюсть. «Сейчас его хватит кондратий», – подумал Зайцев про шефа.
– Товарищ Коптельцев, – продолжал он так, будто начальник угрозыска сидел у себя в кабинете за столом. – Вы не возражаете, если мы с товарищем Нефедовым закончим рабочий день пораньше в форме отгула. Поедим то есть. В брюхе оркестр. А дело закроем завтра. Не помрет ведь Гудков в каморке? – Он сделал паузу, чтобы сказанное дошло до налитого кровью мозга Коптельцева. – Гудков ведь не убивал никого. Украшения спер, это да. За это посидит, конечно. Но это статья легонькая, спешить нечего… А то мы с самого утра ничего, кроме куска сахара, не ели.
– И печенья, – вставил Нефедов. – Которое для поросенка.
Впрочем, машинально, из природной любви к полной точности.
Коптельцев сопел, сопел, сопел. А потом взмахнул рукой.
– Что? – добродушно наклонился Зайцев.
– Вон пошел, – прохрипел еле слышно. Пальцы, державшие Зайцева за локти, разжались. Нефедов выскользнул следом.
В коридоре Зайцев быстро нашел нужную дверь. Легонько стукнул. Он, впрочем, не сомневался, что она все слышала. Она всегда все слышала. Елена Ивановна высунулась. Зайцев не сомневался, что последние минуты она простояла, приложив к двери ухо.
– Гражданочка, вы любезность не окажете – в ту комнату стакан воды не подадите?
* * *
– Когда вы к профессорше, маникюрше постучались, я подумал, вы ее арестовывать будете.
– Ее-то за что?
Зайцев придвинул стакан с молочным коктейлем. Посмотрел, как тихо лопается пена. На краю виднелся мутный отпечаток чьих-то губ. Отодвинул как бы невзначай. Чего портить товарищу праздник.
Нефедов быстро орудовал ложечкой в запотевшей чашечке на ножке. Ел мороженое.
– Ну ты даешь, Нефедов… Я б тебя предупредил.
– Тогда кто она?! Кто она?
На них обернулись. Все больше мамаши с детьми.
– Ты чего орешь?
– Вы сказали: упустили – ее. Кого? Вы чего меня за нос водите.
Зайцев искренне удивился:
– Я думал, ты понял… Ой-ой, не смотри на меня, как товарищ Розанова на Крачкина, а Ленин на буржуазию. Ну, прости, Нефедов. А я тебя за нос не водил. Ты сам виноват. Это не я тебя, а ты меня запутал. Ты так осмысленно разговор поддерживал, я думал, что ты кумекаешь.
– Товарищ Зайцев.
– Люстру. Нефедов. Люстру… Помнишь, какая пылища там была, когда мы с обыском завалились? И то нам в голову не пришло, что по логике вещей и люстра там должна была выглядеть как серый валенок. В лучшем случае.
– Что же, Синицына не только труп накрыла, но люстру тоже обмахнула, хотите сказать? И нам набрехала?
– Неа. Она с самого начала не врала. Это мы думали, врет… Главное, что обидно: меня все с самого начала прямо об этом спрашивали. И Крачкин, и Вайнштейн, и старый киношник там, в Гаграх, возле роз. Если бы я хоть одному из них ответил быстро, то не пришлось бы нам крутить все эти сальто-мортале.
– О чем это они вас спрашивали?
– Ну вот болван этот, у клумбы, например. Он спросил: акробатки, наездницы, а еще в цирке какие дамы бывают? Почему мне это в голову не пришло? Ведь на акробатку или наездницу учиться надо. А Варя влилась в коллектив – и так же внезапно вылилась. Но главные вопросы, конечно, Крачкин и Вайнштейн задали. Да я и сам их себе задавал, с вариациями. Кто она такая, эта Варя?
– Потому что известно: актриса фильмовая.
– В этом всё и дело. Не только.
– Баба красивая.
– Дурак ты. Человек она какой!
– Не очень хороший.
– Ну, Нефедов. Это оценочно. Я писанину ее читал. На первый взгляд ушлая бабенка. Циничная, острая на язык, все с усмешечкой, все с нее как с гуся вода. Нет, не живут такие в пылище. Не бегают втайне по просмотрам. Не отвечают письмом пылким юным незнакомцам.
– Ну так какая она тогда?
– Как тут одним словом скажешь? Правильно Вайнштейн заметил: цацки выдают. И Лёдик наш Утесов тоже в яблочко попал: ей все самое лучшее подавай. И соседи знали, о чем говорили: гордая. Первым ударом, конечно, стали просмотры эти. Отказы копились. Еще первые можно списать на простое невезение. Но потом и она стала понимать: тут не просто невезение. Фильм в ее жизни больше не будет. А там еще удар – мальчишки эти со своими любовными цидульками. Смешно? Мне смешно. А ей не очень. Над ней – смеяться?! Раньше над ней не смеялись. И так ей, Нефедов, видно, тошно стало… Баба ведь еще молодая. Так она, видать, ясно увидела, что впереди – долгие-долгие годы, в которых у нее ничего нет. Кроме комнаты с хламом и кучки старых поклонников. Тоска. Тоска и злоба. На несправедливость жизни. Почему одни из ее прошлой жизни отлично устроились в новой, а сама она – нет? Вот она и собрала их всех… Ты вспомни, мы с тобой дивились, когда первый раз прочли: все герои у нее больно заметные – таких поди на допрос еще вызови. Вот-вот. Причем ловко так она написала это. Сперва читаешь – хаха-фафа. Оперетта с дураками. А потом понимаешь, что по каждой главе там если милиция прохлопает, так ГПУ точно таскать начнет. Пленных она решила не брать. Последняя фильма. И все взоры только на нее.
– А Савостьянову вы зачем звонили? Что он вам сказал?
– Что судьба тонкая штучка, Нефедов. Варя баба ушлая. Ты же сам приключения ее читал. Тебя они не напугали? Меня – да. Я бы и от половины гикнулся. На Пряжке уже сидел. А эта ничего. Отряхнулась и обратно в драку кинулась. Пока у нее имелось кино, ей ничего страшно не было. А судьба ей на спину соломинку для надежности подбросила. И хребет Варин – крак!
Зайцев сломал деревянную палочку, поданную к коктейлю.
– Самое обидное, Нефедов, что и это я тоже видел. Просто не понял. Савостьянов пальцем даже потыкал. А я никак. Вот это досадно. Только одно живое существо в своих мемуарах Варя описала ласково. Тачанку свою марки «Изотта-Фраскини». И вот представь себе. Выходит Варя с кинофабрики. Очередной отказ. Тут еще мальчишки эти – даже если Лёдик наш приукрасил насчет того, что шуму было много, задета Варя была хорошо. Ползет она, значит, к себе, в логово, как подстреленная волчица. А тут – автопробег Москва – Ленинград – Москва. Савостьянов мне все изложил. Еле живым от него ушел. Лимузины новенькие. Восемь цилиндров, сто лошадей, советский автопром. Шик-блеск. И тут же старушка «Изотта» трехает. Ее «Изотта»! Ты вспомни, она пишет: другой такой ни у кого нет… Савостьянов рассказал мне про крушение этого драндулета на старте. И Варю нашу это добило. Вот когда я это, Нефедов, понял, остался только последний штрих… Вот ведь хладнокровная баба, конечно. Под ножиками стоять. А если промахнулся бы Ирисов ваш?.. И вот она сделала скользящий узел вокруг рукояти – он у нее в мемуарах, кстати, описан. Забросила веревку на люстру, так что пыль вся посыпалась. Перед этим, конечно, порепетировала – она же актриса. Только мы выбоины от ножа на полу при обыске не заметили – поверх них кровать стояла, а потом уже пол весь нами исцарапан был, живого места не видать… Ну и, значит, легла Варя на место точное. Укрылась шалью – и дернула веревку. Узел развязался, веревка упала вниз. Помнишь, мы, когда обыск проводили, ты о веревку, то есть поясок шелковый, чуть не споткнулся. А я его отбросил.
Зайцев машинально стучал обломком палочки по краю стакана.
– Не дрогнула же… Но этот штрих ее портрета уже ты мне дорисовал, – великодушно добавил Зайцев. Стал глядеть в окно на Невский.
– Вы чего коктейль не пьете? Не вкусно?
– Сладко очень уж. Надо было тоже мороженое заказать.
Зайцев глядел в окно. Девицы шли мимо в крепдешиновых платьях. И в теплых вязаных кофтах. Не Гагры.
– Прям так ее? – облизал ложечку Нефедов.
– Что ее прям?
– Тачанка. Мало ли тачанок в городе, говорю. Может, не ее.
Нефедов принялся пилить ложечкой ледяные утесы в своей креманке. «Ишь ты. Перенял: сперва вкусное самое. Потом невкусное», – отметил Зайцев.
– Ты чего? А масть цвета шампанского? А дырка вместо радиатора, который Мишель себе на память скрутил? Представляешь, я и радиатор этот в комнате у Мишеля сам видел! А в голове не звякнуло. То есть не сразу. Я ведь тогда факты искал. А надо было – психологию. Прав был Крачкин.
– У вас Крачкин всегда прав, – проворчал Нефедов. – Нате, товарищ Зайцев.
И подвинул ему отделенный ложечкой холодный земляничный утес.
Зайцев смотрел на оплывающий маленький айсберг. «Гордость», – перевел он, как сумел, для Нефедова. Но было ли верное слово для самой Вари? Раньше Зайцеву казалось, что гордые счастливы: им всё равно, ни до чего нет дела, в них можно плевать сколько угодно и кому угодно – с таким же успехом можно плевать в облако, в луну, в солнце. А Варя счастлива не была. Как она там написала про Запорожца (то-то сейчас ее остроумием наслаждаются сотрудники Амторга)? Никогда не стой между алкашом и бутылкой? Между наркоманом и морфином. А между Варей и глазком киноаппарата, который должен смотреть только на нее? Она так любила кино! Она никого так больше не любила. Даже саму себя. Мемуары написаны злым пером. Но не по злобе к этим, у которых сейчас хорошо. Она просто хотела справедливости. Ей следовало уйти из жизни, где не было кино. Но и им – тоже. Потому что она была настоящая, а они – нет.
И еще, конечно, они ее немного обидели. Но это не так важно.
Зайцев вдруг подумал, что Варя была большим художником. Она знала страшное притяжение того источника, из которого вычерпаны, выловлены, выужены все эти книжки, картины, стишки. Ну и пусть плоды ее гения – эти все фильмы – дерьмовые. Так тоже бывает.
Зайцев вспомнил «Замок Тамары» и прочую дребедень, улыбнулся.
– Рады, что Гудкова от расстрела увели? – подал голос Нефедов.
– Конечно, Нефедов, рад! – ответил быстро Зайцев.
– Дело закрыто! – довольно подвел Нефедов.
– Закрыто, – повторил Зайцев, и в следующий миг почувствовал, что прежняя апатия наваливается на него, как большой серый зверь.
Подошла официантка в белом передничке.
– Еще чего-нибудь? Кофе? Какао?
– Нефедов, будем чего-нибудь? – изобразил энтузиазм Зайцев.
Официантка подала Нефедову сложенную вдвое картонку меню. Такую же Зайцеву.
Он раскрыл.
На него уставился вложенный в меню маленький белый прямоугольник плотной бумаги – на такой иностранцы печатают свои имена, должность, адрес конторы.
Вот только имя было не иностранное. А русское. Самое обычное. Обычнее некуда.
На ней стояло:
Mr. Petrov
AMTORG.
Руки Зайцева, держащие меню, стали ледяными, в ушах зашумело.
– Так что – какао? – спросила официантка.
notes
Назад: Глава 17
Дальше: Примечания

