КУСАЙ МЕНЯ, ПАУК
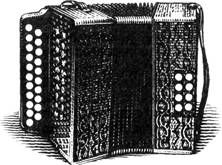
Маленький однорядный аккордеон
И не смотри на меня так
Великий аккордеонист, а по совместительству уборщик посуды Абелардо Релампаго Салазас – это он в Хорнете, Техас, майским утром 1946 года, перевернувшись незадолго после восхода солнца в собственной кровати, вдруг почувствовал, что умирает, а, может, и умер уже. (Несколько лет спустя, когда он действительно умирал в той же самой кровати, он ощущал себя поразительно живым.) Чувство было не сказать чтобы неприятным, но с оттенком сожаления. Сквозь ресницы он видел кроватные шарики из чистого золота, а в окне – трепетное прозрачное крыло. Его омывала небесная музыка и голос, чистый и умиротворяющий, – голос, которого он не слыхал ни разу, пока был жив.
Прислушавшись, он вернулся к жизни и сообразил, что кроватный шарик позолотило солнце, а крыло ангела было всего лишь развевающейся занавеской. Музыку играл его аккордеон, но не четырехрегистровый двухрядный «Маджестик» с инициалами АР на белом перламутре, а другой, особенный, маленький девятнадцатикнопочный двухрядный аккордеон с очень редким голосом. К которому никому, кроме него, не позволено прикасаться! И все же он лежал и слушал – несмотря на протестующие позывы переполненного мочевого пузыря и разгоравшийся жар нового дня. Голос принадлежал его почти взрослой долговязой дочери – голос, которого он никогда не слышал, если не считать басовитого жужжания, что издавала эта замарашка, бродя по дому. Он был уверен, что девчонка умеет играть разве что нескольких элементарных аккордов, хотя вот уже четырнадцать лет она была его дочерью, и сто раз у него на глазах забавлялась с маленьким «Лидо» своих братьев. Когда ему узнавать детей, если он почти не бывает дома? Сыновья, да – они музыканты. Он злился еще и от того, что именно дочь вдруг оказалась исключением. Этот удивительный голос, исходивший из самого верха носоглотки, печальный и вибрирующий, словно вобрал боль всего мира. Он вспомнил старшего сына, Кресченсио, бедного покойного Ченчо, начисто лишенного музыкального слуха и похожего на робкого пса, что боится сделать шаг вперед. Какая потеря! Должно быть, дьявол, а не Бог послал в его сон эту музыку. Тот самый дьявол, что вот уже целый век водит за нос людей, пряча в труднодоступных местах ископаемые кости. Абелардо злился еще и потому, что девчонка терзала главное сокровище его жизни.
Не вставая с кровати, он прокричал:
– Фелида! А ну иди сюда! – и прикрыл голову подушкой, чтобы дочь не видела его растрепанных волос. Громкое шебуршание и выдох аккордеона. Она вошла в комнату и остановилась, отвернув лицо в сторону. Руки пусты.
– Где зеленый аккордеон?
– В футляре. В передней.
– Чтобы ты никогда больше к нему не прикасалась. Не смей даже открывать футляр. Ты слышишь меня?
– Да. – Она сердито повернулась и, сгорбившись, ушла в кухню.
– И не смотри на меня так! – прокричал он.
Он думал о дочери. Как хорошо она пела! Он слушал ее, но и не слышал. М-да, но когда она научилась играть? Вне всякого сомнения, глядя и слушая его игру, она восхищается своим отцом. А что если устроить сенсацию, взять ее с собой на выступление, представить им свою дочь, пусть видят, как щедро одарил Господь всех его детей – кроме Чинчо, конечно. Но даже когда он воображал себе эту прелестную картинку: себя в темных брюках и пиджаке, в белой рубашке и белых туфлях, и Фелиду в роскошном отороченном кружевами платье, которое Адина шила сейчас для девочки на quinceñera – ay, сколько же оно будет стоить! – и как Фелида выступает вперед и поет своим изумительным голосом – куда там Лидии Мендосе – вот вам новая gloria de Tejas , даже тогда будущее упрямо корчилось у темной боковой дорожки, на глухой тропе событий.
Мимо проехал автобус, наполнив комнату гулом, словно эхом от взорвавшейся канализации. Абелардо встал, закурил сигарету, поморщился от боли в правом бедре и, скосив глаза, откинул назад волосы. Как это у него получается – целый день мотаться взад-вперед на работе, а потом еще полночи играть? Не считая обычных дел с agringada женой. Мало кто вынесет такую жизнь, думал он. По крайней мере, с таким мужеством.
Однако он был уже на ногах, и, как всегда в это время, в голове звучала музыка – грустноватая неровная полька, похожая на «La Bella Italiana» в исполнении Бруно Вилларела. Всю жизнь он наслаждался своей внутренней музыкой – иногда это были несколько фраз из никому неизвестного ranchera или вальса, иногда разыгранная нота за нотой huapango или полька, которую он играл сам или слышал, как играют другие. Время от времени возникали совсем незнакомые мелодии, новые никогда не звучавшие пьесы – внутренний музыкант работал всю ночь, пока Абелардо спал.
У двери, на небольшом трюмо лежали приспособления, с помощью которых он тщательно укладывал длинные пряди волос, стараясь замаскировать лысеющую макушку. На затылке и висках волосы были очень длинными, и сейчас, ранним утром, отражение в зеркале напоминало покрытого паршой античного пророка. Он расчесал локоны деревянным гребнем, искусно расположил на голове каждую прядь и закрепил ее для надежности заколкой. Возня с прической неплохо успокоила нервы, и он запел: «Не ты ли это, моя луна, проходишь мимо дверей…» Его целью была пышная шевелюра, но посторонние люди, взглянув на эту высокую прическу, иногда – на секунду – принимали его за женщину. А незнакомцы попадались ему часто, поскольку он работал в ресторане «Сизый голубь» – не официантом, а всего лишь уборщиком посуды. «Сизый голубь» располагался в Буги – городке чуть южнее Хорнета, где раньше стоял старый дом Релампаго, и где они когда-то жили. Сейчас он сидел за кухонным столом, слушал звяканье кастрюль, Фелида подогревала молоко для его любимого caf con leche, Бобби Труп тянул по радио припев «66-го тракта», потом комментатор с заговорил о забастовке шахтеров и федеральных войсках, что-то еще про коммунистов, все те же старые песни – Абелардо вздохнул с облегчением, когда Фелида выключила приемник. Нужно торопиться.
Он был невысок, на мясистом лице выдавалась челюсть. Маленькие глубокие глазки, темно-русые брови изогнуты дугой (он приглаживал их чуть смоченным слюной пальцем), а над ними, словно панель, высокий лоб цвета фруктового дерева. Короткая шея уничтожала всякую надежду на элегантность. Руки у него были толстыми и мускулистыми, чтобы лучше, как он говорил, сжимать аккордеон, а кисти заканчивались сильными, но тонкими пальцами, умевшими двигаться очень быстро. Не слишком стройный торс, короткие тяжелые ноги, так же густо заросшие волосами, как и грудь. Тяжелый – это слово приходило на ум Адине при взгляде на его обнаженные бедра.
Беспокойный и порывистый – его лицо меняла каждая фраза, идея или мысль, что рвалась наружу. Он сам придумывал себе прошлое – взамен того, которого никогда не существовало. Ничем не примечательные события он превращал в истории, мелкие неприятности вырастали до истинных драм, а голос раздувал их еще сильнее. Dios , удивлялись официанты и растерянные дети, как можно столько говорить, наверное во младенчестве его укололи иголкой от «Виктролы».
Но были в его жизни моменты, которых он никогда не смог бы описать словами: когда, словно птицы в общем полете, сливаются вместе голоса, и по телу слушателя пробегает счастливая дрожь. Или когда музыка бьет из инструмента, словно кровь из вскрытой артерии, а танцоры, захлебываясь этой кровью, топают ногами, сжимают скользкие руки партнеров и кричат во все горло.
Его голос возбужденно бросался от верхних нот к нижним, иногда делая глубокие паузы для эффекта – для звукового эффекта. Когда он не говорил, он пел, собирая вместе слова и музыку: «Спи-засыпай, моя прекрасная Адина, и черный волос твой на беленькой подушке, должно быть полная луна тебя к моей постели привязала». Хотя размер ноги у него был не маленьким, ему нравились элегантные туфли, и он покупал их при первой же возможности, правда всегда дешевые, так что не проходило и месяца, как коробилась кожа, и отлетали каблуки. Напиваясь, он впадал в отчаяние, своя же собственная музыка бросала его в пещеры, полные гуано и костей летучих мышей, изглоданных дикими зверями.
Я рожден в нищете
Я один в этом мире
Я тружусь, чтобы жить
Я искал красоту
Но нашел лишь уродство и злобу людскую…
Его работа была абсолютно идиотской, и именно этим она ему нравилась, он получал болезненное удовольствие, когда белые тарелки, перепачканные соусом и сыром, ненавязчиво соскальзывали со скатерти прямо в пластмассовый таз, ему нравилось собирать миски с плавающими в соусе обрывками салата, воткнутые в жир окурки сигарет.
Наступал вечер, и он входил в другой мир: аккордеон у груди, сильный голос управляет движениями и мыслями двух сотен людей, он непобедим. В ресторане он был рабом не только по долгу службы, но и по собственной внутренней склонности. Его день начинался в семь утра пустыми чашками из-под кофе и крошками сладких пирогов, а заканчивался в шесть первой порцией вечерних тарелок. Он знал всех дневных официантов, их было семеро. Все, кроме одного, с уважением относились к двойственности его натуры, хотя может и ругались вслед, когда он шел по коридору в кухню, чтобы протолкнуть таз с грязной посудой через окно в раковину, – его медлительность, неуклюжесть и бестолковость была всем хорошо известна. Но по вечерам и в выходные дни эти же люди вопили от радости, когда на них лился водопад его музыки, хватали его за рукава и повторяли его имя, словно имя святого. Они бы целовали ему ноги, если бы знали, откуда берется сила его голоса и в чем секрет зеленого аккордеона – а может, из ревности или зависти швырнули бы его в огромный горячий котел.
Назад: Промашка Чарли Шарпа
Дальше: Релампаго

