Книга: Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики
Назад: 17 Картины мира
Дальше: 19От нейролингвистики к устройству языка
18 Что происходит в мозгу
Попытки выйти за пределы «черного ящика» и посмотреть, что происходит «на самом деле», предпринимаются уже давно, но более всего этим занимаются в последние десятилетия; обращаются к этим вопросам и функциональная, и генеративная лингвистика.
Работа органов речи доступна для изучения сравнительно легко. Поэтому исторически первой областью изучения процессов, происходящих «на самом деле», стала экспериментальная фонетика, которая развивается уже около полутора столетий. Всё это время активно изучались и изучаются характеристики звуков, как акустические, так и артикуляционные (связанные с физиологией речи). Во второй половине XIX в. и в начале ХХ в. изучение звуковой стороны языка (помимо сравнительно-исторического) понималось как исключительно экспериментальное. Как пишет автор статьи «Фонетика» в энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1902) Сергей Константинович Булич (1859–1921), ее знание «на Западе составляет общее достояние каждого начинающего лингвиста», и она «является необходимым фундаментом исторической и сравнительной фонетики, без которого последняя неизбежно должна ограничиться чисто описательным отношением к своему предмету и отказаться от всяких попыток объяснения тех звуковых изменений или "переходов", которые происходят в человеческих языках». Однако в эпоху структурализма с 1920-х гг. вырвалась вперед фонология, потеснив фонетику, которая, разумеется продолжая развиваться, отошла на периферию науки о языке. Фонология была «бумажной», прямо не связанной с экспериментом дисциплиной.
Ситуация стала меняться в последние десятилетия. Как пишут в учебнике «Общая фонетика» Сандро Васильевич Кодзасов (1938–2014) и Ольга Федоровна Кривнова, «в современную эпоху традиционные фонологические модели, ориентированные на классификационные задачи описательного языкознания, оказываются недостаточными. На первый план выдвигается моделирование реальных процессов производства и восприятия звуковой речи. Многие из них получают естественное переосмысление в прикладных разработках, связанных с компьютерной имитацией звуковых процессов — синтезом и распознаванием речи».
Гораздо хуже, чем производство звуков, изучены механизмы слухового восприятия. Но сложнее всего подступиться к исследованию речевых механизмов мозга. Их прямое изучение и сейчас делает только первые шаги. В течение долгого времени данная дисциплина, так называемая нейролингвистика, изучала свой объект лишь по косвенным данным, без проникновения в мозг. Такие данные предоставляет, в частности, изучение афазий — речевых расстройств. Речевой механизм человека может выйти из строя не целиком, а частично; из этого был сделан вывод о том, что он состоит из отдельных «блоков», которые могут перестать действовать при повреждении тех или иных участков мозга. Еще в XIX в. исследователи пришли к выводу, что разные виды афазий вызваны поражениями определенных зон коры головного мозга.
Очень интересны проведенные еще более полувека назад исследования нашего выдающегося ученого Александра Романовича Лурии (1902–1977). В годы Великой Отечественной войны он занимался лечением людей, получивших на фронте повреждения мозга. В книге «Травматическая афазия» (1947) он описал материал различных речевых расстройств. Одно из них — так называемый «телеграфный стиль». Вот образец речи такого больного (попытка рассказать содержание фильма): Одесса! Жулик! Туда… Учиться… Море…. Эх! Ми-ли-ци-о-нер… Эх! Знаю! Касса! Папиросы. Можно видеть, что его речь состоит из назывных и инфинитивных предложений, состоящих из одного слова. Как правило, больной произносил существительные в форме именительного падежа, а глаголы — обычно в форме инфинитива. Иногда в его речи появлялись и словосочетания, но лишь в виде устойчивых штампов. Например, в ответ на вопрос о том, кем он был на фронте, больной отвечал: Начальник радиостанции. Однако он не мог ни свободно сочетать слова, ни склонять или спрягать их. При этом словарный запас больного оставался тем же, что до ранения.
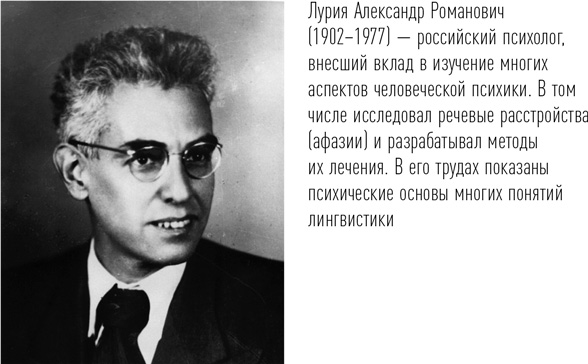
В книге описано и противоположное по характеру расстройство: больной свободно сочетал слова без ошибок в грамматике, но словарный запас оказывался крайне обедненным. Вот пример речи такого больного (попытка рассказать о своем состоянии): Мне прямо сюда… и всё… вот такое — раз. Я не знаю… вот так вот… И уже не знаю… Когда я тут — и никак… ничего… никак… Сейчас ничего… А то — никак… Я когда-то… ох-ох-ох! Хорошо! А сейчас никак. Остающиеся слова используются «иероглифически» без возможности расчленить их на звуки или буквы. Больная данным видом афазии журналистка без затруднений произносила слова Москва, «Правда», «Известия», революция и т.д., но не могла назвать буквы.
Сейчас одним из центров нейролингвистики является петербургский коллектив во главе с Татьяной Владимировной Черниговской. Она также, в частности, отмечает, что при нарушениях механизмов мозга обоих вышеописанных типов «морфологические процедуры почти не производятся: в ментальном лексиконе слова хранятся целиком, списком, без осознания их структуры»; служебными морфемами становится невозможно оперировать. В то же время среди носителей русского языка «даже лица с речевыми нарушениями обязательно используют какие-либо окончания». Вспомним и знаменитую фразу из русско-китайского пиджина: Моя твоя не понимай, где уже нет морфологии, но какие-то окончания остаются.
Другой источник сведений — исследование детской речи; здесь, наоборот, механизм только постепенно вырабатывается и начинает действовать. Оно также активно ведется, в том числе и в России (Стелла Наумовна Цейтлин и др.). Исследователи отмечают, что на раннем этапе развития (когда уже пройдена стадия произношения отдельных звуков и слогов) сначала возникают слова-предложения. В это время грамматически полные фразы составляют лишь небольшой процент высказываний; при восприятии речи также из высказываний окружающих выхватываются отдельные слова, на которые происходит реакция. Таким образом, на этом этапе есть слова, которые, по выражению Цейтлин, имеют вид «замороженных словоформ» без возможности соединять их. Это напоминает «телеграфный стиль», но на данном этапе еще и бедна лексика, которая, однако, быстро пополняется. Использование слов без окончаний и здесь невозможно. На последующих этапах дети, осваивающие русский язык, начинают сочетать слова, однако изменение слов осваивается не сразу, и в это время особую роль играет порядок слов. Для людей, окончательно овладевших этим языком, он обычно грамматически не значим, но дети какое-то время не могут различить фразы: Покажи ключом гребешок и Покажи гребешком ключ. У детей всё начинается со слов, тогда как представление о морфемах (корнях, окончаниях) вырабатывается поздно, при афазиях выделение морфем быстро разрушается, но всё кончается словами.
Анализ подобных примеров указывает на существование по крайней мере двух, а то и трех разных компонентов речевого механизма человека. Имеются набор хранимых в мозгу элементов и множество операций с этими элементами, то есть правил, в нормальной ситуации действующих неосознанно. При «телеграфном стиле» поврежден участок мозга, ведающий операциями, а хранение элементов функционирует. При другом повреждении, наоборот, затронут набор элементов, а операции с ними сохраняются. Может быть выделен и третий компонент — морфологический, который позволяет не хранить в памяти все формы клонения и спряжения, а образовывать их от исходной формы. Для имен это, естественно, форма именительного падежа единственного числа; если слово не имеет форм единственного числа или формы множественного числа много употребительнее, исходной может быть форма именительного падежа множественного числа (больной при «телеграфном стиле» употреблял формы усы, папиросы). Для глагола в русском языке это инфинитив, который традиционно и дается в словарях, хотя эта форма не самая употребительная; по мнению Черниговской, это происходит потому, что от этой формы глагола легче образовать все другие.
Подобный материал указывает на психологическую адекватность некоторых традиционных подходов лингвистики. Подтверждается традиционное разграничение двух типов описания языка: грамматики и словаря; словари моделируют (разумеется, неосознанно) деятельность участка мозга, хранящего набор элементов, а грамматики — участка мозга, ответственного за операции. Подтверждается и издавна свойственная науке о языке идея слова как центральной единицы языка, о чём будет специально говориться в следующем разделе.
Современная нейролингвистика уже не ограничивается изучением афазий и детской речи на основе наблюдения за поведением исследуемых и экспериментов над ними. В последние десятилетия ученые переходят и к прямым исследованиям мозга, для которых долго не была выработана специальная методика. Как пишет Черниговская, «появились способы исследовать мозговую активность объективными инструментальными методами, начиная с ЭЭГ и метода вызванных потенциалов и заканчивая томографиями — позитронно-эмиссионной и функциональной, основанной на анализе магнитного резонанса во время выполнения когнитивных задач». Кроме того, используются приборы, фиксирующие микродвижения глаз; они также дают информацию о том, что происходит в мозгу. Всё это дает «возможность подробно регистрировать физиологические процессы, обеспечивающие память, внимание и обработку разных типов информации».
Один из важных инструментальных методов связан с изучением функций двух полушарий мозга: с помощью электрошока временно подавляется деятельность одного из полушарий, и далее выясняется, что изменяется в речи, когда действует только одно из них. Речь ни в каком случае не исчезает, но в каждом из случаев изменения оказываются различными.
При этом возникают спорные проблемы. Например, во многих языках, включая русский и английский, имеются правильные глаголы, спрягающиеся по общим правилам, и неправильные глаголы, спряжение которых индивидуально и требует особого запоминания. Любопытно, что при обучении английскому или французскому языку всегда большое внимание уделяется запоминанию спряжения неправильных глаголов, а в учебниках русского языка о них могут и не вспоминать, хотя их немало; данные нейролингвистики показывают, что это не случайно.
В современной нейролингвистике много внимания уделяется процедурам обработки регулярной и нерегулярной морфологии; исследуются степень их сохранности при афазиях разного типа и формирование у детей. Как отмечают Черниговская и ее сотрудники, здесь конкурируют два подхода. Многие исследователи считают, что в языке существует два механизма: «регулярные глаголы выводятся в соответствии с символическими правилами, а нерегулярные извлекаются из памяти целиком»; такая точка зрения чаще встречается в США у сторонников генеративизма. Однако петербургский коллектив, изучающий носителей русского языка, пришел к выводу, согласно которому «не существует принципиальной разницы в обработке и хранении регулярных и нерегулярных форм».
Исследования детской речи показывают, что носители русского и английского языков формируют морфологию по-разному. Если дети, овладевающие русским языком, на одном из этапов овладения говорят, как уже упоминалось, «замороженными словоформами», постепенно осваивая словоизменение, то американские исследователи отмечают на соответствующем этапе «телеграфную речь», в которой отсутствуют не только служебные слова, но и аффиксы. И исследования афазий показывают, что в английском языке регулярные формы прошедшего времени с элементом -ed (который по традиции принято считать аффиксом) составляются из компонентов (производятся), а не хранятся в готовом виде (воспроизводятся); формы неправильных глаголов, однако, воспроизводятся. То есть получает подтверждение точка зрения о разных механизмах для регулярных и нерегулярных форм. Показательно, что когда-то некоторые представители американской дескриптивной лингвистики предлагали выделять, например, в формах английского глагола со значением «брать» take и took корень t-k и вставляемые внутрь него аффиксы. Однако эта точка зрения не прижилась для английского языка, хотя во многих «экзотических языках» аналогичные трактовки были распространены среди дескриптивистов. Видимо, мешала интуиция носителей языка.
Особо следует остановиться на изучении функций полушарий мозга. Уже более столетия существует гипотеза, согласно которой правое полушарие связано с образами, а левое полушарие — с логическими операциями. О раздельности этих функций уже давно, независимо от нейролингвистики, накапливался немалый материал.
Например, по-видимому, при восприятии письменного текста неодинаково обрабатываются иероглифы и буквы. Здесь любопытен материал японского языка, где (в отличие от китайского, в котором используются только иероглифы) сосуществуют заимствованные из Китая иероглифы и две изобретенные на их основе в самой Японии азбуки: хирагана и катакана. В соответствии с общей нормой, корни слов (кроме новых заимствований из английского и других, в основном западных языков, которые пишут катаканой) пишутся иероглифами, а окончания и служебные слова — хираганой. И многие из тех, кто хорошо владеют языком, отмечают, что иероглифы и знаки азбуки воспринимаются разным образом. Вот что писал Конрад: «Когда я бегло просматривал эти книги, переворачивая одну страницу за другой, у меня возникло ощущение, будто я погружаюсь в мир каких-то понятий. Так как я только перелистывал книгу, а не читал ее, что в ней говорится, я уловить не мог, но о чем говорится, мне было совершенно ясно.… Первое, что хочет знать человек, открывая новую для себя книгу, это — о чем в ней написано; получается, что наличие иероглифов дает на это быстрый и точный ответ при одном взгляде. При европейской системе письма мы должны были бы прочитать весь текст или по крайней мере отдельное слово всё полностью. При японской же системе письма первая, начальная информация получается наиболее быстрым и экономичным путем через одни иероглифы». А недостающую информацию дают знаки азбуки, требующие для восприятия вчитаться в текст. То есть иероглиф — образ, запоминаемый «при одном взгляде», а фонетическое письмо (кириллическое, латинское, хирагана или катакана) воспринимается последовательно, с помощью логической операции.
Как уже отмечалось в разделе «Письмо», всё это не значит, что иероглиф — чистый образ, «картинка». Он имеет на самом деле четкую структуру. И даже в наши дни китаец или японец может столкнуться с неизвестным ему знаком, который приходится анализировать, а затем искать в словаре (еще недавно в Японии в портфеле было принято носить карманный иероглифический словарь, который теперь имеется в телефоне или ноутбуке). С другой стороны, и в привычных для нас языках с алфавитным письмом только малограмотные люди читают по буквам или по слогам. В мозгу существует и определенный образ если не каждого слова, то наиболее значимых слов. Так что если предполагать, что образами ведает правое полушарие, а логическими операциями — левое, то придется признать, что оба полушария воспринимают и иероглифы, и знаки японской азбуки. Однако, по-видимому, предпочтительна ситуация, когда при фонетическом письме глаз движется по строкам (в японском языке чаще по столбцам), а в тексте, содержащем иероглифы, сразу выхватывает «ударные» знаки. Об этом писал Конрад, и на этом основана японская реклама.
Непосредственные исследования полушарий мозга в целом подтверждают данную гипотезу. Черниговская пишет: «...[в ходе эволюции человека] левое полушарие стало регулировать наиболее сложные и одновременно ключевые компоненты языка — анализ и синтез фонологических цепочек, морфологию и синтаксис, в то время как к правому полушарию отошла функция регулирования процессов смыслообразования и прагматические аспекты речи». Как выявляется при опытах той же петербургской группы, в которых испытуемым предлагается классифицировать слова, при работе только правого полушария ориентируются на смысловые связи, игнорируя грамматику, а при работе только левого полушария обращаются прежде всего к форме. Логические умозаключения легко делаются, если действует левое полушарие, а если оно отключено, то приходится ориентироваться лишь на жизненный опыт. Например, когда испытуемые воспринимали предложения: Во всех реках, где ставят сети, водится рыба и На реке Нева ставят сети, им предлагалось ответить на вопрос: Водится в Неве рыба или нет? При работе левого полушария ответ не вызывал затруднений, а если действовало лишь правое полушарие, следовали ответы вроде: Да, я сам варил (жарил, ел), то есть предложения не связывались между собой.
И обнаружено, что если человек овладевал языком, ориентируясь только на систему правил (а так у нас обычно учат язык в школах и вузах), то оказывается задействованным лишь левое полушарие, тогда как при обучении прямым методом, через общение с носителями языка (аналогично тому, как происходит овладение материнским языком) действуют оба полушария. Именно поэтому, как уже говорилось, второй язык при сознательном обучении неизбежно смешивается с первым языком. И поэтому операции, производимые левым полушарием, можно освоить и при школьном методе; можно, например, научиться говорить без акцента, не ошибаться в грамматике. Однако семантика оказывается обедненной. Может быть, поэтому так мало крупных писателей, использовавших неродной язык (речь не идет о тех из них, кто, как Набоков, с самого раннего детства оказывался в атмосфере нескольких языков).
И, как уже говорилось в связи с разными системами письма, не следует считать, что противоположность функций двух полушарий абсолютна. Как указывает Черниговская, далеко идущие противопоставления вроде «правополушарная культура — искусство и Восток», «левополушарная культура — наука и Запад» упрощают реальную ситуацию. Она также указывает, что, с одной стороны, нельзя говорить о распределении всех функций по всему мозгу, но, с другой стороны, «в нейролингвистических исследованиях… сама идея локализации функций становится все менее популярной». Эта идея сменяется представлением о том, что «нейроны из разных областей коры могут быть одновременно объединены в общий функциональный блок».
Нейролингвистика находится на очень ранней стадии развития, многое еще предстоит сделать. Но уже ясно, что она представляет собой важнейшую область науки о языке, без знания результатов которой мы не можем иметь полного представления ни о строении, ни о функционировании языка.
Назад: 17 Картины мира
Дальше: 19От нейролингвистики к устройству языка

