Царские милости
Тем временем как царь Иоанн сам не свой стоял в Успенском соборе, Трифон с настоятелем Соловецкого монастыря подходили к Москве. Великий путь был пройден. Усталость давала о себе знать, но оба подвижника не обращали на нее внимания. Как и Трифона, соловецкого настоятеля занимала одна мысль: что-то встретит их в Москве.
А Москва все приближалась.
Из-за зеленых лесов и садов выплывала она, подставляя солнцу кровли домов и церковные колокольни. Уже показался Кремль, опоясанный белыми стенами с зубчатыми башнями и стрельницами, уже словно шли навстречу инокам посады, над которыми сияли церковные кресты. Ближние вливались в дальние посады, укрепленные решетками и рогатками, обнесенные оградой из прочного дерева. Ворота, как темные пасти, зияли в них, вознося башни к лазури небес.
— Вот она, Москва! — сказал Трифон и стал истово креститься, опустившись на колени. Спутник последовал его примеру.
— Помоги нам, Всещедрый!
— Вложи согласие в уста государевы!
Иноки молились долго и пламенно. Праздничный благовест плыл к ним от города — малиновый, сладостный. Все колокола, сколько их было в городе, оглашали округу перезвоном и этот говор уносился за леса, за поля, за пригорки и таял на просторе, куда уже не долетал московский гул.
Но хотя и приближался стольный град, однако идти до него надо было еще несколько часов, и не ранее, чем к вечеру, мог он принять гостей. Старые ноги не крылья: не очень-то быстро несут вперед.
В виду города иноки присели отдохнуть на траве, уже начинавшей желтеть, на пригорке, где гнездился кустарник. Тонкая, прозрачная паутина тянулась от сучка к сучку орешника.
У обоих иноков с собой челобитные. Заговорили о Москве. Все надежды на нее. Она одна вольна вознести дальнюю лопарскую обитель или оставить ее на произвол судьбы. Что-то Бог даст?
— Смилуется надежа-государь, — говорил соловецкий настоятель.
— Сердце царево в руке Божией, — говорил в ответ апостол Севера.
— Любит он обители и печется о благе иноков своих…
И повелась беседа о том, как щедро Грозный оделяет монастыри всем: и вкладами, и угодьями, и утварью. Ведает государь, что за монастырскими оградами, вдали от мирского суесловия, возносится пламенная молитва о его царском здравии и спасении в будущей жизни. Долго беседовали так далекие гости; отдохнув, опять побрели.
День переливался в вечер, когда они достигли дальнего посада. Город принимал их в свои пределы.
За посадом — прямо муравейник! Дом за домом, дом над домом, дом возле дома. Ближе посада, отделяясь от него глубоким рвом, тянулись, казалось, без конца в даль и ширь огороды, на которых еще краснела морковь, завивался горох, топорщилась репа. Раскидистая яблоня нависала над грядами, свешивая сочные яблоки, еще не успевшие очутиться на зубах у детворы, которая где-то шумела, а где — за плетнями не видать.
Старый престарый огородник, увидя иноков, проходящих мимо, окликнул:
— Здорово, Божии люди!
На приветствие они отвечали поклоном.
— Зашли бы ко мне в убогую горенку, богоданные! Чай, умаялись. Издалеча, знать, бредете… — продолжал огородник.
— И то издалеча.
— Ну, то-то…
— Спаси Господи, зайдем, добрый человек.
— Отдохнете, подкрепитесь, чем Бог послал.
Иноки завернули к огороднику. Узкая дорожка между гряд привела их к крылечку, которое, в свою очередь, вводило в горенку, бедную, но чистую. Полумрак глядел изо всех ее углов и хотя отчасти скрывал бедноту.
Гостеприимный хозяин усадил иноков в передний угол и, потчуя, стал расспрашивать, откуда они.
— Давненько я живу под Москвою, — говорил огородник, — немало хаживал по городским улицам. И всех иноков, что на Москве, ведаю, а только вас доселе не встречал…
— Мы от моря Студеного, — отвечали гости.
Хозяин слыхал о море Студеном… Далече, мол, оно… Сказывают, кипит-шумит там, где живут люди с песьими головами, летают птицы неведомые, бродят звери лютые, каких православному человеку и видеть не дано.
— Ужель оттудова вы, Божии люди? — изумился огородник и смерил иноков с ног до головы. Знать, в старческую голову закралось недоверие.
— Оттудова.
И иноки постарались разуверить старика, что никаких людей с песьими головами у моря Студеного нет, птицы неведомые не летают, звери диковинные не водятся, и люди, и птицы, и звери там такие же, как везде. Народная молва сочиняла сказки, и только доверчивые этим сказкам верят.
Отдохнув, подкрепив силы, Трифон и соловецкий настоятель поднялись с лавки, чтобы уходить. Старик оставлял их ночевать, но они решили добраться до московского монастыря и заночевать уже в келие у какого-нибудь инока.
Совсем стемнело.
Пожалуй, и любой бы боярский двор с превеликой радостью принял иноков: таким гостям бояре всегда были рады, не говоря о боярынях… У боярина ли Стриги, Семенова, Савостьянова, Тучкова, у князя ли Телепни-Оболенскаго, даже во дворе самого казанского царя Сафагиреевича — всюду ожидали Божиих людей, за мир грешный молящихся, привет и ласка. Но и Трифон, и соловецкий настоятель предпочли удобству боярского гостеприимства иноческую убогую келию в Златоустовском монастыре.
Ночь прошла.
Еще до благовеста к обедне, рано-рано поднялись они и отправились к Успенскому собору поджидать царского выхода. Челобитные заготовили, торопятся занять места подле паперти церковной, где нищие и слепцы располагаются. Конечно, не пили, не ели. Утро мало-помалу теряет свой румянец, солнце всходит, но всходит как-то робко, медленно — не по-вешнему. Утренничек, правда слабый, приятно бодрит. Дрожь пробегает по телу, но такая приятная дрожь. Откуда-то доносятся пастушьи рожки, где-то лают собаки; пробуждаются пернатые: их хор уже славит Творца.
— Хорош город Москва! — думает Трифон, и ему вспоминается его путешествие в Великий Новгород с Ильмариненом. Как он тогда дивился новгородской пышности да благолепию новгородских церквей! Посмотрел бы на Москву лопарь, больше бы стал изумляться.
И в то же время как стрела мелькнула мысль о родном Торжке. Но только мелькнула и пропала, как зарница в синеве вечерних небес. Далеко Торжок. Далек он от него, Трифона. Порвалась цепь, связывавшая обоих. Некогда дорогой звук отдается в ушах глухо, безразлично, не волнуя ни сердца, ни ума. Никого ведь из сродников там не осталось в живых. Могильные холмы на городском кладбище скрыли милые черты дорогих, близких, родных лиц. Мира, открывшегося в детстве Митрофану, не стало. Он словно угас. Взамен него открылся новый, непохожий на угасший: он в гранях небес, или небесного. Земля как бы боится приблизиться к нему со своей суетой.
Опять благовест поплыл над Москвой.
Всколыхнулась престольная.
В Кремле, в ожидании царского выхода, собрался народ. Затянули «Лазаря» слепые, заголосили нищие и убогие, и калИки. С каждой минутой росла и росла толпа, и к тому моменту как выйти царю Иоанну из дворца, площадь представляла собой целое море голов. Трифон и соловецкий настоятель остановились у соборных дверей: царь, проходя в храм, не мог не заметить их. Легче нельзя было подать ему челобитные.
Вот и государь шествует. За ним все те же приближенные, что и вчера. Те же выражения лиц, те же одежды. Только один новый человек. Он совсем еще юн. Он идет ближе к царю и одежда его — не боярская. Так одеваются только царевичи. Это и в самом деле царевич Феодор. На лице его с бледным румянцем написана кротость. Кротость и какое-то чисто иноческое смирение. Поглядеть: будто бы царевич не из дворца вышел, а из келии. Снял монашеский подрясник и облачился в пышное, златотканное одеяние, не себе в удовольствие, а кому-то другому. Он не земной житель. Его захватил церковный благовест. Волны звуков, тающих в поднебесии, словно колеблют небесный свод, и он разверзается, и в синеве его видятся только одному ему, царевичу, небожители, в светлых ризах, светлокудрые… И ни на кого не взирает Феодор. Его мысли там — в бездонной глубине, где по ночам звезды кроткие сияют…
Иоанн Грозный, тяжело опираясь на посох, неторопливо идет, раздавая милостыню направо и налево и испытующим оком оглядывая народ. Слепые славят царя — покорителя Казанского царства. Царь внимает, но он по обыкновению мрачен. Это мрачное спокойствие… Таков уж Иоанн!
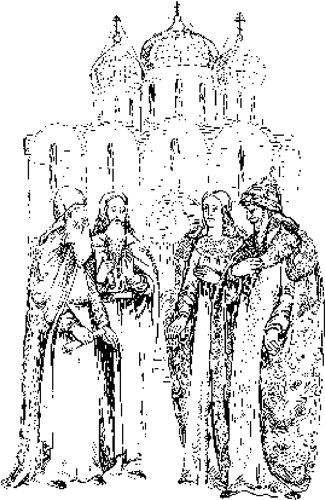
Феодор равнодушен к словам, доносящихся из уст поющих слепцов, но его жалобят самые голоса их, надтреснутые, хрипловатые, надрывчатые.
Он обернулся к Малюте.
Скуратов подался к нему.
— Дай им… — сказал Феодор, протягивая пригоршню монет.
Скуратов поклонился, вымолвив:
— Тотчас, царевич.
И милостыня царевича растеклась по жилистым, мозолистым рукам, которые потянулись со всех сторон, едва только Феодор опустил руку в кошелек.
Вдруг из царских уст вырвалось:
— Опять вы?!
Грозный ступил на паперть и увидел двоих иноков. Трифон и настоятель преклонили колена и, низко кланяясь царю, подали челобитные.
— Вы?! — повторил Грозный как-то растерянно.
Он взял обе челобитные и передал их Феодору. Грозный с недоумением смотрел на монахов.
Трифон осмелился:
— Повели, благочестивый государь…
Царь прервал его взволнованно:
— Видел вас вчера, а теперь иду к Божественной литургии.
И царь вошел в собор. Опричники последовали за ним. Феодор, оттиснутый, остался на минуту на паперти. Он посмотрел своими задумчивыми глаза на монахов, и сердце царевича вдруг как-то забилось-забилось, он ощутил в себе какую-то особенную теплоту. Между ним и этими неведомыми иноками сразу установилась незримая связь.
— Кто вы? Откуда? — дрожащим голосом спросил Феодор иноков и, услышав ответ, добавил: — Зачем пришли?
Трифон сказал.
— Благослови меня, муж праведный, — и Феодор склонился пред старцем для благословения.
Затем он вошел в соборный притвор и торопливо снял с себя златотканое одеяние.
— Стрига, — обратился он к седобородому боярину, — Стрига, поди и отдай, в ней я шел, одежду мою странному иноку Трифону и скажи ему: благоверный-де царевич послал тебе свою одежду — да будет его милостыня прежде всех. Пусть он переделает эту одежду в священническое облачение. Стрига, я вижу в нем мужа праведного!
Стрига в точности исполнил царевичеву волю.
— Благодарю Бога, в Его же деснице сердце царя и царевича! Земно ти кланяюсь, боярин! — отвечал Трифон, умиленный.
После обедни Феодор торопливо отправился к старшему брату своему, царевичу Иоанну и поведал ему о встрече с иноками и о том, что он пожаловал праведному мужу Трифону свое драгоценное одеяние.
Покуда Феодор беседовал с Иоанном и предлагал братцу принести инокам дар и вместе с ним, Феодором, умолять отца пожаловать щедро и Трифона, и соловецкого настоятеля, собиралась Дума. Оповестили бояр, что угодно царю подумать с ними.
Оба царевича — Феодор и Иоанн, приступили к батюшке с просьбой. Грозный приласкал их и обещал великодушно одарить странных иноков.
Дума собралась. Дьяк прочитал челобитные Трифона и соловецкого настоятеля.
— Чем пожаловать их, сказывайте, бояре! — промолвил Иоанн, — Думайте да молвите. Видел я тех иноков вчера, и сказал мне тайный голос, что оба странные иноки — мужи достойные. И не о себе они пекутся, а о нуждах обителей своих.
— Полно, так ли, государь? — отозвался первым матерый боярин, — Изволил ты, надежда-государь, вымолвить, что будто видел тех иноков вчера. Сегодня, государь-батюшка, их точно что видели, а вчера-то никого.
Грозный сдвинул брови, сердито посмотрев на боярина.
— Зря говоришь! — сурово произнес он. — Я с ними довольно разговаривал вчера. — И, окидывая всех глазами, в которых вспыхивал недобрый огонек, Грозный добавил. — Вы ль, бояре, не видели?
— Голос твой слышали, государь, иноков же отнюдь не видели и голоса их не слыхали.
Царь ударил оземь посохом.
— Как не слыхали?
Гневное царское слово, как гром, отдалось в палате.
— Как вы не слыхали?
— Бог свидетель, правду молвим, государь…
Грозный не слушал.
— Эй, сыскать иноков и пред наше царское лицо поставить! — повелел он.
Сыскали Трифона и Соловецкого настоятеля и поставили пред государев лик.
Вспыхнул и побледнел Иоанн, побледнел и вспыхнул вновь:
— Вы ли вчера со мной говорили? — глядя в упор, спросил он монахов.
Трифон и настоятель выразили недоумение.
Грозный широко раскрыл глаза:
— Аль не говорили? — произнес он тише, но так, что в его голосе слышно было недоверие.
Трифон отвечал:
— Нет, великий государь, вчера мы и в царствующем граде не были. Многими свидетельствуемся.
Грозный содрогнулся:
— Многими… свидетельствуетесь?..
— Свидетельствуемся, государь, яко сегодня только увидили тебя.
Грозный пожимал плечами. «А с кем же говорил я вчера? Ведь не обманывали же меня собственные глаза! Ведь именно этих двух иноков зрел я вчера, и на том самом месте, на котором они стояли и сегодня! Не видение же это было? Или видение, одно из тех, которые так часто посещают меня?» Царь терялся в догадках.
— Так вас не было вчера?
— Не было, государь.
— Бояре… — начал было царь и остановился. Он задумался на какое-то время, но потом торопливо заключил:
— Ладно. Ин быть так. Так Всевышний хотел.
Наступило молчание. Царь нарушил его.
— Чем пожаловать благочестивые обители, бояре? — сказал он. — Молвите, а я Богом свидетельствуюсь, что хочу всею душою и всем сердцем щедро наградить их. И царевичи к тому нас умоляют.
Дума заговорила. За решением дело не стало. Не впервое доводилось осыпать милостью и щедротами обители. И раньше многократно бывало.
— Так решено?
— Решай сам, великий государь.
— Читай, дьяк, — повелел Иоанн.
Дьяк прочитал решение думы, скрепленное согласием царя:
«По умолению детей своих, царевичей Иоанна и Феодора, пожаловали мы царского нашего богомольца от Студеного моря-океана, с Мурманского рубежа, Пресвятой и Живоначальной Троицы Печенгского монастыря игумена Гурия с братиею, — или кто в том монастыре игумен или братия будет, — вместо руги (содержания) и вместо молебных и панихидных денег для их скудости на пропитание, в вотчину: морскими губами Матоцкою, Илицкою и Урскою, и Печенгскою, и Позренскою, и Нявдемскою губами в море, всякими рыбными ловлями и морским выметом, коли из моря выкинет кита, или моржа, или иного какого зверя, и морским берегом, и его островами и реками, и малыми ручейками, верховьями и топями, горными местами и пожнями, лесами и лесными озерами и звериными ловлями, и лопарями, которые лопари наши данные в Матоцкой и Печенгской губах ныне суть и впредь будут, со всеми угодьями луговыми и нашими, царя и великого князя, денежными оброками и со всеми доходами и волостными кормами, чтобы тем им питаться и монастырь строить, а нашим боярам новгородским и двинским, и Устькольской волости приказным, и всяким приморским людям, и карельским детям, и лопарям, и никому иному… в ту вотчину не вступаться».
Щедро одаренный царем, Трифон воротился в свою обитель.
Назад: Видение Грозного
Дальше: Перед концом

