Зов крови
X
Спать на дне, средь чудовищ морских,Почему им, безумным, дороже,Чем в могучих объятьях моихНа торжественном княжеском ложе?Николай Гумилев
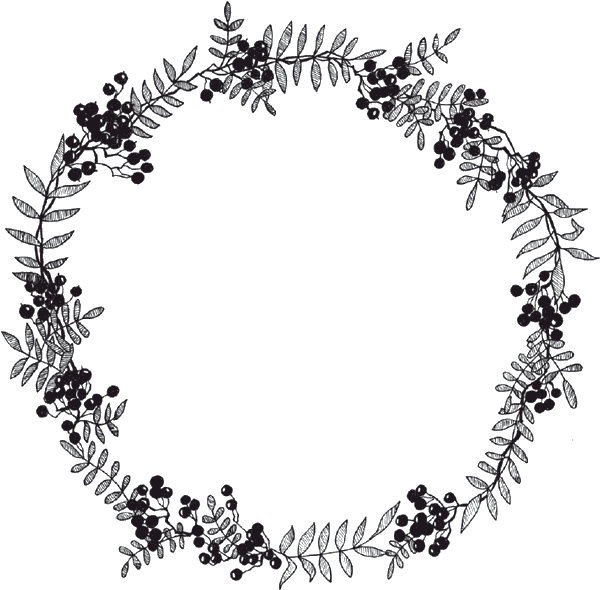
Зимний солнцеворот – особое время. Сармат сказал, что обернется человеком на четыре дня. Долгий срок, и оттого Малика не сомневалась: Сармат придет к ней. Ему нужно было юлить и очаровывать, чтобы из семян злобы в ее душе выросла если не любовь, то привязанность. Княжна жалела всех женщин Сармата, которых он взял из разрушенных поселений: глупые, потерянные девушки. Как же их изуродовали надежда и страх, раз они млели под поцелуями твари, разрушившей их дом.
Нет, Сармат. Все, что ты принимал за показную княжескую гордость, за пустую злобу, – это не попытка понравиться тебе. Это чистая, тихая, жаркая ненависть, и она текла в жилах Малики вместе с кровью, обволакивала ей сердце. Как бы ты ни был красив, лукав и весел, сколько бы ни дарил самоцветов и ласк, не откупишься. Бедные, бедные твои женщины, Сармат. Нежные слова разъедали их хуже яда, даруя веру, что каждая из них – особенная. Ради этого можно было простить тебе все что угодно.
С тех пор как рухнул Гурат-град, Малике оставалось лишь ждать. И это оказалось непросто: снимать с Сармата сапоги, расплетать ему рыжие косы, вести пальцами по шее, по груди, по… Как же так, Сармат-змей? Нынешняя ночь – самая длинная в году. Слышишь? То не ветер воет, а твой брат рыщет по миру, чтобы отыскать тебя и убить. Отчего же ты не выходишь к нему, лишь обнимаешь гуратскую княжну и прячешься здесь, в одной из своих спален, в густом свете лампад? Дышишь прерывисто и горячо, сцеловываешь с ее волос медовое золото, хотя давно уже должен стоять у подножия горы, обдуваемый бурей. Слышишь, слышишь, Сармат-змей? Это не сквозняк в самоцветных горах, это – зов. На битву, на кровь, на гибель.
Зимой в княжеских чертогах Халлегата было холодно. Княгиня Ингерда шла, одетая лишь в нательную рубаху, расшитую аметистовыми нитями; на ее тонких плечах лежали ничуть не греющие шелка. Княгиня несла свечу, и пламя дрожало на сквозняке, отражаясь в рыжих волосах, спешно собранных в узел, – как она была красива, Ингерда. Ее не состарили ни скорбь, ни потери, ни годы затяжной войны. Княгине минуло сорок, а она все равно оставалась изящной статуей, с узкими лодыжками и запястьями, обвитыми самоцветами.
Чертоги Халлегата казались вымершими: ни слуг, ни стражников – никого. Людей давно не хватало. Ингерда шла, будто по древнему лабиринту. Боязливо переступала по каменным полам, закрывая свечу от ветра, – слегка колыхались шелка, полы рубахи и прядки волос. В приоткрытых ставнях одного из окон мерцала луна, не то серебряная, не то золотая. Яркая луна самой длинной ночи.
Княгиня не верила в то, что собиралась сделать. Страх клокотал в горле, а нож холодил ее кожу сквозь тонкую рубаху. Ходили слухи: скоро эта война закончится. Известно, как – Сармат силен и буен, но ему не одолеть Хьялму даже в теле дракона. Халлегатский князь умнее, хитрее и грознее своих младших братьев, даром что один из них – чудовище, а другой – великий воин. И за победу в этой войне Хьялма уже заплатил страшную цену, но, если понадобится, заплатит еще. Его земли опустели, напитавшись кровью, но владениям Сармата приходилось хуже.
Ингерда была слабой женщиной, привыкшей к неге и богатству. Она не разбиралась в ратном деле и даже не могла представить, какую казнь Хьялма уготовит ее любимому сыну. В воздухе пахло поражением Сармата и Ярхо – отныне их не спасали ни драконье пламя, ни верные мечи. Хьялма будто озверел, раз за разом загоняя братьев в ловушки, преграждая им путь не стенами, но горами трупов. Еще чуть-чуть – и все закончится, навсегда закончится, и княжества устроят по своим павшим великую тризну.
Потери сделали Хьялму таким бессердечным, жестоким и решительным, каким он отродясь не был. Его сухопарая рука, сжимавшая то меч, то княжеский жезл, стала тяжелее крыла Сармата. Одно его слово, летевшее с губ, исполнялось быстрее, чем раскатистый приказ Ярхо. Княжества, не так давно помогавшие его братьям, трепетали и шли на поклон: понимали, что Хьялма – не Сармат. От него нельзя было откупиться ни золотом, ни пленными. Тех, кто восставал против него, халлегатский князь вырезал под корень.
Страшные времена требовали страшных мер. Ингерда знала, что скоро увидит чудовищную расправу, – год назад Сармат сделал то, что вырвало у Хьялмы сердце. Он сжег многолюдный Божий терем, стоявший в Халлегате на Хормовом холме. Там была жена Хьялмы, и там был его сын, едва научившийся ходить. Ингерда видела их после – и тел-то толком не осталось, одна труха. Хоронить нечего.
Когда Хьялме принесли весть об этом, он был в походе – сдерживал рати Ярхо у Невестиной реки. И приказал вздернуть тех, кого уличили в связи с Сарматом. Несколько конюших из Халлегата рассказали его братьям, что на зимний солнцеворот в тереме соберется тьма народа; что княгиня Ингерда, скорбя по павшим, в тот день останется в своих комнатах. А потом эти же конюшие подперли двери терема, и сотни горожан сгорели заживо, не сумев выбраться.
Следующий год стал для Сармата роковым. Он потерял почти все армии и всех союзников. Ярхо тяжело ранили у Кислого брода – говорили, тогда Сармат был в человеческом теле и, испугавшись Хьялмы, не пришел на помощь. У Ярхо оставалась лишь горстка людей, которым пришлось выйти против мощных ратей. Говорили, его изрубили настолько, что Сармат пошел к ведьмам, и те начали обращать Ярхо в камень – лишь бы сохранить в нем жизнь. Затем – Грозовая падь. В битве под ней лучники пропахали драконье брюхо рядом жалообразных стрел, и Сармат залег на дно, принявшись зализывать раны.
Поэтому сегодня, самой длинной ночью, Хьялма был в Халлегате. Люди шептались: он готовит то, что окончательно добьет его братьев. Скоро, скоро война закончится и наступит мир. Придет весна, сползут толщи снега, и токи талой воды смоют всю кровь, пролитую за эти годы. На деревьях набухнут почки, в истоках ручьев проклюнутся первые цветы – начнется новая жизнь, свежая и безбедная. Семьи вдоволь оплачут своих погибших и пойдут поднимать из оврагов деревянные столпы, на которых вырезаны лица божеств. А потом украсят столпы лентами и травами, распашут черную землю и засеют ее хлебом. Будут гулять свадьбы, чествовать дни жатвы и праздновать рождение детей – так, как несколько лет назад сама Ингерда праздновала рождение внука. На городских башнях весело зазвенят колокола, а в деревнях устроят пляски у дымных кострищ. Люди отправятся на шумные ярмарки и пересекут студеные реки, исходят леса, окутанные старыми легендами; кто станет лечить, кто – выращивать и строить, кто – баять о приключениях, а сыновья Ингерды, все пятеро, будут лежать в земле.
Княгиня не верила в сказки о ведьмах, ковавших каменный панцирь. Ярхо много раз бывал ранен, порой – так страшно, что для него начинали насыпать курган. Но неизменно оказывался крепок: на один день, стиснув зубы, вставал с постели, на второй – садился в седло и брал меч. Раз пошли такие слухи, значит, Ярхо действительно плох и скоро в Халлегат прилетит весть о его кончине.
Ее старшего сына сгубит кашель. Хьялма держит себя в кулаке и обязательно доведет войну до конца, но потом… Люди проводят его так, как не провожали никого раньше. Для Хьялмы выстроят великую усыпальницу, и к ней еще долго будут приносить корзины с фруктами, зерном и охапками цветов – как дань памяти. Над гробом воздвигнут скульптуру: вот он, князь, лежащий над своей домовиной. На его лбу – халлегатский венец, в руках – меч, на теле – одежды, и на них камнерезы вытеснят каждый узор. Лицо статуи будет умиротворено и строго, устало опустятся гранитные веки, на которых удастся разглядеть каждую морщинку, появившуюся раньше времени…
А Сармат падет бесславно. Хьялма сделает так, что его похоронят тихо, без должных обрядов. Неоплаканного, засыплют влажной черной землей, и по весне через его рыжие косы прорастет шелковая трава. Изо рта вырастут алые маки, из глазниц – девичий виноград. И только ветры, шепчущиеся над безымянной могилой, вспомнят, как он был хорош, как статен и весел.
Смогла бы Ингерда убить одного сына, чтобы спасти другого? Не для этого ли она шла по княжьим чертогам, дрожа на сквозняке, будто свечное пламя? В груди теплилась решительность: если не станет Хьялмы, Сармат будет жив. И тут же из горла рвался крик – милостивые боги, что же она задумала. Зачем эта ночь, эта луна и нож, спрятанный в тонких шелках? Хьялма – ее дитя не меньше, чем Сармат. Да, она родила первенца страшно юной – от грозного нежеланного мужа, который был втрое ее старше и которого она тогда боялась особенно сильно. Да, Хьялму тут же отняли от Ингерды, не позволив сопливой дуре нежить будущего князя, но… Ингерда солгала бы, если б сказала, что его не любила. Хьялма потерял жену и ребенка, и это было и горе Ингерды тоже. Хьялма правил мудро и твердо, его боготворил народ – это были ее гордость и счастье.
А Сармат? Слезы брызнули из глаз: боги, лучше убейте ее саму. Третий сын ей дороже остальных, и нутро Ингерды норовило разойтись по швам от такой бесконечной боли. Отчего же ты затеял это, Сармат, куда ты ввязался, тебе же не будет пощады… и прощения не будет, сколько бы ни каялся.
Разомлевший Сармат дремал на подушках. Малика по-змеиному нависла над ним: его не разбудило ни ее клокочущее дыхание, ни волосы, щекотавшие грудь. Ни скрип кровати – Малика неспешно поднялась, поддев ногой ворох сброшенных одежд. Княжна оправила рукава нательной рубахи, скатившиеся с округлых плеч; из-под платья, скинутого на пол, достала обернутый поясом кинжал – пришлось раздеваться осторожно, чтобы Сармат не заметил. Благо, свет в его чертоге был вязкий и чуть приглушенный, медово-золотой. В цвет янтарных стен с прожилками рдяного граната.
Малика приблизилась к Сармату во второй раз. Во сне у него было мягкое, почти юношеское лицо. И такое остро-красивое, что становилось больно: обожженные ресницы и подпаленные брови, рыжие усы и короткая борода, больше напоминавшая хорошо отросшую щетину; кольцо в крыле носа, заметный выступ кадыка – ничего-то тебя не тревожит, Сармат-змей. Иначе бы не спал так спокойно. Знаешь ведь, что Матерь-гора запутает твоих жен, а драконьи слуги спрячут от них все оружие – чтобы была мирной и эта ночь, и следующая, и множество ночей после.
Спи, Сармат-змей. На рассвете тебя не поднимут ни девичьи плачи, ни завывания ветра, ни тяжелые шаги каменных воинов.
Во сне Хьялма казался молодым и беззащитным. Ингерда с трудом вспомнила, что он и не был стар – ему не исполнилось и тридцати пяти, хотя волосы, закруглявшиеся у середины шеи, уже полностью поседели. На лбу, испещренном морщинами, хмурились дымчато-серые брови – а ведь Хьялма родился темнокудрым, под стать отцу. Ингерда, не дыша, глядела на каждую отметину, которую ее сыну оставило горе: складочки у век и губ, глубокие бороздки на щеках, проглядывающих сквозь недлинную треугольную бородку.
Княгиня оглянулась. В приоткрытое окно врывался ветер и шевелил ткани, свисающие с навеса над княжеской постелью, – летели они, светло-голубые и сизые, в кромешной темноте, которую прорезал лишь свет больной луны. Свои шелка Ингерда осторожно сбросила с плеч – чтобы не мешали. И, неслышно переступая узкими ступнями, склонилась над сыном.
Боги, он же еще так молод. Хотя казалось, что родился стариком – когда-то Ингерда думала, не подкинули ли ей подменыша? Не могло человеческое дитя смотреть так мудро и строго, как смотрел Хьялма. И это дитя только раз плакало ей в колени – в семь или восемь лет, когда начались первые приступы кровавого кашля. Больше – никогда. Позже, в юношестве, Хьялма возвращался из походов и первым делом спешивался с коня, чтобы поцеловать матери руки. Он привозил ей подарки и славу, но всегда смотрел так вежливо и холодно, будто не доверял женщине, которая ради любви к одному сыну могла предать остальных.
Неужели она действительно могла? Тонкие пальцы Ингерды взлетели к губам, сдерживая всхлип, а другая ладонь еще сильнее стиснула рукоять кинжала. Нет, нет, нет…
Хьялма все равно умрет. Скоро – через год или два, не позже. А Сармат сумеет прожить долгую жизнь. Ингерда сойдет с ума от мысли: когда-то, в самую длинную ночь в году, она могла его спасти, но не спасла. И княгиня вспомнит об этом, когда разглядит Сармата, болтающегося на виселице у халлегатских ворот. Или увидит его отрубленную голову, брошенную к ее белым ногам, – в рыжих косах запечется кровь, а глаза, улыбчивые и лукавые, застынут под заплывшими веками…
Ритуальный кинжал сверкнул в руках Малики золотом – расплавленным, тягучим, колдовским, отразившим в себе все пламя лампад.
Лезвие поймало серебряный лунный отблеск. Луч обвил хрупкое запястье Ингерды и осветил нож, занесенный над спящим князем. Хьялма встрепенулся так резко, будто бодрствовал все время. Рывком сел на постели и, перехватив руку матери, вывернул оружие из пальцев. Ингерда отшатнулась – бледная, онемевшая от ужаса, и так и замерла перед ним, не в силах пошевелиться. А потом медленно опустилась на колени, глотая слезы. Хьялма молчал и не поднимался – только поставил босые ступни на пол и убрал нож за спину. Он сидел в одних портах и неподпоясанной рубахе, взъерошенный со сна, но глаза смотрели цепко и страшно.
– Ну, – хрипнул. – Говори.
Язык Ингерды заплетался. Ледяной страх оплел тело, высушил горло, сделал пальцы непослушными и дрожащими.
– Хьялма, – лишь выдохнула она – щеки влажно блестели в лунном свете. – Хьялма, не губи. Я не хотела, – всхлипнула надрывно. – Это морок, слышишь? Наваждение. Безумие. Ты мой сын, и я люблю тебя, я…
– Верно, – сухо заметил Хьялма. – Но в отличие от Сармата, я не только твой сын. Я еще и твой государь.
Ветер застонал за окнами, а князь устало потер лоб и спросил:
– Знаешь, как это называется, мать?
Ингерда бы заревела навзрыд, но сил не было. Хьялма покачал головой и тихо произнес:
– Измена.
Он выглядел утомленным, спокойным и твердым, но никак не удивленным. Это ударило Ингерду больнее всего – будто Хьялма ждал от нее предательства так давно, что оно его даже не тронуло. Княгиня закусила губы, вытирая глаза рукавом нательной рубахи, – колени начали болеть.
– На дыбу вздернешь? – Она вскинула залитый слезами подбородок. – Или бросишь на плаху?
Ответ был хлестким и равнодушным:
– Нет.
Хьялма встал с постели. Перехватил нож и отошел к окну, так и не приказав Ингерде подняться, – луна бросила на его лицо сеть дрожащих узоров.
– Заколи меня сейчас, – попросила княгиня. – Или тебе нужно, чтобы мою смерть увидел весь Халлегат? – Пальцы сжали полы рубахи. – Если хочешь провести меня по мощеным улицам, чтобы каждый прохожий бросил в меня камни, – веди.
Но Хьялма ее не слушал – думал о своем, прижимаясь лбом к приоткрытой ставне. Ингерда и не попыталась бежать: куда? Большего позора она не вынесет.
– Отдай меня своим палачам, Хьялма. Пусть иссекут кнутами, затопчут лошадьми – только не молчи, умоляю!
Хьялма рассеянно дернул плечом.
– Ты напишешь Сармату.
От его тихого, но зычного голоса внутренности Ингерды скрутило в жгут. Осознание пришло быстро.
– Нет. – Она помертвела. – Пожалуйста, не надо.
– Ты расскажешь ему, что я вымещаю на тебе злость, – продолжил сухо. – Что на твоем теле нет живого места – одни синяки. – Ложь. Хьялма Ингерду и пальцем не трогал, и она жила под его крылом, холеная и неприкосновенная. – Ты расскажешь ему, что я грозился замучить тебя до смерти, но верные служанки вывезли тебя из Халлегата, пока я гостил у соратников.
– Хьялма!
– И ты попросишь Сармата о встрече, – произнес жестко. – Весной. На северо-восточном берегу Перламутрового моря, у Рудного излома, принадлежавшего твоему отцу.
– Нет, умоляю. – Ногти Ингерды впились в кожу предплечья. – Все что угодно, только не это. Хочешь – режь меня, рви, наизнанку выворачивай, но я не заманю Сармата в ловушку.
– Заманишь. – Хьялма потерял друзей, братьев, любимую женщину и ребенка – что могло его тронуть? – Мне нужно, чтобы это письмо написала твоя рука. Дрожащая, слабая. Ты не знаешь пыток, и, если понадобится, я прикажу тебя пытать. Не как свою мать, а как изменницу. Пусть письмо, которое получит Сармат, будет запятнано твоей кровью.
– Нет! – Жемчугом блеснули зубы. Лицо перекосилось в судороге. – Я не стану его гибелью.
– Конечно, – медленно ответил Хьялма, захлопывая ставни. – Ты станешь его тюрьмой.
Между ними – всего один удар.
Удар ухающего сердца, удар ритуального кинжала: кровь стучала в висках, и огонь пульсировал в лампадах, скользя по простыням на ложе, по подушкам, по волосам Малики, вьющимся у щек. Княжна занесла кинжал – лезвие войдет в плоть одним рывком. Каким бы ты сейчас ни казался красивым, Сармат-змей, каким беззащитным, рука Малики не дрогнет.
Любить так любить, ненавидеть так ненавидеть: сколько их, женщин, оставшихся в народных легендах? Тех, что резали завоевателей на их же постелях.
Острие рванулось к шее, но успело лишь оцарапать, оставив багряную, княжьего цвета дугу, сочащуюся мелкими каплями крови. Сармат выгнулся и ухватил Малику за локоть, потом отшвырнул и грубо запустил пальцы в крупные кудри. Прежде чем он развернул ее к себе спиной, Малика увидела его глаза – пылающие, злые и совсем не сонные. Рукоять кинжала выскользнула из пальцев.
Мерцали янтарно-гранатовые стены. В ходах Матерь-горы завывал ветер, и ему вторило гневное, рысье шипение Малики. Что же ты, Сармат-змей. Много бед наворотил и горя много принес – слышишь? Пришло время платить – княжна пыталась вырваться и выплюнуть хоть слово, но чужое предплечье сдавило ей шею под самым подбородком.
А Сармат перехватил кинжал – и раскроил ей горло одним отточенным, привычным движением. Потом отпустил. Малика сжала рану, и между пальцев хлынула пузырящаяся, вязкая кровь. Запятнала грудь, подушки и простыни – судорога выломала ей руки, выпростала ноги. Прошлась по сухожилиям каленым железом: больно, больно, боль… и ничего не стало, кроме боли. Из мира вытекла вся краска, оставив после себя лишь тьму. Исчезло ощущение тепла, притупились отчаяние, страх и гнев – была княжна, гордая и статная, но вёльха, живущая в недрах колдовской горы, соткала ей смерть.
В горле Малики булькнул последний вдох. Грудь взметнулась и застыла, а черные, будто угли, глаза затянуло стеклянной пленкой. В зрачках отразились огненные сгустки, танцующие в лампадах, – они напоминали змей.
Сармат, сидя у края постели, почесал уголок рта рукоятью кинжала. А потом поднялся и зло сплюнул под ноги. Обхватил оцарапанную шею, оглянулся: лежала Малика Горбовна, прямая, со вскинутым подбородком. Ее руки раскинуло на простынях. Волосы рассыпались медовыми волнами, и Сармат коснулся их кончиками пальцев.
Эх, сволочь, какая была красивая. Горло перерезал, а все равно – красивая, будто на алтаре. В смерти – торжественная, только чуть нахмуренная, с напряженно вытянутыми стопами.
Сармат нежно стер с ее щеки кровавую кляксу.
Он даже не сильно ее изуродовал: красный серп, растекшийся по коже. Не рваная рана от уха до уха. Кажется, княжна была одета так же, как в ту ночь, когда марлы собирали ее к жениху, – Сармат помнил эту рубаху, длинную, с бронзовым шитьем по вороту и рукавам. Ткань отдавала медовой желтизной. Все, как в первую ночь, только вместо алого шнурка, некогда обвивавшего его жене запястье, – пятна крови.
Медовый и алый. Цвета Гурат-града.
Круг замкнулся. Колесо года продолжило свой ход.
Сармат невесело усмехнулся. Знал ведь, что так выйдет, знал, а все равно поступил по-своему. Будто надеялся, что ухватит свою смерть за холку и поглядит, чьи у нее глаза. Ему следовало убить княжну гораздо раньше, как убивают диких зверей, чьи логова были разорены, – надо же, мстить надумала. Дура. Не хотел ее гибели раньше срока, так нет же, напросилась.
Нет, Малика Горбовна, – губы сломались в ехидной усмешке. Смерть Сармата еще юная и беспечная, она гуляет в полях далеко отсюда. Если ему нужно каяться, то не перед тобой. И не к твоим коленям склонится его буйная голова – спи, Малика Горбовна, долго спи.
Сармат наклонился и ласково поцеловал ее в лоб.
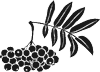
– Что твоя жена, Хозяин горы?
Хиллсиэ Ино не нуждалась в ответе. Сама ведь напророчила. Она сидела на длинном, застланном полотном сундуке – прямая и важная, в рогатой кичке. Убранная самоцветами и облаченная в свои лучшие одежды: лен и бархат, расшитые цветами мака и левкоя. На пол стекал длинный пояс. Летели узоры: корабли и косматые ветры.
Сармат сощурился, будто ему стало больно смотреть на блестящую, торжественную вёльху. Словно невеста на второй день свадьбы.
– Жена моя мертвая, – пожал плечами. – Как и ее город.
Еще одна история готова. Хиллсиэ Ино прикрыла веки и удовлетворенно заурчала. Но правое веко не закрывалось до конца, и на Сармата стеклянно посмотрел второй, совершенно черный глаз. Полоснул из-под редких ресниц.
– Ну да что мы о ней, бабушка. – Сармат пристукнул об пол носком сапога. Он уже был полностью одет – золото, медь, киноварь. Зажимы на косах, дорогая рубаха и узорный кушак, обвивающий стан. – Эта ночь была длинной. Расскажи, что ты видела.
– О. – Дряблое лицо дрогнуло – одновременно сочувственно и насмешливо. Ведьма обнажила нехорошие зубы. – Что видела, то тебе не понравится, Хозяин горы.
В голосе – не ехидство и не грусть, нечто между. Пальцы Сармата пробежали по подпаленной рыжей брови – попытался отвлечься, пусто глядя вперед.
– Говори.
Вёльха по-хозяйски разложила руки на сундуке. Она сидела, будто княгиня на престоле, и смотрела на Сармата снизу вверх. В этот день Хиллсиэ Ино знала больше, чем кто-либо, больше, чем она сама в любой другой день в году. Хозяин горы казался ей неразумным, бедным дитем – скоро ты оставишь свои богатства. И забудешь про своих женщин – такое придет время.
Хиллсиэ Ино по-кошачьи склонила голову вбок.
– Твой брат жив, Хозяин горы.
– Еще бы, – фыркнул Сармат, не выдержав. Отпустил бровь и расправил плечи. – Мой брат – огромная глыба камня. Что ему сделается?
Вёльха мягко улыбнулась. Глупое, взбалмошное дитя. То жестокое, то ласковое – разве Ярхо-предателя можно считать живым?
– Я говорю о другом брате.
О том, кто хотел взять с Хозяина горы виру – не самоцветами, не женами, а его буйной головой.
Сармат понял. Все понял и оттого покачнулся, оттянув пальцами ворот рубахи. К лицу прилил жар.
– Врешь, ведьма, – процедил сквозь зубы. Его язык скользнул в ямку, оставшуюся на месте выбитого клыка. Недоверие в глазах Сармата сменилось злобой – а потом его зрачки затуманил ужас.
Хиллсиэ Ино рассмеялась. Конечно, она не лгала, и Хозяин горы это знал.
– Твой брат идет с севера, – продолжала невозмутимо. Ее пальцы заскользили по полотну на сундуке. – И он несет на своих плечах войну.
Сармат почувствовал, что ему не хватает воздуха. Зрение рассеялось. Свечи разгорелись, и их пламя взметнулось, образуя огненное кольцо; оно сжималось вокруг Сармата, будто удавка. Стало чудовищно душно – воздух загустел и больше не тек в горло. Наружу выплеснулся хрип.
Больше не хотелось ни шутить, ни лукавить. Сармат развернулся и, вне себя от злобы, вышиб дверь плечом – та, жалобно треснув, чудом не слетела с петель. Он вышел от вёльхи, не прощаясь, и Хиллсиэ Ино еще долго смотрела ему вслед. А потом протянула морщинистую руку и запустила прялку на новый круг.
…Сармат не шагал по коридорам Матерь-горы – летел, не чуя под собой ног. Малахитовые ходы сменялись сапфировыми, а турмалин вытеснял лиловые подтеки аметиста.
– Ярхо! – рявкнул Сармат, и его голос разнесся эхом. По углам заклокотало: Ярхо, Ярхо…
Обожженные пальцы вцепились в бугристые стены – рубин, алмаз, вкрапления орлеца… Лишь бы удержаться и не упасть. Голова пульсировала и шла кругом. Кожа наливалась лихорадочной краснотой.
– Ярхо! – Его била крупная дрожь. Зуб не попадал на зуб, а сердце сводило болью. Пестрели чертоги – кварцевые, нефритовые и агатовые, но Сармата впервые не трогала их чарующая красота. Было все равно, встретится ли ему кто-нибудь – сувар, марла или одна из жен. Дороже выйдет: попадут под горячую руку. – Ярхо!
Он нашел брата в топазовой палате. Ее пол усыпали богатства – барханы монет, выливающиеся из разинутых ларчиков. Холмы колец и кубков, грозди драгоценных камней, браслетов и брошей – не обращая внимания, Сармат шел, и сокровища хрустели под его сапогами. Словно песок на морском берегу.
Если бы Ярхо мог, то удивился бы, когда Сармат оказался рядом с ним, – гневный, до смерти напуганный, красный лицом. Он перемахнул через ряд сундуков и вцепился в его каменные плечи – с такой силой, что обломил несколько ногтей. Сармат смотрел снизу вверх, и в его глазах отражалось отчаяние.
– Ярхо, – сказал он хрипло, облизывая пересохшие губы. И напрягся, как если бы слова оцарапали ему гортань и вышли не звуком, а булатной сталью: – Хьялма жив.
Ж-жив, – прошуршало эхо.
На каменном лице не дернулся ни один мускул. Но Сармат почувствовал: что-то изменилось. Где-то глубоко, в сплетении затвердевших сосудов, за гранитными белками глаз. Что-то в Ярхо оборвалось, и это был не страх – Ярхо никогда, даже в теле смертного, не боялся Хьялмы. Он не боялся войны или мести, только… Сармат не мог разобрать, что это. Тоска? Усталость?
– Ведьма рассказала. – Слова хлынули изо рта Сармата. – Рассказала, что он идет. Он идет с севера. – Пальцы еще сильнее сжали плечи брата. – Ублюдок. Столько лет, а никак не сдохнет.
Если бы Ярхо мог, то вздохнул бы. А Сармат продолжал говорить – речь шла потоком:
– Наверное, айхи раздобыли ему драконью кожу, – и скривился. – Гнусная, гнусная тварь, где он прятался? Ярхо!
Он приблизился к лицу брата и горячо дыхнул в подбородок.
– Я вырежу его гнилые легкие и брошу наземь. Им там самое место. – Голос надломился. – Ярхо, Ярхо, мы же выстоим, верно? – Он оттолкнулся от тела брата, сплюнул и нетвердо покачнулся на узкой тропинке между сокровищ. – Пусть Хьялма приходит. Пусть приходит, пусть: мне тоже есть за что мстить.
Сармат медленно обернулся, указывая на топазовые стены чертога. Мать. Ярхо не ответил, только прикрыл глаза – медленно, с едва уловимым скрежетом. А Сармат закричал – громко, отчаянно, выпуская боль и ярость. Он поворачивался вокруг своей оси, сгибался напополам – звук летел, летел, раздавался по ходам и палатам. Дробился и множился, вырастая в страшный боевой клич. Ярхо слушал, не выдавая никаких чувств, а Сармат, оборвав голос, зло пнул одну из груд собственных богатств. Отшвырнул сапогом венец, напоминавший княжий; золотой, широкий, с крупным лалом – красный, красный, красный, цвет крови и закатов, поднимавшихся над полем битвы… Помнишь ли, Сармат, как сходились рати и как ломались копья, как умирали твои друзья и жены, как хоронили твоих братьев – одного за другим?
Что же – княжий венец мелко звенел, подпрыгивая на каменном полу. У Ярхо есть каменная орда, а у Сармата – самая таинственная из гор, и нет на свете оплота надежнее. История – колесо, ходящее по кругу: значит, их легенда еще не закончена.
Если Хьялма хочет войны, он ее получит.
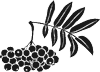
Марлы перенесли ее в холодный грот – он щерился зубцами наростов и, плавно изгибаясь, уходил глубоко в недра. Пол был залит водой, и на дне переливались минералы; на стенах бугрились солевые и кварцевые глыбы. Вокруг – морозно-дымчатое марево. Поволока ускользающей, мертвой красоты.
Малику Горбовну положили в хрустальную домовину. Обрядили в богатые одежды – мед и янтарь; длинное подпоясанное платье, расшитое золотом вдоль широкой полосы для пуговиц. Волосы княжны заплели в широкие косы и убрали назад, под тяжелый головной убор. Вплели в них драгоценные камни, украсили цепями-ряснами. Под обруч подоткнули длинную, до самых пят вуаль – Малика лежала на ней. Ее перерезанное горло закрыли кольцами ожерелий, а босые ступни обули в мягкие башмачки. Пальцы обвили нитями – бронзовые с алыми бусинами. Марлы любовно расправили узорные, разлетающиеся рукава княжны. И закрыли ей глаза – каменными ладонями, под звуки мурлычущей песни.
Лицо Малики будто сошло с фресок на гуратских соборах. Или с чеканных монет: гордое, точеное, застывшее. Лежать бы ей в усыпальнице рода, рядом с предками, а не здесь, среди змеиных жен. Но Малику похоронили тут. В хрустальной домовине, под бессловесные плачи марл. Над ней раскинулся потолок мерцающего грота, и вокруг нее дрожала прозрачно-голубая хмарь. Под конец марлы оставили ее, и в пещере воцарилась тишина – только капли срывались с выступающих наростов. Вода точила камни, и в ее колдовском шепоте слышался шорох, с каким нос корабля разрезал волны: зачем, зачем сюда едет твой брат и князь, Малика Горбовна? Поздно тебя спасать.
Отныне сердце Малики Горбовны не тронут ни любовь, ни ненависть. Ее не убаюкают дожди, проливающиеся над лесами, не восхитят бег колесниц и богатства ханских шатров. Ее не потревожат ни война, ни смута.
И ее не разбудит драконий рев, раскатившийся над Матерь-горой.
КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Назад: Песня перевала XII
Дальше: Благодарности

