Двадцатая глава
Лето прошло, увяли и осыпались маки и васильки, полевые гвоздики и астры, затихли лягушки в пруду, и аисты летали высоко, готовясь к прощанию.
И тут вернулся Златоуст!
Он вернулся после полудня, моросил дождик, и он, пройдя сквозь монастырские ворота, сразу направился в мастерскую. Он пришел пешком, лошади не было.
Увидев его, Эрих испугался. Он, правда, узнал его с первого взгляда, и сердце его рванулось навстречу мастеру, однако ему показалось, что вернувшийся стал совсем другим человеком; это был не прежний Златоуст, а на много лет постаревший, с посеревшим, как от пыли, полуугасшим лицом, с впалыми щеками и нездоровым, мученическим выражением лица, на котором, однако, застыла не боль, а улыбка, добродушная стариковская терпеливая улыбка. Он шел, с трудом передвигая ноги, и казался больным и очень усталым.
Как-то странно посмотрел этот изменившийся, чужой Златоуст в глаза своему юному помощнику. Он вернулся незаметно, словно только что вышел из соседней комнаты и был здесь совсем недавно. Он молча протянул руку, не поздоровался, ни о чем не спросил, ничего не рассказал. Он только вымолвил: «Мне надо поспать». Действительно, вид у него был ужасно усталый. Отослав Эриха, он прошел в свою комнату рядом с мастерской. Он стянул с головы и уронил шапку, снял башмаки и подошел к постели. В заднем помещении он увидел под покрывалом свою Мадонну; он кивнул ей, но не подошел снять покрывало и поздороваться. Вместо этого он подошел к окну, увидел во дворе смущенного Эриха и крикнул ему:
— Эрих, не говори никому, что я вернулся. Я очень устал. Подождем до завтра.
Потом он лег, не раздеваясь, на кровать. Но сон не шел, и через некоторое время он встал, тяжело подошел к стене, где висело небольшое зеркало, и посмотрел в него. Он внимательно разглядывал Златоуста, взиравшего на него из зеркала. Это был усталый, старый и увядший человек с сильно поседевшей бородой. В тусклом зеркале отражался немного опустившийся старик с хорошо знакомым лицом, которое стало чужим, как бы ненастоящим и, казалось, не имело к нему касательства. Оно напоминало ему знакомые лица, чем-то мастера Никлауса, чем-то старого рыцаря, который велел сшить ему пажеское платье, а чем-то даже святого Иакова в церкви, старого бородатого святого Иакова, который в своей шляпе пилигрима выглядел древним и седым, но тем не менее веселым и добрым.
Озабоченно изучал он отражение в зеркале, будто хотел как можно больше узнать об этом чужом человеке. Он кивнул ему и снова узнал его; да, это был он сам, точно такие же ощущения были и у него самого. Из странствия возвратился очень уставший, немного отупевший старик, невзрачный мужчина, такой уже не пустит пыль в глаза, и все же он не имел ничего против него, все-таки он ему нравился: в лице его было нечто такое, чего не было у былого красавчика Златоуста, в нем была, при всей усталости и разбитости, какая-то удовлетворенность или даже равнодушие. Он тихо улыбнулся про себя и увидел, как отражение сделало то же самое; ну и славного же парня приволок он с собой из путешествия! Изрядно потрепанным вернулся он из своего маленького странствия, лишившись не только коня, походной сумки и талеров, но и многого другого: молодости, здоровья, веры в себя, румянца на щеках и силы во взгляде. И все же отражение ему понравилось: этот старый слабый человек в зеркале был ему дороже того Златоуста, каким он был так долго. Он стал старше, слабее, невзрачнее, но и бесхитростнее, непритязательнее, с таким легче поладить. Он засмеялся и пальцем разгладил морщинки под глазом. Затем опять лег на постель и на сей раз заснул.
На другой день он сидел в своей комнате, склонившись над столом, и пытался рисовать, когда пришел Нарцисс. Он остановился в дверях и сказал:
— Мне доложили, что ты вернулся. Слава Богу, радость моя велика. Поскольку ты не заглянул ко мне, я пришел к тебе сам. Не помешал?
Он подошел ближе; Златоуст оторвался от своих бумаг и протянул ему руку. Хотя Эрих подготовил настоятеля, при виде друга он сильно испугался. Тот приветливо улыбнулся ему.
— Да, я опять здесь. Приветствую тебя, Нарцисс, мы давно не виделись. Извини, что еще не зашел к тебе.
Нарцисс посмотрел ему в глаза. Он тоже увидел не только угасшее, печально увядшее лицо, но и нечто другое — эту удивительно приятную печать уравновешенности, даже равнодушия, смирения и благодушного стариковского настроения. Мастер по части чтения в людских лицах, он видел также, что этот ставший чужим, изменившийся Златоуст уже не совсем от мира сего, что душа его далеко улетела от действительности и бродит по дорогам мечты или же стоит уже у врат, ведущих в мир иной.
— Ты болен? — озабоченно спросил он.
— Да, и болен тоже. Я заболел уже в самом начале своего странствия, уже в первые дни. Но ты же понимаешь, мне не хотелось сразу возвращаться. Если бы я так быстро вернулся и стянул свои походные сапоги, вы бы посмеялись надо мной. Нет, этого я не хотел. Я отправился дальше и еще немного поскитался по миру, мне было стыдно, что странствие мое не удалось. Я слишком многого ждал от него. И я, стало быть, устыдился. Ну да ты меня поймешь, ты же умный человек. Прости, ты что-то спросил? Прямо наваждение какое-то, я все время забываю, о чем, собственно, речь. Но что до моей матери, ты поступил правильно. Было очень больно, однако…
Его бормотание растворилось в улыбке.
— Мы снова поставим тебя на ноги, Златоуст, у тебя ни в чем не будет недостатка. Напрасно ты сразу не повернул назад, когда почувствовал себя плохо! Нас тебе нечего стыдиться. Надо было сразу вернуться.
Златоуст засмеялся.
— Да, теперь я это знаю. Я не решался просто взять и вернуться. Это было бы позором. Но теперь я вернулся. И мне снова хорошо.
— Ты много страдал?
— Страдал? Да, страдал я достаточно. Но, видишь ли, страдания пошли мне на пользу, они меня образумили. Теперь я уже не стыжусь, и перед тобой тоже. Когда ты пришел в тюрьму, чтобы спасти мне жизнь, я изо всех сил стиснул зубы, так мне было стыдно перед тобой. Теперь это прошло.
Нарцисс положил ему руку на плечо, Златоуст сразу умолк и с улыбкой закрыл глаза. Он тихо заснул. Растерянный настоятель вышел и позвал монастырского врача, отца Антона, присмотреть за больным. Когда они вернулись, Златоуст сидел за чертежным столом и спал. Они перенесли его в постель, врач остался с ним.
Златоуст был безнадежно болен. Его перенесли в одну из больничных палат, при нем постоянно дежурил Эрих.
Всю историю его последнего странствия так никто и не узнал. Он рассказал только отдельные эпизоды, кое о чем можно было догадаться. Часто лежал он безучастный, иногда его лихорадило, и он бредил, иногда сознание возвращалось к нему, тогда посылали за Нарциссом, для которого эти последние беседы со Златоустом были очень важны.
Некоторые отрывки из рассказов и признаний Златоуста передал Нарцисс, другие — помощник.
— Когда начались боли? Еще в самом начале путешествия. Я ехал по лесу, свалился вместе с лошадью в ручей и всю ночь пролежал в холодной воде. Там внутри, где сломаны ребра, с тех пор и появились боли. Тогда я был еще недалеко отсюда и мог вернуться, но не сделал этого, это было ребячество, я думал, что покажусь смешным. Я поехал дальше, а когда уже не мог ехать из-за боли, я продал лошадку и долго лежал в одном лазарете.
Теперь я останусь здесь, Нарцисс, с верховой ездой покончено. Как и со странствиями, и с танцами, и с женщинами. Ах, иначе я бы еще долго не возвращался, целые годы. Но когда я увидел, что там меня уже не ждут никакие радости, то подумал: прежде чем отправиться на тот свет, надо бы еще немного порисовать и сделать несколько скульптур, должна же быть в жизни хоть какая-то радость.
— Я очень рад, что ты вернулся, — сказал Нарцисс. — Мне так тебя недоставало, я каждый день думал о тебе и часто боялся, что ты не захочешь больше вернуться.
— Ну, потеря была бы невелика, — покачал головой Златоуст.
Нарцисс, сердце которого горело от любви и боли, медленно склонился над ним и сделал то, чего не делал ни разу за многие годы их дружбы, — коснулся губами волос и лба Златоуста. Заметив это, Златоуст сперва удивился, затем растрогался.
— Златоуст, — прошептал Нарцисс на ухо другу, — прости, что я не мог сказать тебе этого раньше. Я должен был сказать тебе об этом, когда посетил тебя в твоей темнице, в резиденции епископа, или когда я увидел твои первые скульптуры, или когда-нибудь еще. Позволь сказать мне теперь, как сильно я тебя люблю, как много ты для меня значил, насколько богаче сделал мою жизнь. Тебе это мало о чем говорит. Ты привык к любви, она для тебя не редкость, тебя любили и баловали многие женщины. Со мной все обстоит иначе. Моя жизнь бедна любовью, я был обделен самым лучшим. Наш настоятель Даниил сказал мне как-то, что считает меня высокомерным, быть может, он был прав. Не скажу, что я несправедлив к людям, я стараюсь быть с ними справедливым и терпеливым, но я никогда их не любил. Из двух ученых в монастыре мне милее тот, кто более учен; никогда не любил я слабого ученого вопреки его слабости. И если я все же знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе. Только тебя я мог любить, тебя одного из всех людей. Ты не поймешь, что это значит. Это источник в пустыне, цветущее дерево среди диких зарослей. Тебя одного должен я благодарить, что сердце мое не иссохло, что во мне осталось место, открытое для благодати.
Златоуст улыбнулся радостно и немного смущенно. Тихим и спокойным голосом, какой бывал у него в часы просветления, он сказал:
— Когда ты избавил меня от виселицы и мы ехали домой, я спросил тебя о своей лошади, о Звездочке, и ты ответил на мой вопрос. Тогда я понял, что ты, едва способный отличить одну лошадь от другой, заботился о Звездочке. Я понял, что ты делал это ради меня, и был очень рад этому. Теперь я вижу, что так оно и было и что ты действительно любишь меня. Я тоже всегда любил тебя, Нарцисс, половину своей жизни я добивался твоего расположения. Я знал, что и ты меня любишь, но никогда не надеялся, что ты, гордый человек, когда-нибудь скажешь мне об этом. Теперь ты это сказал, в тот самый момент, когда у меня уже не осталось ничего другого, кроме странствий и свободы, бескрайний мир и женщины бросили меня на произвол судьбы. Я принимаю твои слова, спасибо тебе за них.
Лидия-Мадонна стояла тут же и смотрела на них.
— Ты все время думаешь о смерти? — спросил Нарцисс.
— Да, я думаю о ней и о том, что стало с моей жизнью. Отроком, когда ты был моим учителем, я мечтал стать таким же человеком духа, как ты. Ты показал мне, что это не мое призвание. Тогда я кинулся в другую сторону жизни, в чувственность, и женщины помогали мне находить в ней наслаждение, они так покорны и падки на ласку. Однако я вовсе не хочу отзываться о них презрительно, как и о чувственных наслаждениях, они часто доставляли мне счастье. Но мне выпало и другое счастье — узнать, что чувственное поддается одухотворению. Из этого возникает искусство. Но сейчас угасли оба огня. Во мне нет больше звериной тяги к наслаждению — ее не было бы и в том случае, если бы женщины все еще бегали за мной. Создавать произведения искусства у меня больше нет желания, я сделал достаточно скульптур, количество тут не имеет значения. А посему мне пришла пора умирать. Я не противлюсь смерти и жду ее с любопытством.
— Почему с любопытством?
— Ну, это, пожалуй, глупость с моей стороны. Но я действительно жду ее с любопытством. Мне любопытна не загробная жизнь, Нарцисс, о ней я почти не думаю и, честно говоря, больше в нее не верю. Загробной жизни нет. Высохшее дерево умирает навсегда, замерзшая птица больше не оживает, как не оживает умерший человек. Какое-то время о нем будут помнить, когда его не станет, но это длится недолго. Нет, смерть любопытна мне только потому, что во мне до сих пор сохранилась вера или мечта, будто я нахожусь на пути к матери. Я надеюсь, что смерть станет таким же огромным счастьем, как счастье первой взаимной любви. Я не могу избавиться от мысли, что вместо смерти с косой явится моя мать и возьмет меня с собой в небытие и безгреховность.
В одно из своих последних посещений — Златоуст до этого несколько дней не говорил ни слова — Нарцисс снова нашел его бодрым и разговорчивым.
— Отец Антон полагает, что ты часто терпишь сильные боли. Как тебе удается с таким спокойствием выносить их? Мне кажется, ты сейчас обрел мир.
— Ты имеешь в виду мир с Богом? Нет, этого мира я не обрел. Я не хочу мира с ним. Он плохо устроил земную жизнь, хвалить ее не за что, да и Бог равнодушен к тому, восхваляю я его или нет. Плохо устроил он земную жизнь. Но с болью в своей груди я заключил мир, это верно. Раньше я плохо переносил боль, и, хотя иногда думал, что смерть дастся мне легко, это была ошибка. Когда дело приняло серьезный оборот, той ночью в тюрьме графа Генриха, тогда-то все и выяснилось: я просто не мог умереть, я был еще полон необузданной силы, им пришлось бы убивать каждую частицу моего тела дважды. Теперь же иное дело.
Беседа утомила его, голос стал слабее. Нарцисс попросил его поберечь себя.
— Нет, — сказал он, — я должен тебе рассказать. Раньше я стеснялся говорить. Ты посмеешься над этим. Когда я сел на своего коня и уехал отсюда, у меня была определенная цель. До меня дошел слух, что граф Генрих снова объявился в этих краях, а с ним и его возлюбленная, Агнес. Тебе, я думаю, это покажется пустяком, да и мне сейчас так кажется. Но тогда весть обожгла меня, и я думал об одной только Агнес; она была самой красивой женщиной, которую я знал и любил, я хотел снова увидеть ее, я хотел еще раз быть с ней счастливым. Я поехал и через неделю нашел ее. Тогда-то, в тот час, и произошла во мне перемена. Я, значит, разыскал ее, она была все так же красива, я нашел не только ее, но и возможность показаться ей на глаза и поговорить с ней. И представь себе, Нарцисс: она и знать обо мне больше не хотела! Я был слишком стар для нее, недостаточно красив и весел, она ничего больше не ждала от меня. На этом, собственно, мое путешествие закончилось. Но я поехал дальше, мне не хотелось возвращаться к вам разочарованным и смешным, и, пока я так ехал, силы, молодость и благоразумие совсем оставили меня, потому-то я и свалился вместе с конем в овраг и в ручей, поломал ребра и долго лежал в воде. Тогда я впервые испытал настоящую боль. Еще во время падения я почувствовал, как что-то сломалось в моей груди, и это меня обрадовало, я с удовольствием услышал хруст и был этим доволен. Я лежал в ручье и видел, что должен умереть, но все было совсем не так, как тогда в тюрьме. Я не имел ничего против, смерть больше не пугала меня. Я чувствовал эту ужасную боль, которая с тех пор часто возвращалась, и при этом видел сон или видение, называй как хочешь. Я лежал с жгучей болью в груди, я сопротивлялся и кричал, но вдруг услышал смех — смех, который я слышал только в детстве. Это был голос моей матери, низкий женский голос, полный страсти и любви. Тогда я понял, что это она, что со мной была моя мать, она положила мою голову к себе на колени, разверзла мою грудь и глубоко погрузила пальцы между ребер, чтобы вынуть мое сердце. Когда я увидел и понял это, боль исчезла. И теперь, когда боль возвращается, это уже не боль, не враг; это пальцы матери, вынимающие мое сердце. Она старается изо всех сил. Порой она сжимает пальцы и стонет, как от сладострастия. Иногда смеется и шепчет нежные слова. Иногда она не со мной, а на небесах, и я вижу между облаков ее лицо, такое же большое, как облако, оно плывет и печально улыбается, и ее печальная улыбка высасывает из меня силы и вынимает из груди сердце.
Он снова и снова говорил о ней, о матери.
— И вот еще что, — сказал он в один из последних дней. — Однажды я забыл свою мать, но ты снова вызвал во мне ее образ. Тогда тоже было очень больно, будто звериные пасти вгрызались в мои внутренности. Тогда мы были отроками, славными мальчишками. Но уже тогда мать позвала меня, и я последовал за ней. Она повсюду. Она была цыганкой Лизой, прекрасной Мадонной мастера Никлауса, она была жизнью, любовью, сладострастием, но она же была страхом, голодом, инстинктом. Теперь она стала смертью и запустила пальцы мне в грудь.
— Не говори так много, милый, — попросил Нарцисс, — подожди до завтра.
Златоуст с улыбкой посмотрел ему в глаза, с этой новой улыбкой, которую он принес из своего странствия, которая была такой старческой и слабой и которая порой казалась немного слабоумной, а порой излучала доброту и мудрость.
— Милый, — прошептал он, — я не могу ждать до завтра. Мне надо проститься с тобой и на прощанье сказать все. Выслушай меня еще минуту. Я хотел рассказать тебе о своей матери и о том, что она держит мое сердце в своей руке. Много лет я втайне мечтал сделать скульптуру матери, это был самый святой из всех моих образов, я всегда носил в себе этот образ, полный любви и тайны. Еще недавно для меня была бы совершенно невыносима мысль о том, что я могу умереть, не сделав этой скульптуры; моя жизнь показалась бы мне бесполезной. А теперь видишь, как все удивительно с ней обернулось: не мои руки придают ей форму и вид, а она сама делает это со мной. Она берет мое сердце в свои руки, вынимает его из груди и опустошает меня, она соблазнила меня на смерть, и вот вместе со мной умирает и моя мечта, прекрасная скульптура, образ великой праматери Евы. Я еще вижу его, и, будь в моих руках сила, я бы воплотил его в материале. Но она не хочет этого, не хочет, чтобы я обнажил ее тайну. Она предпочитает мою смерть. Я умру с радостью, она сделает мою смерть легкой.
Слова эти ошеломили Нарцисса, чтобы расслышать их, ему пришлось наклониться к лицу друга. Некоторые он не совсем расслышал, некоторые расслышал, но смысл их остался ему непонятен.
Больной еще раз открыл глаза и долго всматривался в лицо друга. Глазами он попрощался с ним. Словно пытаясь горестно покачать головой, он прошептал:
— Но как же ты будешь умирать, Нарцисс, не имея матери? Без матери нельзя жить. Без матери нельзя умереть.
Что он потом бормотал, разобрать было невозможно. Два последних дня Нарцисс сидел у его постели, днем и ночью, и наблюдал за его угасанием. Последние слова Златоуста горели в его груди.
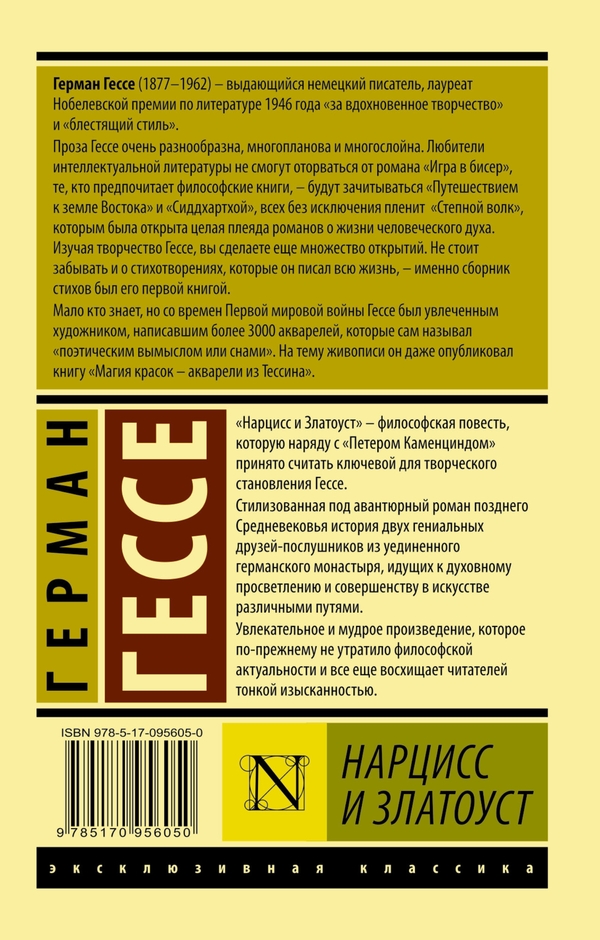
notes
Назад: Девятнадцатая глава
Дальше: Сноски

