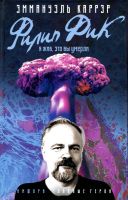Заземление. Савл
Когда ему зашивали рану в бедре, он просил Симу выйти или хотя бы отвернуться вовсе не из опасения за ее психику — ему было просто стыдно. Ляжки жирные, как у бабы…
Прежде он был уверен, что нравится Симе таким, каков он есть, а теперь начал опасаться, что не только он сам, но и его прикосновения, может быть, ей неприятны.
Он заземлялся как мог: он должен был осуществить то, что столько лет проповедовал, иначе какая же его проповедям цена. Он говорил себе: ну и что, что она раздевалась, ложилась с другим, раздвигала ноги — что такого? Но, сколько бы он ни пытался думать об этом как о пустяковом, ничего не сто́ящем деле, его каждый раз охватывала тоска: он был единственным, а сделался заменимым. Зато его богатырь, когда он представлял эту картину, вздувался так, как не восставал и в лучшие времена: оказывается, его телу и тогда мешало присутствие духа. А когда оно видело в Симе просто голую бабу, которую дерет просто голый мужик, оно прямо-таки рвалось из штанов тоже в этом поучаствовать: телу было все равно, кого драть, а подпорченную бабу даже еще слаще. А он, премудрый Савл, с горечью убеждался, что он и его тело и вправду не одно и то же: внутри себя он был никакой не Савл и не Савелий Савельевич, а вечный не стареющий и не взрослеющий Савик.
И тело бы с большим удовольствием засадило ей куда следует, и Савл прекрасно знал, что Сима была бы только счастлива обрести наконец этот знак прощения и примирения, но Савику было невыносимо ее жалко — употребить ее так, как будто она неодушевленный предмет. У него душа разрывалась, когда он вспоминал, как тоненько и жалобно она скулила в их первую внебрачную ночь. Фрау Меркель он бы засадил не колеблясь, но с поросеночком он так поступить не мог, скорее еще раз засадил бы крис себе в ляжку. И ему невыносимо хотелось прижать бедняжку к себе и наговорить целую кучу каких-то смешных нежностей в том духе, что она ему дороже всего, несмотря ни на что, да и смотреть там не на что, он знает, что без самых серьезных, уважительных причин она бы никогда не легла с другим, а значит, и его дело уважать эти причины, в чем бы они ни заключались, а не изводить того прелестного поросеночка, при одной мысли о котором у него наворачивались на глаза слезы нежности и умиления.
Когда всерьез заглянешь в смерть, из этой глубины все человеческие, слишком человеческие понты кажутся таким мусором… Секс уж во всяком случае. А нежность почему-то нет.
Но вдруг ей и его нежность совсем не нужна?.. Вдруг она и спала-то с ним только по обязанности, недаром же ее приходилось гипнотизировать…
И уж таким жалким и потешным он тогда себя чувствовал, хоть убиться ап стену, как пишут в интернете.
Хотя бы бороду нужно было срочно сбрить и от пуза поскорее избавиться, уж очень они ему теперь были не по чину.
Лишь одно событие внезапно его взбодрило, — на двери его школы психосинтеза перед лекцией он обнаружил наклеенную компьютерную распечатку:
АНТИХРИСТОВЫ СЛУГИ!!!
ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ РАЗ ЗДЕСЬ СОБЕРЕТЕСЬ,
МЫ ВЗОРВЕМ ВАШУ САТАНИНСКУЮ
ЛАВОЧКУ!!!
Он был так счастлив, что перечитал угрозу несколько раз: если его ненавидят религиозные фанатики, значит, он не такое уж и чмо, значит его дело заземления действительно чего-то стоит!
Он сфотографировал листовку на телефон, чтобы иметь вещественное доказательство, а потом содрал и следы отскоблил ключом, чтобы не нажить неприятностей с хозяевами протезной конторы.
И вдохновенно обратился к своим апостолам и апостолицам, еще более унылым, чем всегда:
— Друзья, темные силы, — он слегка снизил пафос насмешливой улыбкой, — нас наконец оценили. Теперь и мы должны показать, что мы чего-то стоим.
«Да только стоим ли? — скептическим эхом отозвалось в голове. — Все мое заземление — тысяча первая версия редукционизма. Не лучше всех прочих фрейдизмов-марксизмов».
Однако его тело продолжало вещать нечто бодрое о необходимости противостоять клерикализму, и чем яснее он понимал, что говорит жуткие пошлости, тем ниже его школьники и школьницы опускали глаза и тем более бледный вид у них становился. Одна лишь бледная Лика, наоборот, розовела, но, как ему все упорнее казалось, от неловкости за него.
И вдруг он с облегчением осознал, что вовсе не обязан читать уже законспектированную лекцию, в который раз растолковывать, что ревность есть не что иное, как инстинкт собственности, тысячекратно усиленный изуверским идеалом сексуальной чистоты…
— Знаете что? Давайте встретимся в следующий раз. Проверим, готовы ли мы на какой-то риск ради нашего общего дела. А я пока позвоню знакомой оперативнице, пусть она эту листовку расследует.
И поклонился чуть ли не в пояс и людям, и протезам, не испытывая ни малейшего желания подзадержаться с порозовевшей Ликой. Романтические отношения теперь ему тоже были не по чину.
Чувствуя себя в полном праве, он позвонил Калерии на мобильный, хотя рабочий день был уже закончен. Калерия восторга не выразила, а когда он ей указал, что, возможно, эти же силы причастны к исчезновению Вишневецкого, еще и съязвила:
— Спихотехникой занимаетесь?
Тем не менее записала адрес и название протезной фирмы.
Так что в течение целой недели ему удавалось бороться с тоской, вспоминая эти волшебные слова: антихристовы слуги, сатанинскую лавочку, антихристовы слуги, сатанинскую лавочку…
Приятно быть объектом ненависти клерикалов. Проверим, многие ли его ученики согласятся пойти на риск ради великого дела заземления. Он оценивал число смельчаков в семь-восемь голов. Однако на следующую лекцию не пришел никто, хотя он как раз собирался заземлить идею самопожертвования: его ученики сумели вполне самостоятельно сбросить самоотверженность с парохода современности. Апостолы разбежались при первом же дуновении опасности, прав был Брюс Виллис: людей может удержать одна лишь лесть. Среди протезов сидели только бледная Лика и — Калерия.
По обыкновению не поздоровавшись, она разложила перед ними несколько смазанных цветных фотографий какого-то встрепанного, но довольно миловидного молодого человека и напористо спросила:
— Вы его знаете?
И Лика зарделась как маков цвет:
— Нет, не знаю.
— А почему вы так покраснели? Имейте в виду, покрывая его, вы тоже становитесь пособницей террориста.
Бледная Лика побледнела еще бледней обычного, но ответила очень спокойно:
— Просто очень уж неожиданно.
— Хорошо, пока сделаю вид, что верю. А вы, Савелий Савельевич? Вы его знаете?
— Нет. А откуда у вас эти фото?
— Тайны следствия. Шучу. Просто просмотрела запись видеонаблюдения, на ней прямо видно, как он наклеивает свою листовку. Правда, спиной заслоняет, но видно, что, когда подходит к двери, ее нет, а когда отходит, уже есть. Точно, не знаете? Фотографии я вам оставляю, если вспомните, дайте знать.
И, без здрасте и до свидания, покинула место встречи, ужасно деловая, в том самом немарком костюмчике, в котором явилась ему впервые. Она его уже начала почти восхищать столь неукоснительной стервозностью.
— Лика, — он постарался придать голосу предельную искренность и мягкость, — со мной вы можете быть откровенны, все, что вы скажете, останется между нами. Вы его знаете? Я спрашиваю только для того, чтобы понять: он реально опасен? Если нет, то и бог с ним.
Теперь он уже не боролся со своей глупой привычкой поминать бога.
Лика снова сделалась пунцовой и призналась, что это ее жених.
— Извините, пожалуйста, он просто сумасшедший, — в ее голосе зазвучала нежность. — Он меня к вам ревнует.
Эти слова, опустив свои темно-янтарные глаза, она произнесла так, будто речь идет об очевидной для них обоих нелепости. Ну да, разумеется, не может же средних лет толстяк быть соперником смазливому юнцу.
А ведь он его где-то, кажется, видел…
— Скажите, Лика, он не мог за мной следить в метро?
— Честное слово, — зардевшись уже и под своими каштановыми волосами, она обратила на него умоляющий взор раненой лани, — он только хотел прекратить ваши лекции, он считает — только, пожалуйста, не относитесь к этому всерьез, — что вы здесь занимаетесь бесконтактным сексом.
— Что ж, с точки зрения теории заземления он прав, мы и должны всему давать самое низкое объяснение. Так успокойте его, скажите, что я свои лекции прекращаю. Что я даже и себя не сумел как следует заземлить, куда уж мне заземлять прочих. Так что прощайте, приятно было…
Он хотел завершить: «заниматься бесконтактным сексом», — но счел это слишком откровенным выражением своей обиды. И закончил светским «познакомиться».
А потом поклонился протезам: прощайте, друзья!
Хотя, если смотреть из глубины, все это такие мелкие понты…
И на улице глубина его настигла…
Здесь никому до него не было дела, и он позволял себе хромать и даже морщиться, когда боль в бедре стреляла лишком сильно. Белые ночи подходили к концу, и на каменные ущелья спускался сумрак. Однако асфальт по-прежнему дышал нездоровым жаром.
Но все это касалось только тела, на душе недвижно лежала холодная тоска. Он уже не одергивал себя, когда на ум вскакивала эта самая «душа» — что-то же казалось людям, когда они на всех языках придумывали это слово. А что кажется, и есть самое главное. Этим мы и живем, умом пользуемся только для внешних связей.
Вот ему казалось, что для Симы он единственный, из-за этого-то пустячка он, оказывается, и ощущал себя значительной персоной, хотя для остальных семи миллиардов двуногих был пустым местом. А теперь она его «променяла», хотя ни на кого она его не меняла, а просто поделилась собою с кем-то еще… А он хочет быть хоть для кого-то единственным.
Но единственным он был только для матери. И не смог ей простить того, что она хотела еще какого-то утешения…
Свинья он, свинья, безжалостная свинья. И на духовность не свалить в отличие от Гришки Бердичевского. Или такая осатанелая антидуховность тоже форма духовности? Сатанинской, сказала бы мать.
Он снова ощутил легкое жжение в глазах — опять слезы, нервы развинтились вот уж действительно как у бабы…
Вдруг он остановился так резко, что едва не застонал от боли в бедре: здание, мимо которого он проходил десятки раз, оказалось церковью. Он почему-то считал, что церковь должна быть отдельно стоящим зданием, а если это просто фасад заподлицо с прочими, то это просто русский модерн.
А тут вдруг увидел и расписание служб, и крест над входом, и людей, которые на полном серьезе прямо на тротуаре крестятся на него, а кое-кто даже и кланяется. Притом не сельские бабуси, а нормальная городская публика, в том числе и мужчины с виду такие же, как он.
Он решил заглянуть внутрь, отчасти из любопытства, а отчасти просто оттого, что ему больше некуда было пойти. Дома было уж совсем тягостно, а тут, по крайней мере, ничего не нужно изображать.
Лики на иконах и здесь глядели холодно, отстраняюще, но дома было еще холоднее. И он с некоторой завистью покосился на счастливчиков, которые крестятся и кланяются надменным ликам с просветленным видом. А к небольшой иконе на маленькой трибунке выстроилась даже небольшая очередь. Совершенно обычные горожане (больше горожанки, но не только) кланялись в пояс и надолго припадали к ней губами. Другие с серьезнейшим видом зажигали тоненькие свечи от уже горящего кружка и по-детски старательно вставляли их в металлические гнездышки.
Дети, дети, чего от них можно требовать…
И вдруг ему тоже захотелось поставить свечку — кажется, это называется «за упокой»? Мать была бы довольна. Глупость, конечно, матери все давным-давно без разницы, но он уже понял: действуя умно, мы угождаем миру, а действуя глупо — себе.
Он вышел в прихожую и, чтобы не встречаться взглядом с бабусей за прилавком, сделал вид, что увлекся чтением.
Требы только для крещеных… Об упокоении… Обеденные (не более 10 имен) — 30 руб… Панихида (не более 10 имен) — 100 руб… Мл. — младенца до 7 лет… Отр. — отрока — от 7 лет до 14… Бол. — болящего… Заключ. — заключенного… Убиен. — убиенного… Новопрест. — новопреставленного…
Он покосился на желтые свечки, разложенные пачками по ценам и толщине, и решил выбрать среднюю, чтобы не выделяться ни в ту, ни в другую сторону.
— Будьте добры, одну за семьдесят, — с усилием выговорил он, не поднимая глаз, но оказалось, что у него только пятисотка, а у бабуси нет сдачи.
Он хотел уже сказать, что сдачи ему не нужно, пусть будет типа пожертвование, но бабуся вгляделась в него и ласково сказала:
— Да возьмите так.
И давно подступавшие слезы внезапно хлынули через край.
Но не бежать же было наружу!..
Опустив голову, он быстро, насколько дозволяла торжественность места, прошел к огненным кольцам и приложил фитиль к одной из горящих свечей. Фитиль зажигаться не спешил, а у него между тем вот-вот было готово потечь из носа, — проклятье, как назло забыл платок…
Свеча наконец загорелась, но, пока он прилаживал ее в латунное гнездышко, все-таки пришлось раза два сдержанно шмыгнуть носом. И тут его кто-то настойчиво потеребил за локоть. В другом месте он, пожалуй, даже и отругнулся бы, но здесь пришлось, не поднимая глаз, покоситься, — та же бабуся протягивала ему сложенную вчетверо салфетку.
Не оборачиваясь, он отжал нос, а потом промокнул глаза и, пробормотав растроганное «спасибо», уже хотел улизнуть, но бабуся с самым жалостным видом стала у него на дороге:
— Вам нужно с нашим батюшкой поговорить. Пойдем, пойдем, не гордись.
И он понял, что перед нею можно действительно не гордиться и не стыдиться, если только это не одно и то же.
Бабуся привела его на чистенькую кухню и налила ему крепкого сладкого чая из старого китайского термоса, какие он видел только в Халды-Балдах, и исчезла, а он, чувствуя себя дураком, все-таки испытывал и облегчение оттого, что может еще немножко побыть там, где чисто и светло. И где к нему, кажется, действительно хорошо относятся.
Потихоньку глотая чай, чтобы не выказать жадности и чтобы надольше хватило, он, оглянувшись, от души высморкался в новую салфетку, которых в достатке было ввинчено в граненый стакан, и воровато бросил ее в урну под раковиной (серый пластик, имитирующий плетеную корзину), напоследок еще раз осторожно промокнув глаза, которые наверняка и без того были неприлично красные.
Однако молодой батюшка в черной стройной рясе пожимал ему руку так, будто ни в его появлении здесь, ни в его заплаканных глазах нет ничего необычного.
— Извините, я сюда случайно зашел, — с усилием объяснился Савл, чтобы не сделаться невольным обманщиком перед людьми, которые так по-доброму к нему отнеслись.
— Это как кому нравится. Все можно назвать случайным, а можно промыслительным, — батюшка улыбнулся ему, как старший младшему, хотя по возрасту был немногим старше Димки, и, дружелюбно кивнув ему на стул, сел напротив, по-домашнему положив черные локти на новую клеенку в сарафанных цветочках.
В глазах его вдохновенности было чуть больше, чем требовала ситуация, однако фанатизмом, маниакальностью и не пахло. Тоже типичный народоволец, он на их фотографии насмотрелся, когда собирался писать дипломную работу.
— Извините, но я в промысел не верю, — с усилием признался он, ужасно не желая огорчать столь симпатичного хозяина, но еще больше не желая его обманывать.
— Конечно, можно и не верить, — поспешил его успокоить народоволец. — Это зависит от выбора парадигмы. Вы читали Куна, «Структуру научных революций»? Значит, помните: всякая парадигма одни явления считает центральными, а другие периферийными, на них можно не обращать внимания. А изменится парадигма, и то, чем, казалось, можно пренебречь, именно это и становится центральным.
Батюшка оказался совсем не прост…
Видимо, поймав его удивленный взгляд, он пояснил:
— Я закончил электротехнический институт и аспирантуру, но защищаться не стал, понял, что мне этого мало.
— В каком смысле мало?
— В обычном. У всех же есть какая-то часть личности, которая требует чего-то более высокого, чем обычная жизнь. Но люди в основном стараются ее не слушать, считают какой-то глупостью, детской фантазией. Но некоторые не выдерживают и идут на ее зов. Я и пошел.
— А что, для этого обязательно идти именно в церковь? — Савл не хотел нарываться, но, скрывая свои мысли, ему казалось, он бы еще больше оскорбил на удивление симпатичного батюшку.
— Не обязательно. Но я не знаю, где еще ищут более высокого смысла жизни. Где говорят о бессмертии, о предназначении… А мне хотелось быть среди единомышленников.
— И вы их нашли?
— Конечно. Я не настолько оригинален, чтобы быть созданным в единственном экземпляре.
— И что, все православные оказались вашими единомышленниками?
— Конечно, нет. Люди не настолько примитивны, чтобы удовлетвориться одной истиной на всех. Даже священника каждый должен найти по душе. Это как врача. Вы, если не секрет, кто по профессии?
— Психотерапевт. Если это профессия. Разным людям и у нас нужны разные методики, разные личности… Кому-то нужен логик, а кому-то диктатор. Но все-таки никто из нас не требует, чтобы нам отбивали поклоны.
— Так и мы не требуем. И Богу они не нужны. Они нужны молящимся. Чтобы они чувствовали свое единение с единоверцами. И с прошлыми, и с будущими. А если кто-то без этого может обойтись, так и Бог ему в помощь.
— И у вас все так думают?
— Нет, конечно. И хорошо, что не все. Разным людям и требуется разное. Кому-то нужен я, а кому-то заведующий нашей церковной лавкой. К нему за советами ходят больше, чем ко мне, вам имеет смысл с ним познакомиться. Наша лавка метрах в двадцати налево.
— На вас можно сослаться?
— Конечно. Но это не понадобится, он сам с вами заговорит.
Чудеса, он и мимо этой лавки проходил раз сто и почему-то не замечал, хотя вот она, вывеска, выведенная славянской вязью.
Внутри все тоже было оплетено этой вязью — календари с ликами святых, разложенные по прилавку жития или как их там, и продавец за прилавком на фоне веселеньких иконок походил на священника гораздо больше, чем сам священник. Невысокий, но осанистый, весь в черном, с серебряной с чернью гривой (скоро Вишневецкого по серебру догонит), с круглой вьющейся бородой, похожей на серебряный с чернью мох, с испытующим взглядом крупных черных глаз под серебряными с чернью крупными бровями, он сразу оценил нерешительность, с которой новичок оглядывал помещение, стараясь, чтобы это было незаметно.
Савл взял с прилавка «Жизнеописания афонских подвижников благочестия» и сделал вид, что с головой ушел в предисловие. Похвальное слово Святогорскому монашеству инока Парфения. Духовник о. Григорий — болгарин († 1839). Духовник о. Арсений — русский († 1846 г.). Духовник о. Венедикт — грузин († 1862). Сокровенный старец — болгарин († 1862). Духовник о. Антипа — молдаванин († 1882). Неизвестный пещерник — грек († 1855). Старец о. Иоасаф — грек († 1872). Послушник Иаков Болгарин и сокровенный старец Старец о. Паисий — грек († 1869). Старец Длиннобрадый — грек († 1835). Старец Хаджи-Георгий — грек († 1886)…
— Вы, наверно, первый раз такую литературу читаете?
Пришлось поднять глаза и встретиться с суровым, но и сочувствующим взором глубоких черных глаз.
— Я читал несколько книг Вишневецкого.
— Вишневецкого мы не держим. Он экуменист.
И к католической ереси склонен. Это у него, наверно, от польских предков.
— Вера же не наследуется генетически…
— А вы что, верите, что человек произошел от обезьяны?
В голосе пророка прозвучала снисходительная насмешка, но черные глаза по-прежнему смотрели сострадательно и требовательно.
— Более правдоподобных версий нет…
— Вот вы это скажите на Страшном суде, когда вас черти на сковородку потащат. Я тоже когда-то верил в дарвинизм, даже детей учил. А однажды понял: меня создал Бог.
Есть же счастливцы — что им стукнуло в голову, то и правда. Обреченные верить… Именно что как дети: «Почему солнце не падает?» — «Потому что оно большое». И вопрос закрыт.
Пророк смотрел на Савла с неподдельным состраданием.
— Вы на кого учились? Кем работаете?
— Психотерапевтом, — почему-то неловко в этом признаваться.
— Учите людей, как жить, а самого главного не знаете? Вы кто по образованию?
— Психолог.
— Как вы можете быть психологом, если в душу не верите? Я вот не имею психологического образования, а ко мне людей наверняка ходит больше, чем к вам. Потому что их учу не я, а через меня Господь говорит.
Почему вы в этом так уверены, не стал спрашивать Савл, ибо уже знал главное свойство обреченных на веру — что им показалось, то и правда раз и навсегда.
— Да вам же даже того и не скажут, с чем к Богу идут, — пророк совсем не важничал и не торжествовал, он искренне сочувствовал заплутавшему в трех соснах. — Да вот, посидите здесь да послушайте, с чем идут к Господу.
Он со своим суровым участием указал на стул, стоящий боком к прилавку, и Савл опустился на него, потому что это все равно было лучше, чем брести домой. Да и в самом деле было любопытно.
К этому учителю жизни и впрямь не зарастала народная тропа; шли в основном, правда, женщины. Но были и мужчины. Они видели в этом торговце церковным ширпотребом кого-то вроде секретаря при очень большом начальнике и пытались пронюхать, как к тому лучше подъехать. А становиться лучше самим — даже помыслы такие возникали лишь у немногих. Но все-таки возникали, иногда очень серьезные. И ему было невыносимо жаль их всех, бедных детей, выброшенных в безжалостный мир.
«Им не по силам быть ни святыми, презирающими тело, ни скотами, из одного тела и состоящими. Но, заслуживают они того или не заслуживают, их невыносимо жалко. Мне нечего им дать, так и нужно оставить их в покое, пусть спасаются как умеют. Не даешь, так, по крайней мере, не отнимай. Да и как их судить, младенцев. Этот жадный, тот честолюбивый, третий трусливый, четвертый злой… да ведь все это не более чем психические аномалии, осуждать плохих людей означает осуждать больных».
Он чувствовал, что и ему самому мир внушает ужас, потому что участвовать в жизни означает причинять кому-то боль или прятаться за тех, кто ее причиняет. «Живешь всегда за чей-то счет, все время от кого-то защищаешься, от каких-то еще более несчастных, у кого нет даже и тех пустяков, которые есть у тебя. А ты готов с ними поделиться разве что окончательным мусором. Ты был не против, когда Сима подкидывала несчастному лузеру деньжат, но когда она поделилась с ним ласками, которых у тебя от этого не сделалось меньше, а может быть, даже прибавилось, ты уже готов чуть ли не с моста в реку. Ты же прекрасно знаешь, что Сима не способна на измену, на предательство, она же наверняка дарила этому чмошнику какие-то проблески радости только из сострадания, ты же это знаешь. А вся эта лабуда — изменила жена, наставила рога — принадлежит наружному, навязанному миру, внутри тебя нет никакой жены, а есть Сима, единственная в мире, к которой и ты должен отнестись единственным в мире образом, а не по кодексу пошляков, которых сам же и презираешь. Ведь любовь это тоже вера, вера, что именно ты знаешь правду о том, кого любишь, что только ты один зрячий, а остальные семь миллиардов слепы. И твоя вера твердо знает, что Сима не способна на низость и предательство. А значит, что бы у них там с Лаэртом ни происходило, это не было изменой».
— Запомните, вы мо́литесь Господу, — меж тем внушал паломникам Учитель, — а святых только про́сите походатайствовать за вас! Иначе это было бы многобожие. Но если вы хотите, чтобы святой угодник помогал вам, но почему-то не можете прийти в храм, лучше всего купить икону святого и молиться ей дома.
Их вовсю и покупали, будто лекарства в аптеке, каждое от своей напасти. Георгию Победоносцу нужно было молиться о защите от врагов, Николаю Чудотворцу о защите от дорожных бед, но он также помогал и торговцам, детям, да еще и подыскивал девушкам хорошего жениха. Заодно он помогал почему-то и заключенным. Пантелеимон-целитель врачевал болезни, Спиридон Тримифунтский улучшал финансовое благополучие, Сергий Радонежский приходил на помощь на экзаменах и в судебных склоках, Петр и Феврония Муромские помогали одиноким людям найти свою «вторую половинку», а семейным улучшить отношения в семье. Известно также множество случаев, когда молитва Петру и Февронии помогла женщинам забеременеть.
Известно множество случаев… Кому известно, кем проверялось? Да, слава Богу, никем, иначе несчастным младенцам и вовсе было бы не на что надеяться. Они же не редкостные титаны, которые могут сказать Богу, что им от него ничего не нужно, — им довольно того, что Он есть.
«Эти бедные сиротки не выживут без доброго и щедрого Папочки, так и не мешай им, погибай в одиночку».
Симы, несмотря на не самый ранний час, дома не было, и он с облегчением вспомнил, что ее зазвали на какую-то передачу об отце Павле (он впервые мысленно назвал отца Павла отцом Павлом). Хотя он, что называется, Симу и простил, вернее, понял, что и вопроса такого не должно возникать по отношению к тем, кого любишь, но ему, чтобы пойти на сближение, еще нужно было как-то собраться с духом, а еще лучше — убавить пуза хотя бы килограмм на пяток. Вдруг его брюхо ей все-таки неприятно?
Есть хотелось не ему, а всего лишь его телу, которое вполне могло бы удовольствоваться сладким чаем из китайского термоса, глюкозой-сахарозой. Поэтому вместо ужина он сел за комп отвечать на деловые письма. Все, что относилось к заземлению, он сворачивал одним и тем же вежливым ответом: тематика эта его больше не интересует. Зато выскакивающие из каких-то бездн объявления прочитывал очень внимательно.
Трансфермальный приворот
«В 2009 году академик высшей магии И.Н.Герман разработал новый метод в любовной магии под условным названием трансфермальный приворот. Данный метод не имеет ничего общего с общепринятыми классическими обрядовыми методами магии, в большей степени его можно отнести к экстрасенсорным видам воздействия. В процессе проведения трансфермального приворота Илья Николаевич передает ваши чувства человеку, на которого вы хотите повлиять. В результате проведения такого воздействия у человека возникает естественное изменение чувств и образуется стойкая эмоциональная привязка. Результат наступает сразу же после проведения сеанса и длится продолжительное время. С помощью трансфермального приворота вы легко восстановите потерянные чувства и сможете моментально вернуть любимого человека. Данный метод абсолютно безвреден для вас и совершенно безопасен для вашего близкого человека. Для проведения трансфермального приворота не требуется никаких фотографий или вещей человека, на которого будет происходить воздействие. Вам не придется выполнять никаких сложных рекомендаций. Всю работу маг И.Н.Герман проводит полностью сам».
Может, и впрямь приворотить Симу трансфермальным образом?.. Или помолиться Петру и Февронии? Но почему-то было не смешно.
«Вас интересует цигун? Это к нам».
«Можно заказать сорокоуст по интернету во всех монастырях с чудотворными иконами. Получение благодати гарантировано».
«Масонская молитва на деньги!»
«Ясновидение за 5 дней Онлайн-практикум. Результат со 2-го дня».
Еще сегодня утром он бы мысленно плевался, читая эти призывы, но теперь он не испытывал ничего, кроме жалости к несчастным потерявшимся сироткам, и жальче всех, до физической ломоты в груди ему было того счастливого поросеночка, каким была, а значит, и осталась бедная запутавшаяся Сима. И когда она с разбега бросилась к нему на шею, его залило счастьем и нежностью, но он все-таки не решился ее как следует обнять, прижать к проклятому животу.
А потом начался весь этот бред.
Чувство ирреальности не покидало его и тогда, когда он с двадцатиэтажной высоты смотрел на небольшую Венецию, похожую среди зеленых вод на изумительно изготовленный макет со всеми дворцами и соборами, совершенно неотличимыми от настоящих, и думал, что роскошнее этого человеческий гений ничего не создавал. Убивать, грабить, дурачить, наживаться, и все вбивать в красоту, — и тысячи тысяч будут веками съезжаться на поклонение, и, разумеется, ничего иного и быть не может. Чуть ли не вчера ему казалось, что может, что звери пусть и не творят таких неправдоподобных красот, зато не творят и таких зверств, что обратить людей в зверей было бы спасением для них. А теперь он понял, что в качестве зверей люди просто не выживут, уж слишком они слабы.
Ему самому и сейчас кажется, что весь этот ужас ему приснился — Лаэрт на вешалке, допросы… Калерия, железная стерва, надо отдать должное, держалась, будто ничего особенного не случилось, и расколола несчастного Лаэрта в два счета: выяснила, что в ту ночь, да и в три следующие, когда предположительно пропал отец Павел, никакие фонари на мосту не гасли, а если бы и гасли, белой ночью в туристический сезон это бы не имело никакого значения, и дело на удивление быстро свернула, весьма по-черному скаламбурив о повесившемся, что висяки никому не нужны.
Зато на «толпу», как выразился Лаэрт, эти разоблачения не возымели ни малейшего впечатления: журналисты звонили Симе по тридцать раз на дню, но он сразу же забирал у нее трубку и говорил: «Без комментариев». До него тоже добирались, но от своего имени ему было отвечать еще проще, так что комментариями делились в основном брехуны и сплетники, отчего слава отца Павла на глазах становилась по-настоящему громкой, то есть скандальной. В интернете же она разрасталась до истинной мифологии, с чудесами и всевозможными партийно-дворцовыми тайнами, — можно представить, как это раскручивалось бы в библейские времена.
А можно, наоборот, ничего не представлять, а наоборот, понять, что времена всегда библейские.
Хотя вряд ли все-таки на третий день после распятия Иисуса к его родственникам пришел бы роскошный длинноволосый шарлатан, похожий на спивающегося дирижера ресторанной банды, и предложил дать имя распятого водяным фильтрам, которые с таким брендом он надеется провести через законодательное собрание и навязать всему городу.
Прежний Савл, глядишь, еще и спустил бы его с лестницы, а нынешний только подумал: «Как это по-человечески… Но ведь и жуликов жалко, он ведь тоже скоро умрет…»
Что его держало в руках — страх за Симу, ему все те бредовые дни постоянно приходилось решать задачу про волка, козу и капусту: как ее не оставлять одну и одновременно не допускать к самым тягостным похоронным процедурам. Ни жену, ни сына разыскать не удалось, ему пришлось все брать на себя, и в крематории у роскошного гроба (вишневый бархат с бронзовыми завитушками) они с Симой остались вдвоем, когда ритуальный плакальщик, раздавленный горем, деликатно отошел от них, едва волоча ноги. А потом и он отодвинулся, чтобы дать Симе постоять, склонившись над прекрасным ликом ее друга, который было никак нельзя назвать мраморным, он был скорее аметистовым, натертым телесным гримом. И подбородок был упрямо уперт в твердый воротник темно-синей рубашки (рубашку и все прочее, чтобы не допускать к этой процедуре Симу, он выбирал сам), как у наказанного мальчишки, который и в углу упорно не желает раскаиваться.
Когда же закрытый гроб с легким гудением поехал в глубину, Сима очень похорошевшая в неизвестно откуда взявшемся черном вязаном платке с чисто женской логикой воззвала к нему вполголоса:
— Теперь ты убедился, что я тогда бегала его спасать?
— Конечно, конечно.
Видимо, она расслышала в его интонации «какие пустяки тебя волнуют» и уже на улице не удержалась от столь же логичного упрека:
— Тебе это теперь как будто все равно…
— Я хочу, чтобы твоя душа была спокойна. А остальное мне действительно все равно.
— А на мое тело тебе наплевать?
— Мне наплевать на все, на что наплевать тебе.
И поспешил переключить ее с непоправимого на то, что тревожит, но не безнадежно: сделал вид, что пытается незаметно проверить себе пульс. У него и в самом деле в последние дни сердце время от времени отбивало чечетку, но, заметив, что Симу это пугает, то есть возвращает к жизни, он принялся беззастенчиво заниматься аггравацией — изображать себя более больным, чем он себя чувствовал. Ложь во спасение и на этот раз помогла:
— Поедем снимем тебе кардиограмму. Прямо сейчас!
Чем бы дитя ни тешилось…
Они на такси двинули в роскошную клинику на улице Марата, а по дороге он вовлек Симу в схоластический спор, правильно ли поступает церковь, отказываясь отпевать некрещеных. Сима сказала, что лично она молится за всех, авось не помешает.
В итоге дорога прошла незаметно, а там, где было чисто и светло, за довольно-таки ошарашивающую сумму он узнал, что ему следует отдохнуть.
Так они и оказались на этом исполинском белоснежном корабле. Он, конечно, собою только прикрывался, на самом же деле хотел вытащить Симу из подъезда, где ей столько лет приходилось выруливать между тремя соснами, тремя мужиками, которые должны были бы вроде ее опекать…
Сима, забыв, что отец Павел ее «отпустил», завела было нудистику, что как-де они уедут, а вдруг про папочку что-то станет известно, — пришлось намекнуть, что врач не рекомендовал ему ехать одному. А если что-то станет известно, их разыщут по электронной почте, на больших судах она работает. И они тут же вернутся на самолете.
Убедил.
Снимая еврики с валютного счета, он хотел что-нибудь оставить на развод, а потом вдруг подумал: «Довлеет дневи злоба его», — и снял все.
Земные тревоги в последний раз коснулись его на паспортом контроле: вдруг Калерия как-нибудь его сейчас затормозит?
Перемена декораций помогла. Именно глядя с высоты полета чайки на игрушечную Венецию, Сима повторила в стотысячный раз, но впервые без надрыва, что она виновата перед Лаэртом.
— А он перед тобой. Все, что мы делаем для себя, мы делаем за счет других. Избежать этого можно только одним способом — не жить.
Или вечно плыть на этой белоснежной громаде, движущейся совершенно беззвучно, как парусник.
Он раскошелился на каюту с балконом, чтобы ни с кем не сталкиваться даже взглядом, и, случалось, целыми часами, полулежа в шезлонге, смотрел на сверкающее и переливающееся море, которое было трудно назвать иначе как лазурным, и ему нисколько не было скучно, как не бывает скучно тем, кто выздоравливает после мучительной и опасной болезни. Он как будто и правда выздоравливал от жизни: все, что его еще недавно волновало, ранило, словно бы уходило под воду, и его было все труднее и труднее разглядеть, если бы даже он к этому стремился. И бледная Лика уже сделалась совершенно прозрачной, и Калерия превратилась в комическую фигуру из давнишнего фильма, и только отец Павел, казалось, поднимался из глубины все ближе и ближе, и он даже время от времени брался за бинокль, словно ожидал увидеть Вишневецкого, шагающего к нему по водам.
Его отрешенность шла на пользу и Симе, заставляя ее за него тревожиться, то есть возвращаться к жизни. Она вытаскивала его побродить по кораблю, где было решительно все, чего могло пожелать тело, — огромная столовая, где в любое время дня и ночи можно было найти любые дары земли и моря, бассейн и спортзал с массажистками, сауна, теннисный корт, похожий на вольер для птиц, беговая дорожка на верхней палубе, которая пришлась бы впору школьному стадиону…
По беговой дорожке, скособочась, всегда поспешали на крабьих ножках несколько древних-предревних старичков и старушек в шортах и бейсболках, и они с Симой тоже делали несколько кругов быстрой ходьбой (он уже почти не хромал), а потом просто бродили по кораблю, переходя с этажа на этаж, и всегда задерживались у застекленной, как аквариум, капитанской рубки. Рубка была отделана благородным полированным деревом, в которое было вмонтировано множество приборов, но благороднее всего выглядел штурвал, за полированные рукоятки которого держался стройный рулевой, весь в белом. Капитан в поле зрения появлялся редко, но тогда уж от него было трудно оторвать взгляд, — так он был хорош своим орлиным профилем и орлиным взглядом и коротко остриженной серебряной бородой и такими же волосами, — пожалуй, что и Вишневецкому не уступит. Он вглядывался в искрящуюся лазурную даль, где очень медленно вырастали, а затем оставались в стороне небольшие розовые острова, отдавал какие-то распоряжения рулевому и вновь исчезал, а они не сговариваясь спускались в детскую рубку.
Там дело шло побойчее. Штурвал и отделка там были попроще, зато стена перед штурвалом представляла собой огромный экран с еще более лазурным, а иногда и бурным морем, острова из которого вырастали каждые две-три минуты, и нужно было поскорее вертеть штурвал, чтобы в них не врезаться. Хотя перекрутить тоже было опасно, ибо воображаемое судно слушалось руля не в пример лучше реального. За штурвалом всегда стоял какой-нибудь мальчишка, но борьбы за право порулить не наблюдалось: детей на корабле было на удивление мало, особенно девочек, которые теперь вызывали у него такую нежность, что его могли принять за педофила. Но что было делать, если когда-то и Сима была такой…
Людей их возраста тоже почти не попадалось, основная масса пассажиров были не просто старички и старушки, но старички и старушки прямо-таки мумифицированные…
Однако довольно активные, все время как-то шебуршились.
А они с Симой вроде бы немножко стеснялись друг друга, будто влюбленные подростки, и, нечаянно соприкоснувшись обнаженными предплечьями, как бы в шутку, но с реальным смущением просили друг у друга прощения. И, отходя ко сну, переодевались в ванной, а на широчайшей постели лишь церемонно дотягивались друг до друга кончиками губ и накрывались каждый своей махровой простыней.
Но однажды, закрыв глаза, он увидел мертвую мать на кованой халды-балдинской кровати, прикрытую байковым рядном, каким они примерно и накрывались, и он, стоя над ней, рыдал, как маленький, взывая неизвестно к кому: «Зачем, зачем с нами так?..»
И проснулся оттого, что кто-то чем-то мягким тыкался ему в лицо, — это Сима поцелуями пыталась стереть его слезы. Ты плакал, как ребенок, как обиженный ребенок, шептала она, и он отвечал тоже шепотом: так мы и есть дети, все люди дети. И они исступленно ласкали друг друга, а его богатырь продолжал спать сном праведника, потому что его ласки были обращены к ее душе, к тому прелестному счастливому поросеночку, которого он теперь все время угадывал в ней.
— Ты всегда был слишком сильным, — самозабвенно шептала она, — тебя было невозможно пожалеть. А теперь я за тебя кого угодно убить готова…
— Тебе не противен мой живот? — вдруг приостановился он.
— Что за глупость, я обожаю твой животик, он такой пушистенький. И волосики становятся дыбом, когда его гладишь. Да и нет у тебя никакого особенного живота. Уж получше, чем эти мумии…
Она и перед завтраком вдруг расстегнула ему безрукавку и принялась покрывать его живот поцелуями, и он снова не испытывал ничего, кроме бесконечной нежности и раскаяния, что так долго ее истязал.
По этому поводу он позволил себе съесть вкуснейший лишний блинчик с завернутым в него тугим черничным киселем, ляпнув на него лишнюю ложку таких свежайших взбитых сливок, о существовании каких он даже не догадывался, — можно было подумать, что где-то в трюме здесь держат коров. И его больше не раздражало, а трогало, что Сима требует протирать пальцы спиртовыми салфетками после каждого прикосновения к сверкающим приборам. Зато пользуется каждой возможностью принести ему то, что он вполне может взять сам. Так что ему остается только любоваться ее детской манерой немножко подстраховывать вытянутым язычком каждую ложку, которую она несет в рот.
Они сидели вдвоем за столиком на корме, не торопясь допивать отличный кофе с молоком, и смотрели на трехполосную пенную дорогу, уходящую к сияющему горизонту, и это было еще никогда не испробованное им счастье: мне некуда больше спешить. И он мог всерьез поразмыслить, почему пена за кормой делится на три полосы, неужели на корме целых три винта? А потом понял, что винт создает лишь центральную, самую широкую полосу, а остальные две это усы, порождаемые рассекающим воду носом судна.
А потом, держась за руки, словно влюбленные юнцы, они отправились на верхнюю палубу постоять на ветерке и полюбопытствовать, что открывается по курсу их ковчега. И его ни на мгновение не отпускало ощущение, что ее до боли маленькая рука действительно чудо. Это было словно бы живое существо, которое то посылало ему легкими пожатиями какие-то сигналы, то ласкалось, то вздрагивало от неожиданных звуков, а иногда замирало в изумлении.
Изумляться же было чему: двугорбый островок, проклюнувшийся из искрящегося горизонта, на глазах вырастал в исполинскую гору, а распадок между вершинами обращался в непроглядное ущелье. И они шли прямо в эту черную щель, казалось, со скоростью гоночного автомобиля: еще немного, и отворачивать будет поздно. Уже были отчетливо видны почти вертикальные скальные склоны, один из которых пересекала тень светящегося следа реактивного самолета, и темные веретенья кипарисов, столпившихся у входа в непроглядное скальное нутро.
«Вот сейчас мы туда врежемся, и будет нам последнее заземление…»
Ее рука тревожно напряглась, и он как бы подбадривающе подмигнул ей парой легкомысленных пожатий: «Сейчас пойду потереблю капитана».
Он старался не переходить на бег, чтобы не поддаться, да и не вызвать паники, но все равно заметил, что старички и старушки явно перепуганы, тревожно показывают друг другу через борт на стремительно растущую, рассеченную надвое гору, а кое-кто уже суетится у спасательных шлюпок, не зная, как к ним подступиться, и до него впервые дошло, что за все эти дни он не видел на судне ни одного матроса, только уборщиков-официантов.
Зато в детской рубке царил полный покой, двое мальчишек азартно выруливали среди воображаемых островов и рифов. Вот оно, соотношение внутреннего и внешнего мира.
По последней галерее он уже откровенно бежал и, прижавшись лицом к теплому стеклу, с ужасом обнаружил, что в рубке никого нет, ни рулевого, ни капитана. Он хотел подергать дверь — у нее не оказалось даже ручки. Он вспомнил, что пробегал мимо красного щита с противопожарными баграми-топорами, и бросился туда. Паника за эти минуты выросла вдвое, как и рассеченная страшной черной щелью гора, вокруг бессмысленно раскачиваемых шлюпок уже начиналась маленькая драчка, — народ вот-вот начнет сигать за борт.
Перед тем как разбить стекло, он с колотящимся сердцем еще раз припал к нему лицом, — рубка была пуста. С разворота, как на лесоповале, стараясь отвернуть лицо, чтобы не пораниться осколками, он что есть силы звезданул красным топором по стеклу. Топор отскочил, будто от стальной брони, но крошечная ссадинка все-таки осталась.
Пока он бегал, в нем еще жило чувство ирреальности творившегося, но после первого удара он действовал как автомат, душа пребывала в отключке.
Он хватил еще раз, уже почти не отворачиваясь и стараясь попасть по тому же самому месту (хорошо, на своем веку немало поработал топором). А потом, задыхаясь, колотил и колотил, пока стекло вдруг не осы́палось ледяными кубиками величиною с игральную кость. Проклиная свой сильно сдавший, но все равно чрезмерный живот, он перевалился внутрь и кинулся к штурвалу.
Штурвала не было.
А скалистые горбы теперь заслоняли небо, но черная щель меж ними оставалась такой же непроглядной, хотя на кипарисах у ее входа уже различалась мохнатость. Перед ними можно было разглядеть изящную фигурку в рясе, приветливо машущую ему рукой, и он нисколько не удивился, что отец Павел поджидает их здесь. Но проверять, Вишневецкий ли это, было некогда, хотя мощный морской бинокль лежал здесь же, на полированном красном дереве среди солидных, но совершенно бесполезных приборов.
Детская рубка!..
Он ринулся к окну и чуть не грохнулся, поскользнувшись на груде ледышек. Обдирая проклятый живот, перевалился наружу и столкнулся с Симой, по-младенчески испуганно таращившей глаза. Изобразив мгновенную улыбку, он стремительно пожал ее обнаженный локоть и постарался не выкрикнуть, а просто сказать: «Не волнуйся, я сейчас принесу штурвал!», — и, прихрамывая, затопотал по галерее, куда уже начал стекаться перепуганный народ. Его пытались остановить, задавали какие-то требовательные или умоляющие вопросы, но он всех расшвыривал, не разбирая возраста и пола и даже не пытаясь что-либо понять, — мелькали только мумифицированные личики, одни перекошенные, другие залитые слезами или потом.
Детская рубка была пуста, мальчишек растащили папы-мамы. Он рванул штурвал на себя, и тот на удивление легко выскользнул из черной квадратной дыры. Из середины штурвала торчал такой же квадратный черный штырь.
Перепачкавшись смазкой, он безжалостно пробился назад через начинающую сходить с ума толпу ко входу в рубку, откуда со страхом и надеждой на него взирали вытаращенные Симины глаза. Подняв штурвал над головой, он бросил Симе: «Скажи им, что я капитан, что сейчас я вырулю, пусть не паникуют», — и, переваливаясь со штурвалом через горячее царапучее железо, услышал, как она кричит: «Успокойтесь, мой муж капитан!! Май хазбэнд из кэптен, калм даун!!»
Кажется, рану в бедре он изрядно разбередил, но было не до того. Поспешно проковыляв к тому месту, где всегда стоял рулевой, он обнаружил, что штурвал некуда вставить: полированное красное дерево было совершенно сплошным, без малейшего отверстия. А черная щель стремительно приближалась, и было совершенно ясно, что кораблю туда не войти, — еще две-три минуты, и — громовой удар, скрежет… При такой массе и скорости корпус сомнется в гармошку, в лепешку…
Он оглянулся. Через выбитое стекло на него с ужасом и надеждой смотрели десятки людей, — одни плакали, другие молились, третьи обнимали друг друга, и впереди всех с бесконечной верой и любовью таращились глазки его драгоценного поросеночка. И он понял, что́ будет единственно правильным, — пусть они проживут последние оставшиеся им минуты без ужаса, предпринимать что бы то ни было уже поздно.
Он ободряюще улыбнулся через плечо и крикнул Симе:
— Все в порядке, начинаю выруливать.
Он принял гордую позу рулевого и, перехватывая руками, начал быстро вращать ни к чему не присоединенный штурвал по часовой стрелке, делая вид, что выруливает вправо.
И — о чудо! — каменная пасть действительно начала отходить влево. Он завертел штурвал еще быстрее, и вот она уже остается слева по борту, а они идут вдоль невесть откуда взявшихся бурунов…
Он покосился назад, далеко ли отступила опасность, и ему показалось, что отец Павел приветственно и благословляюще машет ему рукой.
Но проверять, не показалось ли ему это, было некогда.
2017
Назад: Разряд. Шестикрылая Серафима
На главную: Предисловие