~~~
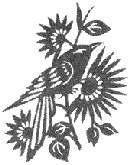
Собирались мы каждый вечер; кто-то садился, поджав под себя ноги, кто-то, положив руки под голову, растягивался на земле, чтобы считать звезды, которые появлялись в небе одна за другой, точно пугливые рыбки из расщелины в рифе. Некоторые стояли, как будто вот-вот собирались уйти (но всегда оставались до конца).
Моя мать всегда приходила последней. Для нее это было делом принципа. Она любила показать, что у нее есть дела поважнее.
При помощи этой уловки мама надеялась произвести впечатление — если допустить, что кто-то вообще снисходил до того, чтобы ее заметить. Она дожидалась, когда прибежит к костру последний из припозднившихся слушателей. И только тогда позволяла себе роскошь передумать и, раз уж выдалась у нее свободная минутка, послушать мистера Уоттса, тем более что он в последнее время обнаруживал способность удивлять.
Если приглядеться, можно было заметить, как мистер Уоттс уходит в себя. У него закрывались глаза, будто необходимые слова оказались далеко-далеко, как еле видные звезды. Он никогда не повышал голос. В этом и не было нужды. Тишину нарушало только потрескивание костра, шепот моря да ночная живность, которая шевелилась на деревьях, пробуждаясь от дневного сна. Но при первых звуках рассказа живность тоже умолкала. Деревья — и те прислушивались. Да что там деревья — даже старухи: они с благоговением внимали каждому слову, как в свое время на проповеди, сидя под крышей и глазея на белого пастора-немца.
И парни-мятежники увлеклись не меньше нашего. Три года провели они в джунглях, заманивая в гиблые места краснокожих карателей, и были способны на все, но при свете костра я видела, что у них смягчается и перестает бегать взгляд: им бы в школе учиться. По сути, они были мальчишками. Тот, с сонным глазом, выглядел, наверно, лет на двадцать. А остальным и двадцати не исполнилось.
Сегодня я вижу в них почти детей — одетых в лохмотья, с ружьями от другой войны. Но у них была власть. Власть задавать вопрос, которого не задал никто другой. Кто ты есть? Вначале им требовалась только информация. Но мало-помалу их затянул рассказ мистера Уоттса. К вечеру третьего дня положение устоялось. Мистер Уоттс сделался Пипом, а они — как и мы — стали слушателями.
Мистер Уоттс старался найти отклик у всех и каждого. При всяком упоминании Грейс мы подползали чуть ближе, чтобы подобраться к истории нашей землячки, попавшей в мир белых. Примерно через полчаса у мистера Уоттса начинал срываться голос, и мы понимали: вечерний рассказ подходит к концу. В какой-то момент учитель прерывался на полуслове, и многие из нас задирали головы, чтобы по его примеру вглядеться в черноту ночи. Это была уловка: опустив глаза, мы видели, как он уходит по направлению к своему дому и скрывается во мраке.
Не стану дальше воспроизводить его рассказ — пора остановиться. Но я до сих пор ношу в себе главные вехи этой истории, которую про себя называю тихоокеанской версией романа «Большие надежды». Подобно оригиналу, версия мистера Уоттса приходила к публике по частям: она была растянута на несколько вечеров, чтобы закончиться к установленному сроку.
На это время мистер Уоттс объявил школьные каникулы, поэтому дети видели его только по вечерам. А в дневное время мы опять валяли дурака.
По этой причине, завидев однажды утром, как мистер Уоттс поднимается по склону, я увязалась за ним. Не для того, чтобы задать вопрос или поделиться восстановленным отрывком из книги «Большие надежды», и даже не для того, чтобы узнать, доволен ли он моим переводом. Я увязалась за ним бездумно и преданно, как собачонка, которая встает и бежит вслед за хозяином, или ручной попугай, что сам летит хозяину на плечо.
Я догнала мистера Уоттса у могилы миссис Уоттс. При моем приближении он слегка повернул голову, просто чтобы узнать, кто это, и, не найдя повода для беспокойства, опять устремил взгляд на могилу. Я увидела, что ему на шею опустился москит. Мистер Уоттс то ли не заметил, то ли не придал этому значения. Некоторое время я постояла рядом, глядя туда, где покоилась в земле миссис Уоттс.
— Ты умеешь хранить секреты, Матильда? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, продолжил: — В ночь после полнолуния придет лодка, — сказал он. — Значит, через пять ночей Кристиан Масои поведет нас к месту ее прибытия. Несколько часов в открытом море — и мы будем на Соломоновых островах, а дальше… ну, дальше сама решай.
Я проглотила язык, и мистер Уоттс подумал, что знает причину моего молчания.
— Маму тоже возьмем, Матильда, — сказал он после паузы.
Но я-то подумала не о ней. Я подумала об отце. Наконец-то я его увижу.
— И вот еще что, Матильда. Это очень важно. Пока я не дам добро, ничего не говори Долорес. — Я по-прежнему смотрела на могилу, но чувствовала на себе взгляд мистера Уоттса. — Ты хорошо меня поняла, Матильда? Кивни, чтобы я знал.
— Да, — ответила я.
Трудно выразить словами всю глубину его слов, необъятность надежды.
Мистер Уоттс звал меня бросить единственный известный мне мир. Может, во сне меня и посещали такие картины, но наяву я даже помыслить не могла о том, чтобы распрощаться с островом. Трудно было представить, что тот большой мир захочет меня принять.
Он сказал:
— Ничего не бойся.
— Я и не боюсь, — ответила я.
— Вот и хорошо. Бояться не надо. Но я тебя предупредил, не забудь, Матильда.
— Не забуду, — пообещала я.
— С Долорес я сам поговорю, не сомневайся. Но до поры до времени это останется нашей тайной. О ней знаем только мы с тобой и эти пальмы. Да, и еще миссис Уоттс.
Опять я лежала без сна в потемках наедине со своей тайной, слушая, как посапывает мать. Мистер Уоттс ей не доверял. А теперь, попросту говоря, мне тоже было велено не доверять ей того, что я узнала: без малого через неделю она вместе со мной и с мистером Уоттсом уедет с острова. И кто знает, возможно, еще через пару недель она увидится с моим отцом.
Меня прямо распирало. Как-то она спросила, не хочу ли я ей что-нибудь сказать: мол, она услышала, как у меня в голове крылья хлопают.
— Это я просто задумалась, — сказала я.
— О чем?
— Ни о чем, — ответила я.
— Ну, когда освободишься, ступай к мистеру Масои, пусть даст нам рыбину.
Мне невыносимо было оттого, что я не могла ее обнадежить. У нее даже насчет моего отца появились бы совсем другие мысли. Она бы задумалась о большом мире. О своем месте в нем. Но в то же время я и без мистера Уоттса понимала: моей маме рискованно сообщать такие вести. Он сомневался в маминой надежности. А я лучше его знала, что мать пустится во все тяжкие, лишь бы только ему насолить.
Играя с ребятами, я раздувалась от важности, но в то же время грустила. Они ведь не знали, что без малого через неделю я расстанусь с ними навсегда. Исподволь я даже начала прощаться со знакомыми приметами нашего мира: с пальмами, с плывущим небом, с неторопливым падением горных ручьев, с рассветными криками птиц, с жадным хрюканьем свиней.
Но тайный план мистера Уоттса меня тревожил. Если нам придется уезжать, у матери должно быть хоть сколько-нибудь времени на раздумье — больше, чем собирался дать ей мистер Уоттс. От нее потребуется мгновенное решение. Я боялась, что она откажется, и своего выбора я тоже страшилась.
Нарушать данное мистеру Уоттсу обещание я не собиралась, но чувствовала, что матери нужно будет собраться с мыслями. Я не придумала ничего другого, кроме как пересказать ей сцену, в которой мистер Джеггерс прибывает к Пипу в болотистый край. Этот эпизод из книги мистера Диккенса до сих пор меня преследует. Мысль о том, что вдруг, в одночасье твоя жизнь может измениться, была необычайно привлекательна. Вероятно, мать выразилась бы иначе. Она бы сказала, как впоследствии Пип, что вознесет к небу молитву благодарности. Вот об этом я и решила поговорить с матерью, когда мы с ней проснулись в первых отблесках рассвета и лежали, как две оглушенные рыбины.
Со знанием дела я завела речь о мире, где никогда не бывала, но, по ощущениям, ориентировалась не хуже, чем на этом клочке тропического побережья, а мать слушала, как стал бы слушать кто угодно другой, желающий расширить границы своего мира. И услышала она, как Пип изъявил готовность бросить все, что сформировало его характер, — злодейку-сестру, милого старого Джо Гарджери, напыщенного мистера Памблчука, болота и их призрачный свет, — все без исключения, что было связано для него с родными краями.
Мир, что открыл нам мистер Уоттс у костра мятежников, не сводился ни к островному миру, ни к далекому большому миру, ни даже к Англии девятнадцатого века. Нет. Это было совершенно особое пространство, которое создали у себя мистер Уоттс и Грейс, и назвали они его так: свободная комната.
Свободная комната. С переводом пришлось помучиться. Свободная комната. Я привела в пример матку, которую предстоит наполнить, потом лодку, которую предстоит загрузить рыбой. Вспомнила кокос, из которого удалили и молоко, и белую мякоть. Свободная комната, по словам мистера Уоттса, впоследствии должна была послужить их дочери, девочке с кожей кофейного цвета.
До рождения Сары в свободной комнате были свалены всякие ненужные вещи. Теперь мистер и миссис Уоттс договорились расчистить ее от хлама. И ничем больше не занимать. Они хотели воплотить здесь свое видение небывалого пространства. Зачем полагаться на волю случая? — думали они. Зачем отказываться от возможностей глухой стены? Зачем покупать обои с рисунком из зимородков и прочих птичек, если на стенах можно разместить полезную информацию? Они условились свести там воедино два мира и предоставить дочери самой выбрать тот, что придется ей по душе. Как-то ночью Грейс написала на стене имена всех своих родичей, вплоть до мифической летающей рыбы.
Впервые за все время, что я выступала переводчицей, меня перебили. Подслеповатая старуха, приходившаяся Грейс бабкой, спросила мистера Уоттса: а ее-то имя написала ли на стене блудная внучка?
Мистер Уоттс закрыл глаза. Взялся за подбородок. И закивал.
— А как же, написала, — сказал он, и старуха облегченно вздохнула.
Следом еще какая-то женщина — вроде бы тетка миссис Уоттс — подняла руку и спросила о том же. А потом и человек пять-шесть других родственников пожелали удостовериться, что их имена увековечены на стене дома в далеком мире белых.
Мистер Уоттс предложил просто побелить стены свободной комнаты, и Грейс в ответ написала «историю белизны на моем родном острове».
И теперь мы, дети, к своему изумлению, выслушали все фрагменты, которые наши мамы, дяди и тети приносили в класс к мистеру Уоттсу. Наши мысли о белизне. Наши мысли о синеве. Мистер Уоттс по крупицам собирал свою историю из наших воззрений — из тех рассказов, что звучали у нас в классе. Но добавлял и кое-что новое: например, мысли Грейс насчет коричневого цвета.
Мороженое на палочке отродясь не бывало коричневым, пока не придумали добавлять в него колу; появилось такое мороженое — и враз исчезло. Тогда мы спросили лавочника почему, а он и говорит: никому оно не нужно. Мы как закричим: «Нам нужно». А он: «Вас, мелочь пузатая, никто не спрашивает. Брысь отсюда».
Повстанцы у костра стали хлопать друг друга по плечам и покатываться со смеху; где-то в стороне им подвывала одинокая собака.
А мне опять предстоял каверзный перевод: рассуждения мистера Уоттса о белизне.
В детстве он услышал от мисс Райан, как она при помощи белой жевательной резинки укрепила свой белый зуб, едва не выбитый о питьевой фонтанчик незадолго до свидания с тем самым летчиком, от которого, как она помнила, всегда пахло черным гуталином!
Глядя на меня, мистер Уоттс сделал паузу. Он был очень доволен собой. Ждал, что слушатели растрогаются, когда я донесу до них смысл. Но чтоб мне провалиться, если я понимала, что такое «черный гуталин»!
— В то время, — продолжил мистер Уоттс, — от всех пахло белым мылом.
Я встретилась взглядом с Силией и Викторией. И поняла, что не одинока в своих опасениях. Нам всем стало боязно за мистера Уоттса. Он нес какую-то околесицу. Мои мысли обратились к Джо Гарджери из романа «Большие надежды» и к его бессвязным речам.
Помню, на уроках, слушая чтение мистера Уоттса, я улавливала слова, которые по отдельности были мне знакомы, но в предложениях почему-то превращались в полную бессмыслицу. Когда мы спросили, как понимать рассуждения Джо, мистер Уоттс ответил, что искать смысл в его речах не нужно. Если слова кузнеца непонятны, значит, так и должно быть. Пусть так; но сейчас я забеспокоилась, что мистер Уоттс перепутал своих героев: сбросил маску Пипа и влез в шкуру Джо Гарджери. Мой перевод не возымел такого действия, на которое, судя по его довольной улыбке, рассчитывал мистер Уоттс. Перед ним в ожидании обещанной косточки застыли собачьи лица.
Он опомнился и стал рассказывать про соседа мисс Райан, который на островах подвозил к берегу людей с летающей лодки. Этого соседа нашли мертвым; в руке он держал кисть, которую успел обмакнуть в белила, но так и не сумел использовать: умер он от инфаркта возле недокрашенного почтового ящика. Слишком много ел сахара, как мы услышали. Или соли?
Короче говоря, он вернулся к теме белизны.
Белейшую белизну, сказал он, можно найти внутри унитаза. Белизна сродни чистоте. Чистота сродни благочестию.
Белый, сказал он, раньше был исключительно цветом летчиков и стюардесс. В детстве первым делом узнаешь про белые страны. Булка белая, пена тоже, и жир, и молоко.
Белый — это цвет резинки, которая не дает упасть трусам. Белый — это цвет машины «скорой помощи», избирательного бюллетеня и кителей парковщиков.
— Но прежде всего, — сказал он, — белый — это ощущение.
Уловив ритм, я без запинки перевела это предложение.
Мимолетная мысль способна прийти и уйти, оставив по себе удивление. А написанное или сказанное слово требует объяснений. Когда я перевела суждение мистера Уоттса о том, что «белый — это ощущение», весь остров, клянусь, притих. Мы давно такое подозревали, просто уверенности не было. Теперь нам предстояло услышать. Мы ждали, ждали, а мистер Уоттс тем временем застыл, отведя взгляд в сторону и вниз. Сначала просто ругал себя, что открыл эту дверь, подумала я. Но потом, покивав самому себе, он серьезно и откровенно, как никогда, сказал:
— Это правда. Среди черных мы ощущаем себя белыми.
Хотя от этих слов нам стало неловко, все, по-моему, ждали продолжения, но тут встрял Дэниел.
— А нам без разницы, — сказал он. — Мы и среди белых ощущаем себя черными.
Обстановка разрядилась. Люди засмеялись, а один захмелевший рэмбо вскочил, пошатываясь направился к Дэниелу и хлопнул его по раскрытой ладони. Дэниел расплылся в улыбке. Сам-то он не ведал, что сказал.

