Книга: Чарльз Диккенс. Собрание сочинений в 30 томах. Том 12
Назад: ПЕСЕНКА ПЕРВАЯ
Дальше: ПЕСЕНКА ТРЕТЬЯ
ПЕСЕНКА ВТОРАЯ
Жили-были Калеб Пламмер и его слепая дочь, одни-одинешеньки, как говорится в сказках, — а я благословляю сказки, надеюсь, вы тоже, за то, что они хоть как-то скрашивают наш будничный мир! — жили-были Калеб Пламмер и его слепая дочь одни-одинешеньки в маленьком деревянном домишке, — не домишке, а потрескавшейся скорлупке какой-то, которая, по правде говоря, казалась всего лишь прыщиком на огромном краснокирпичном носу фабрики "Грубб и Теклтон". Обиталище Грубба и Теклтона было самым роскошным на этой улице, зато жилище Калеба Пламмера можно было свалить одним-двумя ударами молотка и увезти обломки на телеге.
Если бы после такого разгрома кто-нибудь оказал честь лачуге Калеба Пламмера и заметил ее отсутствие, он несомненно одобрил бы, что ее снесли, ибо это послужило к вящему украшению улицы. Лачуга прилепилась к владениям Грубба и Теклтона, как ракушка к килю корабля, как улитка к двери, как пучок поганок к стволу дерева. Но именно она была семенем, из которого выросло мощное древо Грубба и Теклтона, и под ее покосившейся кровлей Грубб еще не так давно скромно изготовлял игрушки для целого поколения мальчиков и девочек, которые играли в эти игрушки, рассматривали, что у них внутри, ломали их, а со временем, состарившись, засыпали вечным сном.
Я сказал, что здесь жили Калеб и его бедная слепая дочь. Но мне следовало бы сказать, что только сам Калеб здесь жил, а его бедная слепая дочь жила совсем в другом месте — в украшенном Калебом волшебном доме, не знавшем ни нужды, ни старости, в доме, куда горе не имело доступа. Калеб не был колдуном, но тому единственному колдовскому искусству, которым мы еще владеем — колдовству преданной, неумирающей любви, его учила Природа, и плодами ее уроков были все эти чудеса.
Слепая девушка не знала, что потолки в доме закопчены, а стены покрыты грязными пятнами; что там и сям с них обвалилась штукатурка и трещины без помехи ширятся день ото дня; что потолочные балки крошатся и прогибаются. Слепая девушка не знала, что железо здесь ржавеет, дерево гниет, обои отстают от стен; не знала истинного размера, вида и формы этой ветшающей лачуги. Слепая девушка не знала, что на обеденном столе стоит безобразная фаянсовая и глиняная посуда, а в доме поселились горе и уныние; не знала, что редкие волосы Калеба все больше и больше седеют у нее на незрячих глазах. Слепая девушка не знала, что хозяин у них холодный, придирчивый, равнодушный к ним человек, — короче говоря, не знала, что Теклтон — это Теклтон, — но была убеждена, что он чудаковатый остряк, охотник пошутить с ними и хотя для них он истинный ангел-хранитель, он не хочет слышать от них ни слова благодарности.
И все это было делом рук Калеба, делом рук ее простодушного отца! Но у него за очагом тоже обитал сверчок; Калеб с грустью слушал его песенки в те дни, когда его слепая дочка, совсем еще маленькой, потеряла мать, и этот сверчок-волшебник тогда внушил ему мысль, что и тяжкое убожество может послужить ко благу и что девочку можно сделать счастливой при помощи столь несложных уловок. Ибо все сверчки — могущественные волшебники, хотя люди обычно не знают этого (они очень часто этого не знают), и нет в невидимом мире голосов, более нежных и правдивых, голосов, более достойных беспредельного доверия и способных давать более добрые советы, чем голоса этих Духов Огня и Домашнего очага, когда они обращаются к людям.

Калеб с дочерью вместе трудились в своей рабочей каморке, служившей им также гостиной и столовой. Странная это была комната. В ней стояли дома, оконченные и неоконченные, для кукол любого общественного положения. Были тут пригородные домики для кукол среднего достатка; квартирки в одну комнату с кухней для кукол из простонародья; великолепные столичные апартаменты для высокопоставленных кукол. Некоторые из этих помещений были уже омеблированы на средства, которыми располагали куклы не очень богатые; другие можно было по первому требованию обставить на самую широкую ногу, сняв для них мебель с полок, заваленных креслами, столами, диванами, кроватями и драпировками. Знатные аристократы, дворяне и прочие куклы, для которых предназначались эти дома, лежали тут же в корзинах, тараща глаза на потолок; но, определяя их положение в обществе и помещая каждую особу в отведенные ей общественные границы (что, как показывает опыт в действительной жизни, к прискорбию, очень трудно), создатели этих кукол намного перегнали природу, — которая частенько бывает своенравной и коварной — и, не полагаясь на такие второстепенные отличительные признаки, как платья из атласа, ситца или тряпичных лоскутков, они вдобавок сделали свои произведения столь разительно не похожими друг на друга, что ошибиться было невозможно. Так, кукла благородная леди обладала идеально сложенным восковым телом, но — только она и равные ей. Куклы, стоящие на более низкой ступени общественной лестницы, были сделаны из лайки, а на следующей — из грубого холста. Что касается простолюдинов, то для изготовления их рук и ног брались лучинки из ящика с трутом, по одной на каждую конечность, и куклы эти тотчас же входили в отведенные для них границы, навсегда лишаясь возможности выбраться оттуда.
Кроме кукол, в комнате Калеба Пламмера можно было увидеть и другие образцы его ремесла. Тут были ноевы ковчеги, в которые звери и птицы еле-еле влезали; впрочем, их можно было пропихнуть через крышу, а потом хорошенько встряхнуть ковчег так, чтобы они утряслись получше. Образец поэтической вольности: к дверям почти всех этих ноевых ковчегов были подвешены дверные молотки — неуместная, быть может, принадлежность, напоминающая об утренних визитерах и почтальоне, но все же премилое украшение для фасада этих сооружений. Тут были десятки унылых тележек, колеса которых, вращаясь, исполняли очень жалобную музыку, множество маленьких скрипок, барабанов и других таких орудий пытки; бесконечное количество пушек, щитов, мечей, копий и ружей. Тут были маленькие акробаты в красных шароварах, непрестанно перепрыгивающие через высокие барьеры из красной тесьмы и свергающиеся вниз головой с другой стороны; были тут и бесчисленные пожилые джентльмены вполне приличной, чтобы не сказать почтенной наружности, которые очертя голову скакали через палки, горизонтально вставленные для этой цели во входные двери их собственных домов. Тут были разные животные; в частности, лошади любой породы, начиная от пегого бочонка на четырех колышках с меховым лоскутком вместо гривы и кончая чистокровным конем-качалкой, рьяно встающим на дыбы. Сосчитать эти смешные фигурки, вечно готовые совершать всевозможные нелепости, — как только повернешь заводной ключик, — было бы так же трудно, как назвать человеческую глупость, порок или слабость, которые не нашли своего игрушечного воплощения в комнате Калеба Пламмера. И ничто тут не было преувеличено: ведь и в жизни случается, что крошечные ключики заставляют людей проделывать такие штуки, на какие не способна ни одна игрушка.
Окруженные всеми этими предметами, Калеб с дочерью сидели за работой. Слепая девушка шила платье для куклы, Калеб красил восьмиоконный фасад красивого особняка и вставлял стекла в его окна.
Забота, наложившая свой отпечаток на морщинистое лицо Калеба, его сосредоточенный и отсутствующий вид были бы под стать какому-нибудь алхимику или ученому, углубившемуся в дебри науки, и, на первый взгляд, представляли странный контраст с его занятием и окружающими его безделушками. Но безделушки, когда их изобретают и выделывают ради хлеба насущного, имеют очень важное значение. К тому же, я не берусь утверждать, что, будь Калеб министром двора, или членом парламента, или юристом, или даже крупным спекулянтом, он имел бы дело с менее нелепыми игрушками; но те игрушки вряд ли были бы такими же безобидными, как эти.
— Так, значит, отец, ты вчера вечером ходил по дождю в своем красивом новом пальто? — сказала дочь Калеба.
— Да, в моем красивом новом пальто, — ответил Калеб, бросив взгляд на протянутую веревку; описанное выше холщовое одеяние было аккуратно развешено на. ней для просушки.
— Как я рада, что ты заказал его, отец!
— И такому хорошему портному! — сказал Калеб. — Это самый модный портной. Для меня пальто даже слишком хорошо.
Слепая девушка оторвалась от работы и радостно засмеялась.
— Слишком хорошо, отец! Что может быть слишком хорошо для тебя?
— Мне почти стыдно носить это пальто, — продолжал Калеб, следя за тем, какое впечатление производят на нее эти слова и как светлеет от них ее лицо. — Ведь когда я слышу, как мальчишки и вообще разные люди говорят у меня за спиной: "Глядите! Вот так щеголь!", я прямо не знаю куда деваться. А вчера вечером от меня не отставал какой-то нищий. Я ему говорю, что я сам бедный человек, а он говорит: "Нет, ваша честь, не извольте так говорить, ваша честь!" Я чуть со стыда не сгорел. Почувствовал, что не имею права носить такое пальто.
Счастливая слепая девушка! Как ей было весело, в какой восторг она пришла!
— Я тебя вижу, отец, — сказала она, сжимая руки, — вижу так же ясно, как если бы у меня были зрячие глаза; но когда ты со мной, они мне не нужны. Синее пальто…
— Ярко-синее, — сказал Калеб.
— Да, да! Ярко-синее! — воскликнула девушка, поднимая сияющее личико. Оно, кажется, того же цвета, что и небо! Ты уже говорил мне, что небо — оно синее! Ярко-синее пальто…
— Широкое, сидит свободно, — ввернул Калеб.
— Да! Широкое, сидит свободно! — вскричала слепая девушка, смеясь от всего сердца. — А у тебя, милый отец, веселые глаза, улыбающееся лицо, легкая походка, темные волосы, и в этом пальто ты выглядишь таким молодым и красивым!
— Ну, полно, полно, — сказал Калеб, — еще немного, и я возгоржусь.
— По-моему, ты уже возгордился! — воскликнула слепая девушка, в полном восторге показывая на него пальцем. — Знаю я тебя, отец! Ха-ха-ха! Я тебя уже раскусила!
Как резко отличался образ, живший в ее душе, от того Калеба, который сейчас смотрел на нее! Она назвала его походку легкой. В этом она была права. Много лет он ни разу не переступал этого порога свойственным ему медлительным шагом, но старался изменить походку ради нее; и ни разу, даже когда на сердце у него было очень тяжко, не забыл он, что нужно ступать легко, чтобы вселить в нее бодрость и мужество!
Кто знает, так это было или нет, но мне кажется, что растерянный, отсутствующий вид Калеба отчасти объяснялся тем, что старик, движимый любовью к своей слепой дочери, мало-помалу совсем отучился видеть все — в том числе и себя — таким, каким оно выглядело на самом деле. Да и как было этому маленькому человеку не запутаться, если он уже столько лет старался предать забвению собственный свой облик, а с ним — истинный облик окружающих предметов?
— Ну, готово! — сказал Калеб, отступив шага на два, чтобы лучше оценить свое произведение. — Так же похож на настоящий дом, как дюжина полупенсов на один шестипенсовик. Какая жалость, что весь фасад откидывается сразу! Вот если бы в доме была лестница и настоящие двери из комнаты в комнату! Но то-то и худо в моем любимом деле — я постоянно заблуждаюсь и надуваю сам себя.
— Ты говоришь очень тихо. Ты не устал, отец?
— Устал? — подхватил Калеб, внезапно оживляясь. — С чего мне уставать, Берта? Я в жизни не знал усталости. Что это за штука?
Желая еще сильнее подчеркнуть свои слова, он удержался от невольного подражания двум поясным статуэткам, которые потягивались и зевали на каминной полке и чье тело, от пояса и выше, казалось, вечно пребывает в состоянии полного изнеможения, и стал напевать песенку. Это была застольная песня — что-то насчет "пенного кубка". Старик пел ее с напускной лихостью, и от этого лицо его казалось еще более изнуренным и озабоченным.
— Как! Да вы, оказывается, поете? — проговорил Теклтон, просовывая голову в дверь. — Валяйте дальше! А вот я петь не умею.
Никто и не заподозрил бы этого. Лицо у него было, что называется, отнюдь не лицом певца.
— Я не могу позволить себе петь, — сказал Теклтон, — но очень рад, что вы можете. Надеюсь, вы можете также позволить себе работать. Но вряд ли хватит времени на то и на другое, сдается мне.
— Если бы ты только видела, Берта, как он мне подмигивает! — прошептал Калеб. — Ну и шутник! Кто его не знает, подумает, что он это всерьез… ведь правда?
Слепая девушка улыбнулась и кивнула.
— Говорят, если птица может петь, но не хочет, ее надо заставить петь, — проворчал Теклтон. — А что прикажете делать с совой, которая не умеет петь — да и незачем ей петь, — а все-таки поет? Может, заставить ее делать что-нибудь другое?
— С каким видом он мне сейчас подмигивает! — шепнул Калеб дочери. — Сил нет!
— Он всегда весел и оживлен, когда он с нами! — воскликнула Берта, улыбаясь.
— Ах, и вы здесь, вот как? — отозвался Теклтон. — Несчастная идиотка!
Он в самом деле считал ее идиоткой, основываясь на том — не знаю только, сознательно или бессознательно, — что она его любила.
— Так! Ну, раз уж вы здесь, как поживаете? — буркнул Теклтон.
— Ах, отлично; очень хорошо! Я так счастлива, что даже вы не могли бы пожелать мне большего счастья. Я ведь знаю — вы бы весь мир сделали счастливым, будь это в вашей власти.
— Несчастная идиотка, — пробормотал Теклтон. — Ни проблеска разума! Ни малейшего!
Слепая девушка взяла его руку и поцеловала; задержала ее на мгновение в своих руках и, прежде чем выпустить, нежно прикоснулась к ней щекой. В этом движении было столько невыразимой любви, столько горячей благодарности, что даже Теклтон был слегка тронут, и проворчал чуть мягче, чем обычно:
— Что еще такое?
— Вчера я поставила его у своего изголовья, когда ложилась спать, и я видела его во сне. А когда рассвело и великолепное красное солнце… Оно красное, отец?
— Оно красное по утрам и по вечерам, Берта, — промолвил бедный Калеб, бросив скорбный взгляд на хозяина.
— Когда солнце взошло и яркий свет — я почти боюсь наткнуться на него, когда хожу, — проник в мою комнату, я повернула горшочек с цветком в сторону, откуда шел свет, и возблагодарила небо за то, что оно создает такие чудесные цветы, и благословила вас за то, что вы посылаете их мне, чтобы подбодрить меня!
— Сумасшедшие прямехонько из Бедлама! — пробурчал себе под нос Теклтон. — Скоро придется надевать на них смирительную рубашку и завязывать им рот полотенцем. Чем дальше, тем хуже!
Слушая слова дочери, Калеб с отсутствующим видом смотрел перед собой, как будто сомневался (мне кажется, он действительно сомневался) в том, что Теклтон заслужил подобную благодарность. Если бы в эту минуту от него потребовали под страхом смерти либо пнуть ногой фабриканта игрушек, либо пасть ему в ноги — соответственно его заслугам, — и предоставили бы ему свободу выбора, — неизвестно, на что решился бы Калеб, и мне кажется, шансы разделились бы поровну. А ведь Калеб сам, своими руками и так осторожно, принес вчера домой кустик роз для дочери и своими устами произнес слова невинного обмана, чтобы она не могла даже заподозрить, как самоотверженно, с каким самоотречением он изо дня в день во всем отказывал себе ради того, чтобы ее порадовать.
— Берта, — сказал Теклтон, стараясь на этот раз говорить несколько более сердечным тоном, — подойдите поближе. Вот сюда.
— Ах! Я могу сама подойти к вам. Вам не нужно указывать мне путь! откликнулась она.
— Открыть вам один секрет, Берта?
— Пожалуйста! — с любопытством воскликнула она. Как просветлело ее незрячее лицо! Как внутренний свет озарял ее, когда она вслушивалась в его слова!
— Сегодня тот день, когда эта маленькая… как ее там зовут… эта балованная девчонка, жена Пирибингла, обычно приходит к вам в гости устраивает здесь какую-то нелепую пирушку. Сегодня, так или нет? — спросил фабрикант игрушек тоном, выражавшим глубокое отвращение к подобным затеям.
— Да, — ответила Берта, — сегодня.
— Так я и думал, — сказал Теклтон. — Я сам не прочь зайти к вам.
— Ты слышишь, отец? — воскликнула слепая девушка в полном восторге.
— Да, да, слышу, — пробормотал про себя Калеб, устремив в пространство недвижный взгляд лунатика, — но не верю. Конечно, это обман, вроде тех, что я всегда сочиняю.
— Видите ли, я… я хочу несколько ближе познакомить Пирибинглов с Мэй Филдинг, — объяснил Теклтон. — Я собираюсь жениться на Мэй.
— Жениться! — вскричала слепая девушка, отшатываясь от него.
— Фор-мен-ная идиотка! — пробормотал Теклтон. — Она, чего доброго, не поймет меня. Да, Берта! Жениться! Церковь, священник, причетник, карета с зеркальными стеклами, колокольный звон, завтрак, свадебный пирог, бантики, бутоньерки, трещотки, колокольцы и прочая чепуховина. Свадьба, понимаете? Свадьба. Неужели вы не знаете, что такое свадьба?
— Знаю, — кротко ответила слепая девушка. — Понимаю!
— В самом деле? — буркнул Теклтон. — Это превосходит мои ожидания. Прекрасно! По этому случаю я хочу прийти к вам в гости и привести Мэй с ее матерью. Я вам кое-чего пришлю. Холодную баранью ногу или там еще что-нибудь, посытнее. Вы будете ждать меня?
— Да, — отозвалась она.
Она опустила голову, отвернулась и стояла так, сложив руки и задумавшись.
— Вряд ли будете, — пробормотал Теклтон, взглянув на нее, — вы, должно быть, уже успели все перезабыть. Калеб!
"Вероятно, мне нужно сказать, что я здесь", — подумал Калеб.
— Да, сэр?
— Смотрите, чтобы она не забыла того, что я говорил ей.
— Она ничего не забывает, — ответил Калеб. — Это, пожалуй, единственное, чего она не умеет.
— Всяк, своих гусей принимает за лебедей, — заметил фабрикант игрушек, пожав плечами. — Жалкий старик!
Высказав это замечание чрезвычайно презрительным тоном, старый Грубб и Теклтон удалился.
Берта так задумалась, что не тронулась с места, когда он ушел. Радость покинула ее поникшее лицо, и оно сделалось очень печальным. Раза три-четыре она качнула головой, как бы оплакивая какое-то воспоминание или утрату, но скорбные мысли ее не находили выхода в словах.
Калеб начал потихоньку запрягать пару лошадей в фургон самым несложным способом, то есть попросту приколачивая сбрую к различным частям их тела; только тогда девушка подошла к его рабочей скамейке и, присев рядом с ним, промолвила:
— Отец, мне так грустно во мраке. Мне нужны мои глаза, мои терпеливые, послушные глаза.
— Они тут, — сказал Калеб. — Всегда готовы служить. Они больше твои, чем мои, Берта, и готовы служить тебе в любой час суток, хотя часов этих целых двадцать четыре! Что им сделать для тебя, милая?
— Осмотри комнату, отец.
— Хорошо, — промолвил Калеб. — Сказано — сделано, Берта.
— Расскажи мне о ней.
— Она — такая же, как и всегда, — начал Калеб. — Простенькая, но очень уютная. Стены окрашены в светлую краску, на тарелках и блюдах яркие цветы; дерево на балках и стенной обшивке блестит; комната веселая и чистенькая, как и весь дом; это ее очень украшает.
Веселой и чистенькой она была лишь там, куда Берта могла приложить свои руки. Но во всех прочих углах старой покосившейся конуры, которую Калеб так преображал своей фантазией, не было ни веселых красок, ни чистоты.
— Ты в своем рабочем платье и не такой нарядный, как в красивом пальто? — спросила Берта, дотрагиваясь до него.
— Не такой нарядный, — ответил Калеб, — но все-таки недурен.
— Отец, — сказала слепая девушка, придвигаясь к нему и обвивая рукой его шею, — расскажи мне о Мэй. Она очень красивая?
— Очень, — ответил Калеб.
Мэй и правда была очень красива. Редкий случай в жизни Калеба — ему не пришлось ничего выдумывать.
— Волосы у нее темные, — задумчиво проговорила Берта, — темнее моих. Голос нежный и звонкий, это я знаю. Я часто с наслаждением слушала ее. Ее фигура…
— Ни одна кукла в этой комнате не сравнится с нею, — сказал Калеб. — А глаза у нее!..
Он умолк, потому что рука Берты крепче обняла его за шею, и он со скорбью понял, что значит это предостерегающее движение.
Он кашлянул, постучал молотком, потом снова принялся напевать песню о пенном кубке — верное средство, к которому он неизменно прибегал в подобных затруднениях.
— Теперь о нашем друге, отец, о нашем благодетеле… Ты знаешь, мне никогда не надоедает слушать твои рассказы о нем… Ведь правда? — торопливо проговорила она.
— Ну, конечно, — ответил Калеб. — И это понятно.
— Ах! Да еще как понятно-то! — воскликнула слепая девушка с таким жаром, что Калеб, как ни чисты были его намерения, не решился поглядеть ей в лицо и смущенно опустил глаза, как будто она могла догадаться по ним о его невинном обмане.
— Так расскажи мне о нем еще раз, милый отец, — сказала Берта. — Много, много раз! Лицо у него ласковое, доброе и нежное. Оно честное и правдивое, в этом я уверена! Он так добр, что пытается скрыть свои благодеяния, притворяясь грубым и недоброжелательным, но доброта сквозит в каждом его движении, в каждом взгляде.
— И придает им благородство! — добавил Калеб в тихом отчаянии.
— И придает им благородство! — воскликнула слепая девушка. — Он старше Мэй, отец?
— Д-да, — нехотя протянул Калеб. — Он немного старше Мэй. Но это неважно.
— Ах, отец, конечно! Быть его терпеливой спутницей в немощи и старости; быть его кроткой сиделкой в болезни и верной подругой в страдании и горе; не знать усталости, работая для него; сторожить его сон, ухаживать за ним, сидеть у его постели, говорить с ним, когда ему не спится, молиться за него, когда он уснет, — какое это счастье! Сколько у нее будет поводов доказать ему свою верность и преданность! Она будет делать все это, отец?
— Конечно, — ответил Калеб.
— Я люблю ее, отец! Я чувствую, что могу любить ее всей душой! воскликнула слепая девушка. Она прижалась бедным своим слепым лицом к плечу Калеба, заплакала и плакала так долго, что он готов был пожалеть, что дал ей это счастье, орошенное слезами.
Между тем в доме Джона Пирибингла поднялась суматоха, потому что маленькая миссис Пирибингл, естественно, не могла и помыслить о том, чтобы отправиться куда-нибудь без малыша, а снарядить малыша в путь-дорогу требовало времени. Нельзя сказать, чтобы малыш представлял собой нечто крупное в смысле веса и объема, но возни с ним было очень много, и все надо было проделывать с передышками и не торопясь. Так, например, когда малыш ценою немалых усилий был уже до известной степени одет и можно было бы предположить, что еще одно-два движения — и туалет его будет закончен, а сам он превращен в отменного маленького щеголя, которому сам черт не брат, на него неожиданно нахлобучили фланелевый чепчик и спешно засунули его в постель, где он, если можно так выразиться, парился между двумя одеяльцами добрый час. Затем его, румяного до блеска и пронзительно вопящего, вывели из состояния неподвижности, чтобы предложить ему… что? Так и быть, скажу, если вы позволите мне выражаться общими словами: чтобы предложить ему легкое угощение. После этого он снова заснул. Миссис Пирибингл воспользовалась этим промежутком времени, чтобы скромно принарядиться, и сделалась такой хорошенькой, каких и свет не видывал. В течение той же небольшой передышки мисс Слоубой впихивала себя в короткую кофту самого удивительного и хитроумного покроя — это одеяние не вязалось ни с нею, ни с чем-либо другим во всей вселенной, но представляло собою сморщенный, с загнувшимися углами независимый предмет, который существовал самостоятельно, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. К тому времени малыш снова оживился и соединенными усилиями миссис Пирибингл и мисс Слоубой тельце его было облачено в пелерину кремового цвета, а голова — в своего рода пышный пирог из бязи. И вот в должное время они все трое вышли во двор, где старая лошадь так нетерпеливо перебирала ногами, оставляя на дороге свои автографы, что будь это во время деловой поездки, она, наверное, успела бы с избытком отработать всю сумму пошлин, которые уплатил за день ее хозяин у городских застав, а Боксер смутно маячил вдали и, непрестанно оглядываясь, соблазнял лошадь двинуться в путь, не дожидаясь приказа.
Что касается стула или другого предмета, став на который миссис Пирибингл могла бы влезть в повозку, то вы, очевидно, плохо знаете Джона, если думаете, что такой предмет был нужен. Вы и глазом бы моргнуть не успели, а Джон уже поднял Крошку с земли, и она очутилась в повозке на своем месте, свежая и румяная, и сказала:
— Джон! Как тебе не стыдно! Подумай о Тилли!
Если бы мне разрешили, хотя бы в самых деликатных выражениях, упоминать об икрах молодых девиц, я сказал бы, что в икрах мисс Слоубой таилось нечто роковое, так как они были странным образом подвержены ранениям, и она ни разу не поднялась и не спустилась хоть на один шаг без того, чтобы не отметить этого события ссадиной на икрах, подобно тому как Робинзон Крузо зарубками отмечал дни на своем древесном календаре. Но, возможно, это сочтут не совсем приличным, и потому я не стану пускаться в подобные рассуждения.
— Джон! Ты взял корзину, в которой паштет из телятины и ветчины и прочая снедь, а также бутылки с пивом? — спросила Крошка. — Если нет, сию минуту поворачивай домой.
— Хороша, нечего сказать! — отозвался возчик. — Сама задержала меня на целую четверть часа, а теперь говорит: поворачивай домой!
— Прости, пожалуйста, Джон, — сказала Крошка в большом волнении, — но я, право же, не могу ехать к Берте — и не поеду, Джон, ни в коем случае без паштета из телятины с ветчиной, и прочей снеди, и пива, Стой!
Этот приказ относился к лошади, но та не обратила на него никакого внимания.
— Ох, да остановись же, Джон! — взмолилась миссис Пирибингл. Пожалуйста!
— Когда я начну забывать вещи дома, тогда и остановлюсь, — сказал Джон. — Корзина здесь, в целости и сохранности!
— Какое ты жестокосердое чудовище, Джон, что не сказал этого сразу, ведь я так испугалась! Я бы ни за какие деньги не поехала к Берте без паштета из телятины с ветчиной и прочей снеди, а также без бутылок с пивом, это я прямо говорю. Ведь с тех пор как мы поженились, Джон, мы аккуратно раз в две недели устраиваем у нее маленькую пирушку. А если это у нас разладится, я, право же, подумаю, что мы никогда уже не будем счастливы.
— Ты очень добрая, что с самого начала придумала эти пирушки, — сказал возчик, — и я уважаю тебя за это, женушка.
— Милый Джон, — ответила Крошка, густо краснея, — не надо меня уважать. Вот уж нет!
— Кстати, — заметил возчик, — тот старик…
Опять она смутилась, и так ясно это было видно!
— Он какой-то чудной, — сказал возчик, глядя прямо перед собой на дорогу. — Не могу я его раскусить. Впрочем, не думаю, что он плохой человек.
— Конечно, нет… Я… я уверена, что он не плохой.
— Вот-вот! — продолжал возчик, невольно переводя на нее глаза, потому что она говорила таким тоном, словно была твердо убеждена в своей правоте. Я рад, что ты в этом так уверена, потому что я и сам так думаю. Любопытно, почему он вздумал проситься к нам в жильцы, правда? Это что-то странно.
— Да, очень странно, — подтвердила она едва слышно.
— Однако он очень добродушный старикан, — сказал Джон, — и платит, как джентльмен, и я думаю, что слову его можно верить, как слову джентльмена. Я долго беседовал с ним сегодня утром, — он говорит, что теперь лучше понимает меня, потому что привык к моему голосу. Он много рассказывал о себе, и я много рассказывал ему о себе, и он задал мне кучу всяких вопросов. Я сказал ему, что, как тебе известно, мне приходится ездить по двум дорогам, один день — направо от нашего дома и обратно; другой день — налево от нашего дома и обратно (он нездешний, и я не стал объяснять ему, как называются здешние места), и он этому как будто очень обрадовался. "Так, значит, сегодня вечером я буду возвращаться домой той же дорогой, что и вы, говорит, а я думал, вы поедете в другую сторону. Вот это удача! Пожалуй, я попрошу вас опять подвезти меня, но на этот раз обещаю не засыпать так крепко". А в тот раз он спал действительно крепко, уж это верно!.. Крошка! О чем ты думаешь?
— О чем думаю, Джон? Я… я слушала тебя.
— Ах, так! Прекрасно, — сказал честный возчик. — А я поглядел сейчас на твое лицо и спохватился, что я-то все говорю, говорю, а ты уж, кажется, думаешь о чем-то другом. Спохватился все-таки, честное слово!
Крошка не ответила, и некоторое время они ехали молча. Но нелегко было долго молчать в повозке Джона Пирибингла, потому что каждый встречный на дороге хотел как-то приветствовать семейство возчика. Пусть это было только "здравствуйте" — да зачастую ничего другого и не говорили, — тем не менее ответное сердечное "Здравствуйте" требовало не только кивка и улыбки, но и такого же напряжения легких, как длиннейшая речь в парламенте. Иногда пешие или конные путники некоторое время двигались рядом с повозкой Джона специально для того, чтобы поболтать с ним и Крошкой, и тогда уж разговор завязывался самый оживленный.
Надо сказать, что Боксер лучше всех содействовал этим дружеским разговорам. Ведь благодаря ему возчик издалека узнавал приятелей, а приятели узнавали его.
Боксера знали все, кто встречался по дороге, особенно куры и свиньи, и, завидев, как он бочком подкрадывается, с любопытством насторожив уши и ожесточенно размахивая обрубком хвоста, все встречные немедленно отступали на самые отдаленные задворки, отказываясь от чести познакомиться с ним поближе. Ему до всего было дело — он шмыгал за угол на каждом перекрестке; заглядывал во все колодцы; проникал во все дома; врывался в самую гущу школьниц, вышедших на прогулку; вспугивал всех голубей; устрашал всех кошек, отчего их хвосты пушились и раздувались, и, как завсегдатай, забегал в трактиры. Где бы он ни появился, кто-нибудь обязательно восклицал: "Эй, глядите! Да ведь это Боксер", и этот "кто-нибудь" в сопровождении двух-трех других тотчас выходил на дорогу поздороваться с Джоном Пирибинглом и его хорошенькой женой.
В повозке лежало множество пакетов и свертков, так что приходилось часто останавливаться, чтобы выдавать их и принимать новые. И эти остановки были едва ли не самым приятным развлечением во время путешествия. Одни люди с таким пылким нетерпением ожидали предназначенных им посылок, другие так пылко изумлялись полученным посылкам, третьи с таким пылом и так пространно давали указания насчет посылок, которые отправляли, а Джон так живо интересовался каждой посылкой, что всем было весело, как во время игры. Приходилось везти и такие грузы, о которых надо было подумать и поговорить, извозчик держал совет с отправителями о том, как укладывать и размещать эти посылки; а Боксер, который обычно присутствовал на подобных, совещаниях, то прислушивался к ним в коротком приступе глубочайшего внимания, то носился вокруг собравшихся мудрецов в длительном приступе энергии и лаял до хрипоты. Крошка, свидетельница всех этих маленьких происшествий, с интересом наблюдала за ними со своего места, широко раскрыв глаза и напоминая очаровательный портрет, обрамленный верхом повозки, а молодые люди частенько заглядывались на нее, подталкивая друг друга локтем, шептались и завидовали возчику. Джону это доставляло безмерное удовольствие. Ведь он гордился тем, что его маленькой женушкой так восхищаются, и знал, что сама она не против этого; пожалуй, это ей даже нравится.
Правда, все вокруг заволокло туманом, как тому и подобает бить в январе месяце, а погода стояла холодная и сырая. Но кого могли смутить подобные пустяки? Конечно, не Крошку. И не Тилли Слоубой, считавшую, что ехать в повозке в любую погоду — это предел доступной людям радости и венец всех земных желаний. И не малыша, ручаюсь головой — никакой малыш не мог бы всю дорогу оставаться таким тепленьким и спать так крепко (хотя все младенцы мастера на то и на другое), как спал этот блаженный юный Пирибингл.
Конечно, в тумане нельзя было видеть на большое расстояние, однако удавалось все-таки видеть очень многое! Поразительно, чего только не увидишь и в более густом тумане, если получше присмотреться к окружающему! Да что там — приятно было просто сидеть в повозке и смотреть на "кольца фей" в полях и на иней, еще не растаявший в тени изгородей и деревьев, не говоря уж о том, какие неожиданно причудливые формы принимали деревья, когда выступали из тумана и потом снова скрывались в нем. Живые изгороди с перепутавшимися сучьями растеряли все свои листья, и промерзшие ветви качались на ветру; но они не вызывали уныния. На них было приятно смотреть, потому что при виде их желанный огонь домашнего очага казался еще более горячим, чем он был на самом деле, а зелень будущего лета — еще более яркой. Речка как будто застыла, но она все-таки текла, текла довольно быстро, и то уже было хорошо. Вода в канале скорее ползла, чем текла, и казалась стоячей — это надо признать. Но ничего! Тем скорее она замерзнет, думали все, когда морозная погода установится окончательно, и можно будет кататься по льду на коньках и на санках, а грузные старые баржи, вмерзшие в лед где-нибудь в затоне, будут целыми днями дымить своими заржавленными железными трубами, отдыхая на досуге.
В одном месте пылала большая куча сорной травы или соломы, и путники смотрели на огонь, такой бледный при дневном свете и лишь кое-где прорывающийся вспышками красного пламени; но в конце концов мисс Слоубой заявила, что дым "забивается ей в нос", поперхнулась — что случалось с нею по малейшему поводу — и разбудила малыша, который уже больше не мог заснуть. Теперь Боксер, бежавший на четверть мили впереди, миновал окраину городка и достиг поворота на ту улицу, где жили Калеб с дочерью, так что слепая девушка вышла с отцом из дому навстречу путникам задолго до того, как они подъехали.
Кстати сказать, обращение Боксера с Бертой отличалось кое-какими тонкими оттенками, которые неопровержимо убеждают меня в том, что он знал о ее слепоте. Он никогда не старался привлечь ее внимание, глядя ей в лицо, как делал с другими, но непременно прикасался к ней. Не знаю, кто мог рассказать ему о слепых людях и слепых собаках. Он никогда не жил у слепого хозяина, и, насколько мне известно, ни мистер Боксер-старший, ни миссис Боксер, ни кто-либо другой из почтенных родственников Боксера-младшего с отцовской и материнской стороны не страдал слепотой. Быть может, он сам догадался о том, что Берта слепая; во всяком случае, он как-то чувствовал это и потому теперь поймал ее за юбку и держал в зубах эту юбку до тех пор, пока миссис Пирибингл, малыш, мисс Слоубой и корзина не были благополучно переправлены в дом.
Мэй Филдинг уже пришла, пришла и мать ее, маленькая сварливая старушка с недовольным лицом, которая слыла необычайно важной дамой — по той простой причине, что сохранила талию, тонкую, как кроватный столбик, — и держалась очень по-светски и покровительственно, потому что некогда была богатой или воображала, что могла бы разбогатеть, если бы случилось что-то, чего не случилось и, очевидно, не могло случиться. Грубб и Теклтон тоже находился здесь и занимал общество, явно чувствуя себя так же уютно и в своей стихии, как чувствовал бы себя молодой лосось на вершине Большой египетской пирамиды.
— Мэй! Милая моя подружка! — вскричала Крошка, бросаясь навстречу девушке. — Как я рада тебя видеть!
Подружка была так же рада и довольна, как сама Крошка, и можете мне поверить, что, когда они обнялись, на них было очень приятно смотреть. Теклтон несомненно обладал тонким вкусом — Мэй была прехорошенькая.
Бывает, знаете ли, что вы привыкнете к какому-нибудь хорошенькому личику и вам случится увидеть его рядом с другим хорошеньким личиком; и первое лицо в сравнении со вторым покажется вам тогда некрасивым, увядшим и, пожалуй, не заслуживающим вашего высокого мнения о нем. Но тут этого не случилось, потому что красота Мэй только подчеркивала красоту Крошки, а красота Крошки — красоту Мэй; и это казалось естественным и приятным, и жаль было — чуть не сказал Джон Пирибингл, входя в комнату, — что они не родные сестры, — только этого и оставалось еще пожелать.
Теклтон принес баранью ногу и, ко всеобщему удивлению, еще торт (но маленькая расточительность — не беда, когда дело идет о нашей невесте: ведь женимся мы не каждый день), а вдобавок к этим лакомствам появились паштет из телятины с ветчиной и "прочая снедь", как выражалась миссис Пирибингл, а именно: орехи, апельсины, пирожные и тому подобная мелочь. Когда на стол было поставлено угощение, в том числе и доля участия самого Калеба огромная деревянная миска с дымящимся картофелем (с Калеба взяли торжественное обещание никогда не подавать никаких других яств), Теклтон отвел свою будущую тещу на почетное место. Стремясь к вящему украшению высокоторжественного пиршества, величавая старушка нацепила на себя чепец, долженствовавший внушать благоговейный ужас легкомысленной молодежи. Кроме того, на руках у нее были перчатки. Хоть умри, но соблюдай приличия!
Калеб сидел рядом с дочерью, Крошка — рядом со своей школьной подругой, а славный возчик сел в конце стола. Мисс Слоубой поместили вдали от всякой мебели — кроме того стула, на котором она сидела, — чтоб она ни обо что не могла ушибить голову малыша.
Тилли все время таращила глаза на игрушки и куклы, но и они таращили глаза на нее и всех гостей. Почтенные пожилые джентльмены у подъездов (все они проявляли кипучую деятельность), горячо интересовались собравшимся обществом и потому иногда приостанавливались перед прыжком, как бы прислушиваясь к беседе, а потом лихо перескакивали через палку все вновь и вновь, великое множество раз, не задерживаясь, чтобы перевести дыхание, и, видимо, бурно наслаждаясь всем происходящим.
Если бы эти пожилые джентльмены были склонны злорадствовать при виде разочарования Теклтона, они на этот раз получили бы полное удовлетворение. Теклтону было очень не по себе, и чем больше оживлялась его будущая жена в обществе Крошки, тем меньше ему это нравилось, хотя именно для этого он устроил их встречу. Он был настоящей собакой на сене, этот Теклтон, и когда женщины смеялись, а он не знал — чему, он тотчас забирал себе в голову, что они, наверное, смеются над ним.
— Ах, Мэй! — промолвила Крошка. — Подумать только, до чего все изменилось! Вот поболтаешь о веселых школьных временах и сразу помолодеешь.
— Но ведь вы не так уж стары! — проговорил Теклтон.
— А вы посмотрите на моего степенного, работящего супруга, — возразила Крошка. — Он меня старит лет на двадцать, не меньше. Ведь правда, Джон?
— На сорок, — ответил Джон.
— Не знаю уж, на сколько вы будете старить Мэй! — со смехом сказала Крошка. — Пожалуй, в следующий день ее рождения ей стукнет сто лет.
— Ха-ха! — засмеялся Теклтон. Но смех его звучал пусто, как барабан. И лицо у него было такое, как будто он с удовольствием свернул бы шею Крошке.
— Подумать только! — продолжала Крошка. — Помнишь, Мэй, как мы болтали в школе о том, каких мужей мы себе выберем? Своего мужа я воображала таким молодым, таким красивым, таким веселым, таким пылким! А мужа Мэй!.. Подумать только! Прямо не знаешь, плакать или смеяться, когда вспомнишь, какими мы были глупыми девчонками.
Мэй, очевидно, знала, что делать ей: она вспыхнула, и слезы показались у нее на глазах.
— Иногда мы даже прочили себе кое-кого в женихи — настоящих, не выдуманных молодых людей, — сказала Крошка, — но нам и во сне не снилось, как все выйдет на самом деле. Я никогда не прочила себе Джона, ну нет, я о нем и не думала! А скажи я тебе, что ты выйдешь замуж за мистера Теклтона, да ты бы, конечно, меня побила! Ведь побила бы, а, Мэй?
Мэй, правда, не сказала "да", но во всяком случае не сказала и "нет", да и никаким иным способом не дала отрицательного ответа.
Теклтон захохотал очень громко, прямо-таки загрохотал. Джон Пирибингл тоже рассмеялся, по обыкновению добродушно, с довольным видом, но смех его казался шепотом по сравнению с хохотом Теклтона.
— И, несмотря на это, вы ничего не смогли поделать, вы не смогли устоять против нас, да! — сказал Теклтон. — Мы здесь! Мы здесь! А где теперь ваши молодые женихи?
— Одни умерли, — ответила Крошка, — другие забыты. Некоторые, стой они здесь в эту минуту, не поверили бы, что мы — это мы. Не поверили бы своим ушам и глазам, не поверили бы, что мы могли их забыть. Нет, скажи им об этом кто-нибудь, они не поверили бы ни одному слову!
— Крошка! — воскликнул возчик. — Что это ты так, женушка?
Она говорила так горячо, так страстно, что ее несомненно следовало призвать к порядку. Муж остановил ее очень мягко, ведь ему только хотелось заступиться за старика Теклтона, — так по крайней мере казалось ему самому, — но его замечание подействовало, и Крошка, умолкнув, не сказала ни слова больше. Но даже в ее молчании чувствовалось необычное беспокойство, и проницательный Теклтон, покосившись на нее своим полузакрытым глазом, заметил это и запомнил для каких-то своих целей.
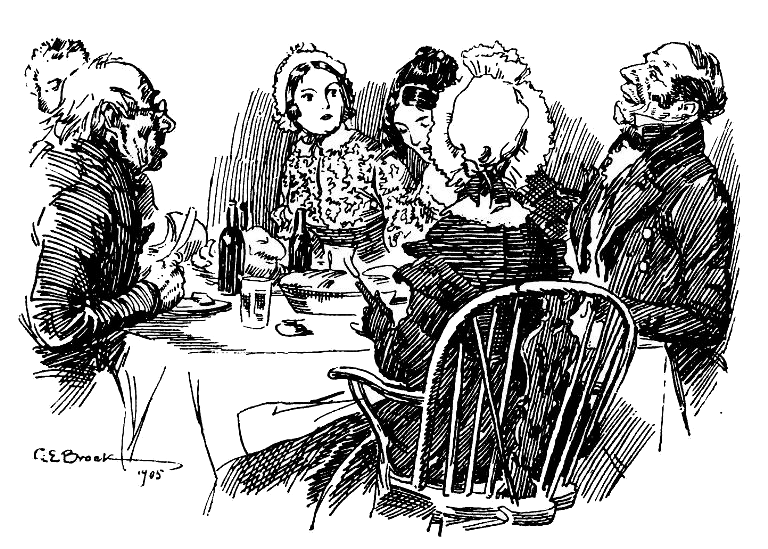
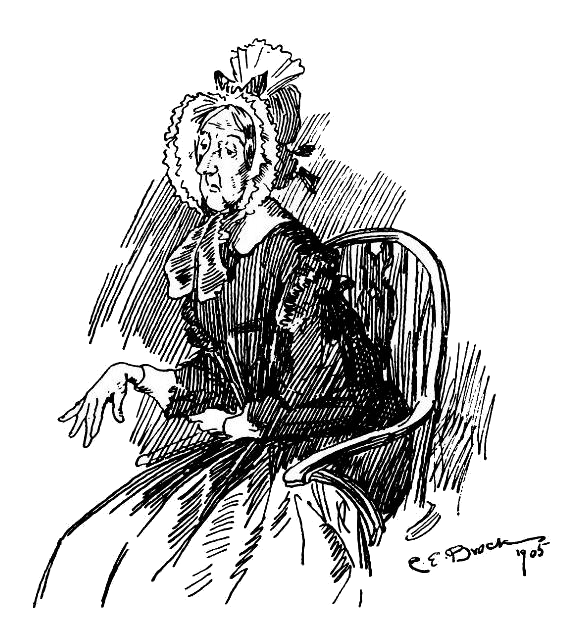
Мэй не вымолвила ни слова, ни хорошего, ни плохого; она сидела очень тихо, опустив глаза и не выказывая никакого интереса ко всему происходящему. Тут вмешалась ее почтенная мамаша, заметив, что, во-первых, девушки по-девичьи и думают, а что было, то прошло, и пока молодые люди молоды и беспечны, они, уж конечно, будут вести себя как молодые и беспечные люди, и к этому добавила еще два-три не менее здравых и неоспоримых суждения. После этого она в порыве благочестия возблагодарила небо за то, что ее дочь Мэй была неизменно почтительной и послушной дочерью, но этого она, мать, не ставит себе в заслугу, хотя имеет все основания полагать, что Мэй стала такой дочерью только благодаря материнскому воспитанию. О мистере Теклтоне она сказала, что в отношении нравственности он безупречен, а с точки зрения годности его для брака он очень завидный зять, в чем не может усомниться ни один разумный человек. (Это она проговорила с большим воодушевлением.) Касательно же семьи, в которую он скоро должен будет войти после того, как долго этого добивался, то мистеру Теклтону известно, — как полагает миссис Филдинг, — что хотя у этой семьи средства ограниченные, но она имеет основания считаться благородной, и если бы некоторые обстоятельства, до известной степени связанные с торговлей индиго — так и быть, она упомянет об этом, но говорить о них более подробно не будет, — если бы некоторые обстоятельства сложились иначе, семья эта, возможно, была бы весьма богатой. Затем она сказала, что не будет намекать на прошлое и упоминать о том, что дочь ее некоторое время отвергала ухаживания мистера Теклтона, а также не будет говорить целого ряда других вещей, которые тем не менее высказала, и весьма пространно. В конце концов она заявила, что опыт и наблюдения привели ее к следующему выводу: те браки, в которых недостает того, что глупо и романтично называют любовью, неизменно оказываются самыми счастливыми, так что она предвидит в грядущем брачном союзе величайшее блаженство для супругов, — не страстное блаженство, но прочное и устойчивое. Речь свою она заключила, оповестив все общество о том, что завтрашний день есть тот день, ради которого она только и жила, а когда он минует, ей останется лишь пожелать, чтобы ее положили в гроб и отправили на кладбище для избранных покойников.
На эти речи отвечать было нечего — счастливая особенность всех речей, не относящихся к делу, — и общество, изменив тему разговора, перенесло свое внимание на паштет из телятины с ветчиной, холодную баранину, картофель и торт. Заботясь о том, чтобы пирующие не забыли про пиво, Джон Пирибингл предложил тост в честь завтрашнего дня — дня свадьбы — и пригласил всех выпить по полному бокалу, до того как сам он отправится в путь.
Надо вам знать, что Джон обычно только отдыхал у Калеба и кормил здесь свою старую лошадь. Ему приходилось ехать дальше, еще четыре или пять миль, а вечером на обратном пути он заезжал за Крошкой и еще раз отдыхал перед отъездом домой. Таков был распорядок дня на всех этих пирушках, с тех пор как они были установлены.
Из числа присутствующих двое, не считая жениха и невесты, отнеслись к его тосту без особого сочувствия. Это были: Крошка, слишком взволнованная и расстроенная, чтобы принимать участие в мелких событиях этого дня, и Берта, которая поспешно встала и вышла из-за стола.
— До свидания! — решительно проговорил Джон Пирибингл, надевая толстое суконное пальто. — Я вернусь в обычное время. До свидания.
— До свидания, Джон! — откликнулся Калеб.
Он произнес это машинально и так же машинально помахал рукой — в это время он смотрел на Берту, и на лице у него застыло тревожное, недоуменное выражение.
— До свидания, малец! — шутливо сказал возчик и, наклонившись, поцеловал спящего ребенка. Тилли Слоубой уже орудовала ножом и вилкой, а своего питомца положила (как ни странно, не ушибив его) в постельку, приготовленную Бертой. — До свидания! Наступит день, так я полагаю, когда ты сам выйдешь на холод, дружок, а твой старик отец останется покуривать трубку и греть свои ревматические кости у очага. Как думаешь? А где Крошка?
— Я здесь, Джон! — вздрогнув, откликнулась та.
— Ну-ка, — заметил возчик, громко хлопнув в ладоши, — где трубка?
— О трубке я забыла, Джон.
Забыла о трубке! Вот так чудеса! Она! Забыла о трубке!
— Я… я сейчас набью ее. Это быстро делается.
Однако сделала она это не очень быстро. Трубка, как всегда, лежала в кармане суконного пальто, вместе со сшитым Крошкой маленьким кисетом, из которого она брала табак; но теперь руки молодой женщины так дрожали, что запутались в завязках (хотя ручки у нее были очень маленькие и, конечно, могли бы высвободиться без труда), и возилась она очень долго. Трубку она набила и зажгла из рук вон плохо; а я-то всегда так расхваливал Крошку за эти маленькие услуги мужу! Теклтон зловеще следил за всей процедурой полузакрытым глазом, и всякий раз как взгляд его встречался со взглядом Крошки (или ловил его, ибо едва ли можно утверждать, что глаз Теклтона встречался когда-нибудь с глазами других людей; лучше сказать, что он был своего рода капканом, перехватывающим чужие взгляды), это чрезвычайно смущало миссис Пирибингл.
— Какая ты сегодня неловкая, Крошка! — сказал Джон. — Откровенно говоря, я сам набил бы трубку лучше тебя.
С этими добродушными словами он вышел, и вскоре целый оркестр в составе Джона, Боксера, старой лошади и повозки заиграл веселую музыку на дороге. Все это время Калеб стоял как во сне, глядя все с тем же растерянным выражением лица на свою слепую дочь.
— Берта! — мягко проговорил Калеб. — Что случилось? Как ты переменилась, милая, и — всего за несколько часов… с сегодняшнего утра. Ты была такой молчаливой и хмурой весь день! Что с тобой! Скажи!
— Ах, отец, отец! — воскликнула слепая девушка, заливаясь слезами. Как жестока моя доля!
Прежде чем ей ответить, Калеб провел рукою по глазам.
— Но вспомни, какой бодрой и счастливой ты была раньше, Берта! Какая ты хорошая, и сколько людей крепко любят тебя!
— Это-то и огорчает меня до глубины сердца, милый отец! Все обо мне так заботятся! Всегда так добры ко мне! Калеб никак не мог понять ее.
— Быть… быть слепой, Берта, милая моя бедняжка, — запинаясь, проговорил он, — большое несчастье, но…
— Я никогда не чувствовала, что это несчастье! — вскричала слепая девушка. — Никогда не чувствовала этого вполне. Никогда! Вот только мне иногда хотелось увидеть тебя, увидеть его — только раз, милый отец, на одну минуточку, — чтобы узнать, какие они, те, кто мне так дорог, — она положила руки на грудь, — и кто хранится здесь! Чтобы узнать их и увериться в том, что я правильно их себе представляю. По временам (но тогда я была еще ребенком) я читала молитвы ночью и плакала при мысли о том, что твой образ и его образ, когда они поднимаются из моего сердца к небесам, может быть, не похожи на вас обоих. Но это горе жило во мне недолго. Оно проходило, и я снова была спокойной и довольной.
— И опять пройдет, — сказал Калеб.
— Отец! О мой добрый, кроткий отец, будь ко мне снисходителен, если я недобрая! — воскликнула слепая девушка. — Не это горе так тяготит меня теперь!
Отец ее не мог сдержать слез; девушка говорила с такой искренностью и страстностью, но он все еще не понимал ее.
— Подведи ее ко мне, — сказала Берта. — Я не могу больше скрывать и таить это в себе. Подведи ее ко мне, отец!
Она догадалась, что он медлит, не понимая ее, и сказала:
— Мэй. Подведи Мэй!
Мэй услышала свое имя и, тихонько подойдя к Берте, дотронулась до ее плеча. Слепая девушка тотчас же повернулась и взяла ее за руки.
— Посмотри мне в лицо, милая моя, дорогая! — сказала Берта. — Прочти его, как книгу, своими прекрасными глазами. Скажи мне — ведь оно говорит только правду, да?
— Да, милая Берта.
Не опуская неподвижного, незрячего лица, по которому быстро текли слезы, слепая девушка обратилась к Мэй с такими словами:
— Всей душой своей, всеми своими мыслями я желаю тебе добра, милая Мэй! Из всех дорогих воспоминаний, какие сохранились в моей душе, ни одного нет дороже, чем память о тех многих-многих случаях, когда ты, зрячая, во всем блеске своей красоты, заботилась о слепой Берте, а это было еще в нашем детстве, если только слепая Берта могла когда-нибудь быть ребенком! Да благословит тебя небо! Да осветит счастье твой жизненный путь! Тем более, милая моя Мэй, — и Берта, придвинувшись к девушке, крепче прижалась к ней, тем более, моя птичка, что сегодня весть о том, что ты будешь его женой, чуть не разбила мне сердце! Отец, Мэй, Мэри! О, простите меня ради всего, что он сделал, чтобы облегчить тоску моей темной жизни, и верьте мне — ведь бог свидетель, что я не могла бы пожелать ему жены, более достойной его!
Тут она выпустила руки Мэй Филдинг и ухватилась за ее платье движением, в котором мольба сочеталась с любовью. Во время своей исповеди она опускалась все ниже и, наконец, упала к ногам подруги и спрятала слепое лицо в складках ее платья.
— Силы небесные! — воскликнул отец, сраженный правдой, которую он теперь узнал. — Неужто я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы под конец разбить ей сердце!
Хорошо было для всех присутствующих, что Крошка, сияющая, услужливая, хлопотливая Крошка (ибо такой она и была при всех своих недостатках, хотя впоследствии вы, быть может, и возненавидите ее), хорошо было для всех присутствующих, говорю я, что Крошка находилась здесь, иначе трудно сказать, чем бы все это кончилось. Но Крошка, овладев собой, вмешалась в разговор, прежде чем Мэй успела ответить, а Калеб вымолвить хоть слово.
— Успокойся, милая Берта! Пойдем со мною! Возьми ее под руку, Мэй. Так! Видите, она уже успокоилась, и какая же она милая, что так заботится о нас, — говорила бодрая маленькая женщина, целуя Берту в лоб. — Пойдем, милая Берта. Пойдем! А добрый отец ее пойдет с нею: правда, Калеб? Ну, конечно!
Да, в подобных случаях маленькая Крошка вела себя поистине благородно, и лишь закоренелые упрямцы могли бы ей противостоять. Заставив бедного Калеба и его Берту уйти в другую комнату, чтобы утешить и успокоить друг друга так, как на это были способны лишь они сами, она вскоре примчалась назад (по пословице, "свежая, как ромашка", но я скажу: еще свежее) и стала на страже около важной особы в чепце и перчатках, чтобы милая старушка ни о чем не догадалась.
— Принеси-ка мне нашего бесценного малыша, Тилли, — сказала Крошка, придвигая стул к очагу, — а пока он будет лежать у меня на коленях, миссис Филдинг расскажет мне, как лучше ухаживать за грудными младенцами, и объяснит всякие вещи, в которых я совершенно не разбираюсь. Не правда ли, миссис Филдинг?
Даже Уэльский великан, который, согласно народному выражению, был такой "простак", что проделал сам над собой роковую хирургическую операцию, подражая фокусу, исполненному во время завтрака его злейшим врагом, — даже этот простодушный великан и тот не попался бы в расставленную ему западню с такой легкостью, как попалась наша старушка в этот хитроумный капкан. Дело в том, что Теклтон к тому времени куда-то вышел, а все остальные минуты две разговаривали, предоставив старушку самой себе, и этого было совершенно достаточно, чтобы она потом целые сутки предавалась размышлениям о своем достоинстве и оплакивала упомянутый таинственный кризис в торговле индиго. Однако столь подобающее уважение к ее опыту со стороны молодой матери было так неотразимо, что, слегка поскромничав, старушка начала самым любезным тоном просвещать собеседницу и, сидя прямо, как палка, против лукавой Крошки, за полчаса перечислила столько верных домашних средств и рецептов, что, если бы их применить, они могли бы прикончить и вконец уничтожить юного Пирибингла, даже будь он младенцем Самсоном.
Желая переменить тему разговора, Крошка занялась шитьем (она носила в кармане содержимое целой рабочей корзинки, но как ей это удавалось, я не знаю), потом понянчила ребенка, потом еще немного пошила, потом немного пошепталась с Мэй (в то время как почтенная старушка дремала) и, таким образом, занятая по своему обыкновению то тем, то другим, даже не заметила, как прошел день. А когда стемнело и пришла пора выполнить один важный пункт устава этих пирушек а именно: взять на себя хозяйственные обязанности Берты, Крошка помешала огонь, вымела очаг, накрыла стол к чаю, опустила занавеску и зажгла свечу. Потом она сыграла одну-две песни на самодельной арфе, которую Калеб смастерил для Берты, и сыграла прекрасно, потому что природа так устроила ее нежные маленькие ушки, что они были в дружбе с музыкой, как подружились бы и с драгоценными серьгами, если бы подобные серьги у Крошки были. Тем временем пробил час, назначенный для чаепития, и Теклтон вернулся, намереваясь принять участие в трапезе и общей беседе.
Калеб с Бертой незадолго перед тем возвратились, и Калеб сел за вечернюю работу. Но бедняга не мог сосредоточиться на ней, так тревожился он за дочь и так терзался угрызениями совести. Жаль было смотреть, как он сидел, праздный, на своей рабочей скамейке, грустно глядя на Берту, а лицо его, казалось, говорило: "Неужто я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы под конец разбить ей сердце?"
Когда же наступил вечер и чаепитие кончилось, а Крошка уже успела перемыть все чашки и блюдца, короче говоря (я все-таки должен перейти к этому — откладывать бесполезно), когда подошло время возчику вернуться, а всем — прислушиваться к любому отдаленному стуку колес, она снова переменилась: она то краснела, то бледнела и очень волновалась. Но не так, как волнуются примерные жены, прислушиваясь, не идут ли их мужья. Нет, нет и нет! Это было совсем другое волнение.
Стук колес. Топот копыт. Лай собаки. Звуки постепенно приближаются. Боксер царапает лапой дверь!
— Чьи это шаги? — вскрикнула Берта, вскочив с места.
— Чьи шаги? — отозвался возчик, стоя в дверях; загорелое лицо его было красно от резкого ночного ветра, словно ягода остролиста. — Мои, конечно!
— Другие шаги! — сказала Берта. — Шаги человека, что идет за вами!
— Ее не проведешь, — со смехом заметил возчик. — Входите, сэр. Вас примут радушно, не бойтесь!
Он говорил очень громко, и тут в комнату вошел глухой джентльмен.
— Вам он немножко знаком, Калеб, вы его один раз видели, — сказал возчик. — Вы, конечно, позволите ему передохнуть здесь, пока мы не тронемся в путь?
— Конечно, Джон, пожалуйста!
— Вот при ком совершенно безопасно говорить секреты, — сказал Джон. — У меня здоровые легкие, но можете мне поверить, трудненько им приходится, когда я с ним говорю. Садитесь, сэр! Все здесь — ваши друзья и рады видеть вас!
Сделав это заверение таким громким голосом, что не приходилось сомневаться в том, что легкие у него и впрямь здоровые, Джон добавил обычным тоном:
— Все, что ему нужно, это кресло у очага — будет себе сидеть и благодушно посматривать по сторонам. Ему угодить легко.
Берта напряженно прислушивалась к разговору. Когда Калеб подвинул гостю кресло, она подозвала отца к себе и тихо попросила описать наружность посетителя. Отец исполнил ее просьбу (на этот раз, не погрешив против истины — описание его было совершенно точным), и тогда она впервые после прихода незнакомца пошевельнулась, вздохнула и, по-видимому, перестала им интересоваться.
Добрый возчик был в прекрасном расположении духа и больше чем когда-либо влюблен в свою жену.
— Нынче Крошка была нерасторопная! — сказал он, становясь рядом с нею, поодаль от остальных, и обнимая ее здоровенной рукой. — И все-таки я почему-то люблю ее. Взгляни туда, Крошка!
Он показал пальцем на старика. Она опустила глаза. Мне кажется, она задрожала.
— Он — ха-ха-ха! — он в восторге от тебя! — сказал возчик. — Всю дорогу ни о чем другом не говорил. Ну, что ж, он славный старикан. За то он мне и нравится.
— Желала бы я, чтобы он подыскал себе лучший предмет для восхищения, проговорила она, беспокойно оглядывая комнату, а Теклтона в особенности.
— Лучший предмет для восхищения! — жизнерадостно вскричал Джон. — Но такого не найдется. Ну, долой пальто, долой толстый шарф, долой всю теплую одежду, — и давайте уютно проведем полчасика у огонька! Я к вашим услугам, миссис. Не хотите ли сыграть со мной партию в криббедж? Вот и прекрасно! Крошка, карты и доску! И стакан пива, женушка, если еще осталось.
Приглашение поиграть в карты относилось к почтенной старушке, которая приняла его весьма милостиво и с готовностью, и они вскоре занялись игрой. Вначале возчик то и дело с улыбкой оглядывался вокруг, а по временам, в затруднительных случаях, подзывал к себе Крошку, чтобы она заглянула ему через плечо в карты, и советовался с нею. Но его противница настаивала на строгой дисциплине в игре и вдобавок частенько поддавалась свойственной ей слабости — втыкать в доску больше шпеньков, чем ей полагалось, а все это требовало с его стороны такой бдительности, что он уже ничего другого не видел и не слышал. Таким образом, карты постепенно поглотили все внимание Джона, и он ни о чем другом не думал, как вдруг чья-то рука легла на его плечо, и, вернувшись к действительности, он увидел Теклтона.
— Простите за беспокойство… но прошу вас… на одно слово. Немедленно!
— Мне ходить, — ответил возчик. — Решительная минута!
— Это верно, что решительная, — сказал Теклтон. — Пойдемте-ка!

В лице его было нечто такое, что заставило возчика немедленно встать и поспешно спросить, в чем дело.
— Тише! — сказал Теклтон. — Джон Пирибингл, все это очень огорчает меня. Искренне огорчает. Я опасался этого. Я с самого начала подозревал это.
— Что такое? — спросил возчик испуганно.
— Тише! Пойдемте, и я вам покажу.
Возчик последовал за ним, не говоря ни слова. Они пересекли двор под сияющими звездами и через маленькую боковую дверь прошли в контору Теклтона, где было оконце, которое выходило в склад, запертый на ночь. В конторе было темно, но в длинном, узком складе горели лампы, и потому оконце было ярко освещено.
— Одну минуту! — проговорил Теклтон. — Вы можете заглянуть в это окно, как вы думаете?
— Почему же нет? — спросил Джон.
— Еще минутку! — сказал Теклтон. — Не применяйте насилия. Это бесполезно. И это опасно. Вы сильный человек и не успеете оглянуться, как совершите убийство.
Возчик взглянул ему в лицо и отпрянул назад, как будто его ударили. Одним прыжком он очутился у окна и увидел…
О тень, омрачившая домашний очаг! О правдивый сверчок! О вероломная жена!
Джон увидел ее рядом со стариком, но это был уже не старик — он держался прямо, молодцевато, и в руках у него был парик с седыми волосами, при помощи которого он проник в осиротевший теперь, несчастный дом. Джон увидел, что Крошка слушает незнакомца, а тот наклонил голову и шепчет ей что-то на ухо; и она позволила ему обнять ее за талию, когда они медленно направлялись по тускло освещенной деревянной галерее к двери, через которую вошли. Он увидел, как они остановились, увидел, как она повернулась (это лицо, которое он так любил, в какой страшный час довелось Джону смотреть на него!), увидел, как обманщица своими руками надела парик на голову спутника и при этом смеялась над доверчивым мужем!
В первый миг он сжал в кулак могучую правую руку, точно готовясь свалить с ног льва. Но сейчас же разжал ее и заслонил ладонью глаза Теклтону (ибо он все еще любил Крошку, даже теперь), а когда Крошка и незнакомец ушли, ослабел, как ребенок, и рухнул на конторский стол.
Закутанный до подбородка, он потом долго возился с лошадью и с посылками, и вот, наконец, Крошка, готовая к отъезду, вошла в комнату.
— Едем, милый Джон! Спокойной ночи, Мэй! Спокойной ночи, Берта.
Как могла она расцеловаться с ними? Как могла она быть радостной и веселой при прощании? Как могла смотреть им в лицо, не краснея? Оказывается, могла. Теклтон внимательно наблюдал за нею, и она все это проделала.
Тилли, укачивая малыша, раз десять прошла мимо Теклтона, повторяя сонным голосом:
— Значит, вести о том, что они будут их женами, чуть не разбили им сердце, и, значит, отцы обманывали их с колыбелей, чтобы под конец разбить им сердца!
— Ну, Тилли, давай мне малыша! Спокойной ночи, мистер Теклтон. А где Джон, куда же он запропастился?
— Он пойдет пешком, поведет лошадь под уздцы, — сказал Теклтон, подсаживая ее в повозку.
— Что ты выдумал, Джон? Идти пешком? Ночью?
Закутанный возчик торопливо кивнул, а коварный незнакомец и маленькая нянька уже уселись на свои места, и старая лошадка тронулась. Боксер, ни о чем не подозревающий Боксер, убегал вперед, отбегал назад, бегал вокруг повозки и лаял торжествующе и весело, как всегда.
Теклтон тоже ушел — провожать Мэй и ее мать, а бедный Калеб сел у огня рядом с дочерью, встревоженный до глубины души, полный раскаяния, и, грустно глядя на девушку, твердил про себя: "Неужто я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы под конец разбить ей сердце!"
Игрушки, которые были заведены ради забавы малыша, давно уже остановились, так как завод их кончился. В этой тишине, освещенные слабым светом, невозмутимо спокойные куклы, борзые кони-качалки с выпученными глазами и раздутыми ноздрями, пожилые джентльмены с подгибающимися коленями, стоящие скрючившись у подъездов, щелкунчики, строящие рожи, даже звери, попарно шествующие в ковчег, точно пансионерки на прогулке, — все они как будто оцепенели от изумления; неужели могло так случиться, что Крошка оказалась неверной, а Теклтон любимым!
Назад: ПЕСЕНКА ПЕРВАЯ
Дальше: ПЕСЕНКА ТРЕТЬЯ

