Книга: Чарльз Диккенс. Собрание сочинений в 30 томах. Том 28
Назад: ПАМЯТИ У. М. ТЕККЕРЕЯ
Дальше: РЕЧИ
ИГРА МИСТЕРА ФЕХТЕРА
Замечательный актер, чье имя стоит в заголовке, намеревается покинуть Англию для гастролей в Соединенных Штатах. Я хотел бы надеяться, что несколько слов о его талантах прежде, чем он сам докажет американским зрителям, насколько мои похвалы соответствуют истине, могут показаться небезынтересными для некоторых читателей, и я верю, что они не будут неприятны моему близкому другу. Я спешу упомянуть о моей дружбе с мистером Фехтером не только потому, что он действительно мой друг, но и потому, что она родилась из моего восхищения его игрой. Я внимательно следил за его выступлениями на подмостках как парижских, так и лондонских театров и был его горячим поклонником задолго до того, как мы обменялись хотя бы одним словом. Следовательно, я восхищаюсь им не потому, что он мой друг, но он стал моим другом потому, что я им восхищаюсь.
Первое, что отличает игру мистера Фехтера, — это ее высокая романтичность. Вместе с тщательной отделкой мельчайших деталей в ней всегда чувствуется какая-то особая сила и энергия, словно наполняющие весь спектакль новой жизнью. Когда он на сцене, мне кажется, что все события происходят в первый и в последний раз. Играя влюбленного, он полон такого пыла, так упоен своей страстью, что она словно окутывает сиянием ту, к которой обращено его чувство, и зрители невольно видят ее такой, какой она представляется ему. Именно благодаря этой замечательной способности он покорил Пария; и прославился в роли любовника в «Даме с камелиями», это, собственно говоря, роль, сводящаяся к двум большим сценам, но он так сыграл ее (он был первым ее истолкователем), что она до конца пьесы придавала образу героини возвышенную поэтичность. Женщина, способная вызвать такую любовь, такое преданное возвышенное обожание, невольно покоряла зрителей так, как никогда не покорила бы, не вызови она в этом сердце столь всепоглощающего и совершенного чувства. Когда я в первый раз увидел «Даму с камелиями» с мистером Фехтером, моя снисходительность к героине объяснялась тем, что я своими глазами видел, какую необычайно трогательную любовь могла она зажечь. Я, словно ребенок, убеждал себя: «Дурная женщина не могла бы быть предметом столь удивительной нежности, не могла бы покорить такое сердце, не могла бы вызвать таких слез у такого влюбленного». То же самое, по-моему, осознанно или бессознательно, ощущали все парижские зрители, и именно поэтому то, что шокирует в «Даме с камелиями», исчезло в лучах романтического ореола. Мне довелось увидеть ту же пьесу, когда эта роль игралась иначе, и по мере того как любовь становилась все более скучной и земной, героиня все ниже спускалась со своего пьедестала.
В «Рюи Блазе», в «Хозяине Равенсвуда» и в «Лионской красавице» в трех драмах, в которых мистер Фехтер с особенным блеском играет влюбленного, а больше всего в первой. — это замечательное уменье заставлять публику видеть в его возлюбленной ту же прелесть, которую видит в ней он, проявляется особенно ярко. Когда Рюи Блаз стоит перед молодой королевой Испании, самый воздух, кажется, исполнен чар, а когда она склоняется над ним, нежно прикладывая руку к его окровавленной груди, — кто сможет остаться равнодушным и не почувствовать, что смерть лучше разлуки с ней и что она достойна того, чтобы за нее так умирали? Когда хозяин Равенсвуда признается в любви Люси Эштон и, услышав ее ответное признание, в порыве восторга целует край ее платья, мы чувствуем, что это мы касаемся губами легкой ткани, чтобы удержать нашу богиню, не дать ей вознестись на небеса. А когда они обмениваются клятвой верности и разламывают золотую монету, это мы, а не Эдгар, быстро подменяем свою половинку половинкой, которую она хотела повесить себе на шею, потому что этот кусочек золота на мгновение коснулся обожаемой груди. И то же в «Лионской красавице»: картина на мольберте в бедной хижине художника из незаконченного портрета надменной девушки становится наброском высших устремлений души, воплощением ее надежд здесь, на земле, и там, в ином мире.
Живописность — вот что в первую очередь отличает образы, создаваемые мистером Фехтером. Искусный художник и скульптор, знаток истории костюма, он и в этом тоже романтик и обладает тонким чувством композиции — он всегда занимает наиболее правильное место в группе, всегда гармонирует с фоном. Эта живописность манеры проглядывает даже в таком, казалось бы, простом жесте, как движение руки в «Рюи Блазе», когда он из окна подзывает человека, находящегося внизу во дворе; и в том, как он надевает ливрею в этой же сцене, или в том, как он пишет письмо под диктовку. В последней сцене чудесной драмы Виктора Гюго его игра становится поистине вдохновенной; а поза палача, которую он внезапно принимает, обличая маркиза и отказываясь драться с ним, на мой взгляд, один из наиболее яростно живописных приемов, какие только может допустить сцена.
Слово «яростно» напоминает мне о том, что мистер Фехтер — поистине мастер самых бурных страстей. В этом, мне кажется, более, чем в чем-либо, проявляется любопытное соединение характерных черт двух великих наций французов и англосаксов. Мать мистера Фехтера была француженкой, отец немцем, но он родился в Лондоне и детство и юность свою провел в Англии и во Франции. И поэтому в его гневе соединяется французская экспансивность с нашей более сдержанной англосаксонской манерой вести себя, когда нас, как мы выражаемся, «сильно задели», — и это смешение порождает поистине нечто невероятное. В этом чувстве смешиваются особенности двух рас, и трудно сказать, чем именно оно обязано каждой из них, но зато можно сказать, что это наиболее сильная концентрация страстей и эмоций, свойственных человеческой натуре.
Мистеру Фехтеру, в общем, чаще приходилось говорить по-французски, чем по-английски, и поэтому он говорит по-английски с французским акцентом. Но очень ошибется тот, кто решит, что он не умеет говорить по-английски бегло, правильно, четко, понимая и чувствуя смысл, значение и оттенок каждого слова. И он не только знает все тонкости нашего языка, включая самые сочные обороты народного языка, гораздо лучше многих из нас, но декламирует белые стихи Шекспира с удивительной легкостью, музыкальностью и выразительностью. Люди, знакомые с ним, знают, что, слушая его, можно не опасаться того своеобразного смущения, которое мы иной раз испытываем, когда на нашем родном языке говорит иностранец, — наоборот, чувствуется, что любое сказанное им слово он мог бы, если бы захотел, заменить двадцатью синонимами.
Еще несколько замечаний о двух его шекспировских ролях, и пожалуй, мне больше не стоит предварять ваши впечатления от игры мистера Фехтера — она будет говорить сама за себя. Его Яго особенно отличается упомянутой выше живописностью, и в то же время мера соблюдена о такой строгостью, что этот Яго совсем лишен традиционной живописности — он не хмурится, не улыбается с дьявольской язвительностью и не проделывает множества других вещей, которые принудили бы Отелло проткнуть его насквозь еще в первом действии. Яго мистера Фехтера умеет приобретать друзей — и приобретает их; он анатомирует душу своего генерала, не размахивая при этом скальпелем, словно тростью; он покорил Эмилию отнюдь не угрюмостью, достойной вывески «Сарацинова Голова»; он — веселый собутыльник и не отпугивает своих застольных товарищей зловещими телодвижениями; он умеет и спеть веселую песню, и произнести тост, и заколоть человека темной ночью, вместо того чтобы всем своим видом заранее оповещать, что только и ищет, кого бы пырнуть кинжалом. Яго мистера Фехтера так же не похож на традиционного злодея, как его одежда — на традиционный гусарский мундир и сапоги; и вы убедитесь, что живописность его манеры одеваться соответствует его манере держаться на протяжении всей трагедии, до той самой минуты, когда он умолкает раз и навсегда.
Пожалуй, ни одно новое слово в искусстве еще не принималось с такой доброжелательностью столькими ценителями, предубежденными в пользу совсем другой школы, как Гамлет мистера Фехтера. Я считаю, что это было так (а в Лондоне это было именно так!) не из-за живописности подобного толкования роли, не из-за новизны, не из-за множества отдельных красот исполнения, а из-за его безупречной логичности. Некий художник-анималист сказал о своей любимой картине с кроликами, что в этих кроликах куда больше естественности, чем у обычных кроликов; точно так же о Гамлете мистера Фехтера можно сказать, что в этом Гамлете куда больше логичности, чем у обычных Гамлетов. Главное и редкое достоинство этого оригинального толкования заключается в том, что оно представляет собой совершенное воплощение ясного и четкого замысла. С той минуты, когда появляется этот сломанный «чекан изящества, зерцало вкуса», бледный, без конца оплакивающий смерть отца, уже смутно подозревая ее причину, и до последней борьбы с Горацио из-за рокового кубка, ничто не нарушает цельности характера, создаваемого мистером Фехтером. Немецкий трагик Дефринт несколько лет тому назад произвел немалый фурор на лондонской театральной голубятне тем, что во время сцены с актерами сидел, и еще несколькими столь же скромными отступлениями от традиций; однако он носил все тот же маловыразительный костюм и в главном придерживался все той же традиционной трактовки, балансируя между здравым рассудком и безумием. Не помню, был ли на нем парик с короткими, круто завитыми кудрями, словно он собирался на вечный танцевальный урок при датском дворе, но зато я твердо помню, что все другие Гамлеты со времен великого Кембла волей-неволей обзаводились такими кудрями. Гамлет мистера Фехтера, бледный, грустный северянин с длинными льняными волосами, в странном одеянии, какого еще не видела английская сцена (во всяком случае, в этой трагедии), пиратски уничтожающий целый флот всяческих мелких театральных рецептов — вполне бессмысленных или, наподобие знаменитого друга доктора Джонсона, имеющих всего одну идею, да и ту неправильную, — этот Гамлет мог снискать такой необычайный успех только потому, что образ его с начала и до конца был подчинен единой всепроникающей цели, которая логически оправдывала любое отступление от традиций. Такое развитие характера нашло особенно яркое воплощение в сценах с Офелией, в сцене смерти Полония, в изображении старой студенческой дружбы Гамлета и Горацио; разница между мизансценой, эффектной ради самого эффекта, и мизансценой, служащей раскрытию внутреннего смысла происходящего, становится особенно понятной, когда в сцену «мышеловки» вводится галерея с музыкантами, проходящими затем с инструментами в руках мимо Гамлета, который берет у одного из них флейту, столь важную для его разговора с Розенкранцем и Гильденстерном.
Это дает возможность перейти к наблюдению, которым я с самого начала предполагал заключить свою статью, а именно: романтизм и живописность у мистера Фехтера всегда идут рука об руку с истинно художественным чутьем и истинно художественным умом, сформировавшимся под влиянием истинно художественного духа. Он вступил в труппу «Театр Франсэ» еще совсем юным, и его природные дарования развивались в самых лучших школах. Я не могу пожелать моему другу публики лучше той, которую он найдет в американцах, а им я не могу пожелать актера лучше того, которого они найдут в моем друге.
Август 1869 г.
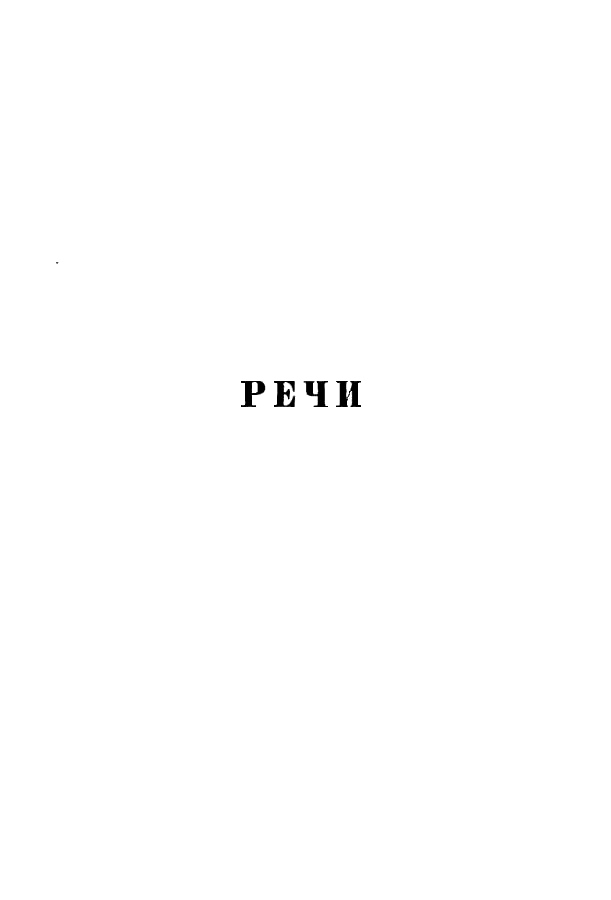
Назад: ПАМЯТИ У. М. ТЕККЕРЕЯ
Дальше: РЕЧИ

