Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 23. Графиня де Шарни. Часть. 4,5,6
На главную: Предисловие
Дальше: VII КРЕСТНЫЙ ПУТЬ (Продолжение)
Александр Дюма
Графиня де Шарни
Часть четвертая
I
НЕНАВИСТЬ ПРОСТОЛЮДИНА
Оставшись наедине, оба собеседника с минуту смотрели друг на друга в упор, но дворянину так и не удалось заставить простолюдина опустить глаза.
Более того, Бийо заговорил первым:
— Господин граф оказал мне честь, сообщив, что желает со мной поговорить. Я жду, что он соблаговолит сказать.
— Бийо, — спросил Шарни, — как могло случиться, что я встречаю вас здесь, да еще с миссией мстителя? Я считал вас нашим другом, другом людей благородного происхождения, а также добрым и верным подданным его величества.
— Я и был добрым и верным подданным короля, господин граф, вам же я был не то чтобы другом — это слишком большая честь для бедного фермера вроде меня, — но покорным слугой.
— Так что же?
— Да как видите, господин граф, я перестал всем этим быть.
— Я вас не понимаю, Бийо.
— Зачем меня понимать, господин граф? Разве я у вас спрашиваю, почему вы сохраняете верность королю и преданность королеве? Нет, я допускаю, что у вас есть причины, чтобы поступать таким образом, и так как вы человек честный и умный, то и ваши соображения должны быть таковыми, или, по крайней мере, вы поступаете по совести. У меня нет вашего высокого положения, господин граф, и я не обладаю столь же обширными знаниями, как вы, однако вы считаете или считали меня человеком честным и тоже неглупым! Почему вам не допустить, что у меня, как и у вас, есть свои причины и что я поступаю если и не очень мудро, то уж, во всяком случае, по совести?
— Бийо, — сказал Шарни, не догадываясь о том, что у фермера могли быть основания для ненависти к знати и королевской власти, — я знал вас, и не так уж давно, совсем другим человеком.
— А я этого и не отрицаю, — с горькой усмешкой отозвался Бийо, — да, вы знали меня не таким, какой я сейчас; скажу вам, кем я был, господин граф: я был истинным патриотом, преданным королю, господину Жильберу и родной стороне. И вот однажды ищейки короля — признаюсь вам, с этого и началась моя размолвка с ним, — покачав головой, прибавил фермер, — однажды ищейки короля явились ко мне и наполовину силой, наполовину пользуясь внезапностью, отняли у меня ларец — драгоценную вещь, доверенную мне на хранение доктором Жильбером. Освободившись, я поспешил в Париж и вечером тринадцатого июля очутился прямо в толпе мятежников — они несли бюсты герцога Орлеанского и господина Неккера и кричали: «Да здравствует герцог Орлеанский! Да здравствует господин Неккер!» Это не причиняло королю особого вреда, однако вдруг нас атаковали королевские солдаты. На моих глазах бедняки, виновные только в том, что кричали «да здравствует» двум людям, которых они, может статься, и знать не знали, падали вокруг меня: одни — с раскроенным сабельным ударом черепом, другие — с пробитой пулями грудью; я видел, как господин де Ламбеск, один из друзей короля, гнал по Тюильрийскому саду женщин и детей — они вообще ничего не кричали — и как его конь топтал семидесятилетнего старика. Это меня еще больше поссорило с королем. На следующий день я пришел в пансион к юному Себастьену и узнал от бедного мальчика, что его отца отправили в Бастилию по приказу короля, которого попросила об этом какая-то придворная дама! Я опять сказал себе: хоть и утверждают, что король очень добр, но и у него бывают временами серьезные заблуждения, когда он чего-то не знает или попросту что-то забыл; надо было поправить, как я это понимал, одну из ошибок, допущенных королем по забывчивости или по незнанию, и я сделал все, что было в моих силах, для взятия Бастилии. И вот мы пробились туда, а это было не так-то просто: в нас стреляли солдаты короля, погибло сотни две или около того наших; итак, я опять имел случай не согласиться с общим мнением, что король очень добр; но наконец Бастилия была взята, и в одном из казематов я нашел господина Жильбера — ради него я раз двадцать рисковал жизнью, — и радость от встречи с ним заставила меня забыть о многом. Впрочем, господин Жильбер первым заговорил о том, как добр король, ведь король не знал обо всех мерзостях, творимых его именем, и, значит, ненависти был достоин не он, а его министры, а так как все, что говорил мне господин Жильбер, не вызывало у меня в те времена ни малейших сомнений, я поверил ему. Увидев, что Бастилия взята, господин Жильбер свободен, а мы с Питу целы и невредимы, я позабыл о пальбе на улице Сент-Оноре, о кавалерийских атаках в Тюильри, о двухстах парижанах, убитых «волынками» господина принца Саксонского, о взятии под стражу господина Жильбера только потому, что это заблагорассудилось придворной даме… Впрочем, простите, господин граф! — вдруг прервал свою речь Бийо. — Все это не имеет к вам никакого отношения, и вы хотели поговорить со мной с глазу на глаз совсем не для того, чтобы выслушивать, как переливает из пустого в порожнее простой и темный крестьянин, ведь вы же знатный вельможа и ученый человек.
И Бийо, взялся было за ручку двери, собираясь возвратиться в комнату короля.
Однако Шарни его остановил.
Для этого были две причины.
Во-первых, он из разговора мог узнать, почему Бийо так враждебно настроен, а при сложившихся обстоятельствах это было немаловажно; во-вторых, необходимо было выиграть время.
— Нет! — воскликнул граф. — Расскажите мне все, дорогой Бийо; вы же знаете, что и я, и мои бедные братья дружески к вам расположены, и потому мне чрезвычайно интересно то, о чем вы говорите.
Услышав слова «моя бедные братья», Бийо горько усмехнулся.
— Ну так и быть, — согласился он, — скажу вам все, господин де Шарни, и я очень жалею, что ваших бедных братьев… особенно одного… господина Изидора… здесь нет и они меня не услышат.
Бийо подчеркнул эти слова: «Особенно одного, господина Изидора», и Шарни, стараясь не выдать скорбь, которой отзывалось в его душе имя любимого брата, ничего не ответил Бийо, не имевшему, видимо, понятия о несчастье, случившемся с младшим Шарни, о чьем отсутствии тот сожалел. Граф сделал ему знак продолжать.
Бийо продолжал:
— Когда король отправился в Париж, я воспринял это как возвращение отца к своим детям. Я шел вместе с господином Жильбером рядом с королевской каретой, прикрывая собой сидевших в ней людей, и кричал изо всей силы: «Да здравствует король!» То было первое путешествие короля; повсюду: вокруг него, впереди, позади, на дороге, под копытами его лошадей, под колесами его кареты — были цветы, отовсюду доносились благословения. Когда карета прибыла на Ратушную площадь, тут-то все и заметили, что у короля нет больше белой кокарды, но нет еще и трехцветной. Когда в толпе закричали: «Кокарду!
Кокарду!», я снял кокарду со своей шляпы и отдал королю; он поблагодарил меня и прикрепил ее к своей шляпе под приветственные возгласы толпы. Я был опьянен радостью при виде своей кокарды на шляпе нашего доброго короля и громче всех кричал: «Да здравствует король!», я так был воодушевлен, что остался в Париже. Мой урожай погибал на корню и требовал моего присутствия; но — Бог мой! — какое мне было дело до урожая! Я был достаточно богат, чтобы пожертвовать урожаем одного года, и если я мог быть хоть чем-то полезен доброму королю, отцу народа, восстановителю французской свободы — как мы, глупцы, называли его тогда, — я скорее был готов остаться в Париже, чем возвратиться в Пислё; урожай, который я поручил заботам Катрин, был почти полностью потерян: у Катрин, насколько я понимаю, были дела поважнее… Ну, ладно, не будем об этом! Тем временем в Париже стали поговаривать, что король принимал революцию без особой любви к ней, что он вступал в нее под действием силы, по принуждению; говорили, что он с большим удовольствием нацепил бы на свою шляпу не трехцветную, а белую кокарду. Те, что говорили так, оказались клеветниками, что вскоре стало явным во время обеда господ гвардейцев, когда королева не надела ни трехцветной, ни белой кокарды, ни революционной кокарды, ни традиционной французской! Она попросту остановила свой выбор на кокарде своего брата Иосифа Второго, на австрийской кокарде, на черной кокарде! Ага! Признаться, на сей раз в моей душе снова зашевелились сомнения, однако господин Жильбер сказал: «Бийо! Это дело рук не короля, а королевы; королева — женщина, а к женщинам нужно быть снисходительным!» И я ему поверил, да так искренне, что когда народ пришел из Парижа с целью захватить дворец, то, хоть я в глубине души и считал правыми наступавших, я встал на сторону тех, кто защищал короля, ведь именно я поспешил разбудить господина де Лафайета, который, по счастью, был дома и крепко спал, бедняга; я привел его во дворец как раз вовремя, чтобы спасти короля. О! В тот день я видел, как мадам Елизавета сжимала в объятиях господина де Лафайета, я видел, как королева подала ему для поцелуя руку, я слышал, как король называл его своим другом; тогда я подумал: «Клянусь честью, господин Жильбер был прав! Уж, конечно, не из страха король, королева и принцесса крови выказывали этому человеку такую дружбу; даже если они и не разделяли его образ мыслей, несмотря на то что этот человек был им весьма полезен в данную минуту, то все равно три такие важные персоны не унизились бы до обмана». И снова я пожалел бедняжку-королеву, ведь она всего-навсего неосмотрительная женщина, и бедного короля, проявившего слабость; я отпустил их одних в Париж… Я-то был занят в Версале; вы знаете, чем я был занят, господин Шарни?
Граф вздохнул.
— Говорят, что второе путешествие короля было не столь веселым, как первое, — продолжал Бийо. — Говорят, что, вместо благословений, на короля сыпались проклятия! Вместо здравиц, отовсюду неслись угрозы! Вместо букетов под копытами лошадей и под колесами кареты, его путь был украшен отрезанными головами, поднятыми на острия пик! Мне об этом ничего не известно, меня там не было, я остался в Версале. Я бросил ферму без присмотра! Ба! Да я был достаточно богат, чтобы, потеряв урожай тысяча семьсот восемьдесят девятого года, махнуть рукой и на урожай года девяностого! Но в одно прекрасное утро пришел Питу и сообщил: я вот-вот могу лишиться того, что дороже всего любому отцу, — своей дочери!
Шарни вздрогнул.
Бийо пристально посмотрел на Шарни и продолжал:
— Надобно вам сказать, господин граф, что в одном льё от нас, в Бурсонне, проживает одно благородное семейство, семейство знатных и очень богатых вельмож. В семье было три брата. Когда они были детьми и приходили из Бурсонна в Виллер-Котре, двое самых младших из них почти всегда оказывали мне честь и заходили на ферму; они говорили, что им нигде не доводилось пить такого вкусного молока, как от моих коров, есть такой вкусный хлеб, какой выпекала мамаша Бийо, а иногда — старый дурень, я считал это платой за мое гостеприимство! — они прибавляли, что никогда не встречали такой красивой девушки, как моя дочь Катрин… А я их еще благодарил за то, что они пьют мое молоко, едят мой хлеб и хвалят мою дочь Катрин! Еще бы! Я же верил в короля, который, как говорят, по матери наполовину немец, вот и в них я тоже верил! И когда младший по имени Жорж, давным-давно покинувший родные места, был убит в Версале на пороге комнаты ее величества в ночь с пятого на шестое октября, свято исполняя свой долг дворянина, один Бог знает, как я из-за него убивался! Ах, господин граф, его брат меня видел, его старший брат, тот самый, что не приходил в мой дом, и не потому, что был слишком горд — справедливости ради я готов это признать, — а потому, что уехал из родных краев в еще более раннем возрасте, чем его брат Жорж, — так вот, старший брат видел, как я стоял на коленях перед телом младшего, проливая столько же слез, сколько он пролил крови! У меня и сейчас перед глазами небольшой дворик, зеленый и прохладный, куда я перенес его на руках, чтоб его не изуродовали, бедняжку, как изуродовали его товарищей господина де Варикура и господина Дезюта; мое платье тогда было выпачкано кровью не меньше, чем теперь — ваше, господин граф. Я так и вижу, как прелестный мальчуган с корзинкой в руке скачет в коллеж Виллер-Котре на своей серой лошадке… и при мысли о нем, если бы я мог думать только о нем, я плакал бы, верно, сейчас вместе с вами, господин граф! Но я вспоминаю о другом брате, — прибавил Бийо, — и слезы мои высыхают.
— О другом? Что вы имеете в виду? — спросил Шарни.
— Погодите, — остановил его Бийо, — скоро мы до этого дойдем. Питу пришел в Париж и сказал мне такое, что я понял: беда грозит не моему урожаю, а моей дочери; я теряю не состояние, а все мое счастье! Я оставил короля в Париже: раз у него добрые намерения, как уверял меня господин Жильбер, значит, дела непременно наладятся независимо от моего присутствия в Париже; и я вернулся на ферму. Сначала я подумал, что моей Катрин угрожает смертельная опасность: она бредила, у нее был жар… Да я ничего в этом не смыслю! Я застал ее в таком состоянии, которое очень меня обеспокоило, тем более что доктор запретил мне входить к ней в комнату до полного ее выздоровления.
Но, не имея возможности войти в ее комнату, — бедный отец, я был в полном отчаянии! — я подумал, что послушать под дверью мне позволено. И я стал слушать! Так я узнал, что она едва не умерла, что у нее воспаление мозга, что она едва не лишилась рассудка из-за отъезда возлюбленного! Я тоже уезжал год назад, но она не сошла с ума от того, что осталась без отца, она улыбалась мне на прощание! Не потому ли, что с моим отъездом она была вольна видеться со своим любовником, когда ей заблагорассудится?.. Катрин поправилась, но была по-прежнему печальна. Прошел месяц, два, три, полгода; я не сводил глаз с ее лица, но так ни разу и не заметил, чтобы улыбка осветила его; и вот однажды утром я увидел, как она улыбается, и вздрогнул: ее любовник скоро вернется, раз она улыбается. И действительно, на следующий день пастух мне сказал, что утром видел, как тот приехал. Я ни на мгновение не усомнился, что вечером он будет у меня, вернее у Катрин. Когда стемнело, я зарядил оба ствола своего ружья и сел в засаду…
— Бийо! — вскричал Шарни. — Неужели вы это сделали?
— А почему нет? — отозвался Бийо. — Подстерегаю же я в засаде кабана, который разоряет мое картофельное поле; волка, который хочет зарезать моих овец; лисицу, которая таскает моих кур, почему же мне не подстеречь и не убить человека, который пришел украсть мое счастье, любовника, который пришел обесчестить мою дочь?
— Но когда вы были в засаде, сердце ваше смягчилось, правда, Бийо? — взволнованно спросил граф.
— Нет, — возразил Бийо, — сердце тут ни при чем, меня подвели глаз и рука; кровавый след убедил меня в том, что я не совсем промазал; только вот, понимаете, — с горечью прибавил Бийо, — выбирая между отцом и любовником, моя дочь не колебалась ни минуты. Вернувшись в комнату Катрин, я увидел, что дочь исчезла.
— И с тех пор вы ее не видели? — спросил Шарни.
— Нет, — ответил Бийо, — да и зачем мне с ней встречаться? Она отлично понимает, что, если я ее увижу, я ее убью.
Шарни вздрогнул; во взгляде его читалось смешанное с ужасом восхищение этой сильной натурой.
— Я возвратился к хозяйственным заботам, — продолжал Бийо. — Какое значение имело мое горе по сравнению со счастьем Франции? Разве король не искренне вступил на путь революции? Разве не собирался он принять участие в празднике Федерации? Разве не предстояло мне вновь увидеть того доброго короля, кому я отдал шестнадцатого июля свою трехцветную кокарду и кому я почти спас жизнь шестого октября? Как, должно быть, он обрадуется, когда вся Франция объединится на Марсовом поле, а французы все как один поклянутся хранить единство отечества! Когда я его увидел, я на минуту забыл обо всем на свете, даже о Катрин… Нет, неправда, отец не может забыть о дочери!.. И вот наступил черед короля принести клятву! Мне показалось, что он говорил плохо, будто через силу; он клялся на том месте, где стоял, а не у алтаря отечества! Но какое это имело значение! Ведь он поклялся, и это главное: клятва есть клятва! Ее не может освятить место, откуда она провозглашена; а если честный человек поклялся, он держит свое слово! Значит, король должен был сдержать свое. Правда, когда я вернулся в Виллер-Котре — а мне нечем было заняться, кроме политики, после того как у меня не стало моей девочки, — до меня дошли разговоры о том, что король хотел, чтобы его похитил господин де Фаврас, но дело не сладилось; король хотел сбежать вместе со своими тетками, но план провалился; король хотел отправиться в Сен-Клу, а оттуда поехать в Руан, но народ этому воспротивился; да, я слышал все эти разговоры, но не поверил им: разве я не видел собственными глазами, как король простирал руку на Марсовом поле? Не я ли слышал своими собственными ушами, как он клялся в верности нации?
Как можно было поверить в то, чтобы король, поклявшийся перед лицом трехсот тысяч граждан, пренебрег собственной клятвой? Это было невероятно! Вот почему, когда я отправился третьего дня на рынок в Мо, я очень удивился, увидев на рассвете, — а надо вам сказать, что я остановился на ночлег у смотрителя почтовой станции, моего приятеля, с которым я сторговался на большую партию зерна, — так вот, я очень удивился, когда в окне кареты — в это время как раз меняли лошадей — увидел и узнал короля, королеву и дофина! Я не мог ошибиться, потому что я-то не раз видел их в карете! Ведь шестнадцатого июля я их сопровождал из Версаля в Париж; затем я услышал, как один из господ в желтой ливрее сказал: «Шалонская дорога!» Меня поразил голос; я обернулся и узнал… кого бы вы думали? Похитителя моей Катрин, благородного дворянина, исполнявшего свой лакейский долг и скакавшего впереди кареты короля…
С этими словами Бийо пристально взглянул на графа, чтобы увидеть, понимает ли тот, что речь идет о его брате Изидоре; однако Шарни лишь вытер платком лоб и промолчал.
Бийо продолжал:
— Я хотел было поехать за ним, но он был уже далеко — у него был добрый конь; он был вооружен, а я был без оружия… Я заскрежетал зубами при мысли, что король удерет от французов точно так же, как от меня удрал этот соблазнитель; вдруг мне пришла в голову мысль: «А ведь я тоже клялся в верности нации, и если король нарушает свою клятву, то почему бы мне не сдержать мою? Да, черт возьми! Сдержу-ка я свою клятву! Я всего в десяти льё от Парижа; сейчас три часа утра — для хорошею коня это дело двух часов! Я переговорю с господином Байи: это честный человек, как мне кажется, он за тех, кто держит данное слово против тех, кто свои клятвы нарушает». И, приняв такое решение, я, не теряя времени даром, попросил своего друга, смотрителя почтовой станции в Мо, — не объясняя ему своей цели, разумеется, — одолжить мне форму национального гвардейца, саблю и пистолеты. Я выбрал лучшего коня в конюшне и, вместо того чтобы не спеша потрусить в Виллер-Котре, галопом помчался в Париж! Могу поклясться, я прибыл вовремя: в городе уже было известно о бегстве короля, но никто не знал, в какую сторону он поехал. Генерал Лафайет отправил господина де Ромёфа по дороге на Валансьен! Нет, вы только поглядите, что значит случай! На заставе господина де Ромёфа задержали, он потребовал, чтобы его отвели в Национальное собрание, и вошел туда как раз в ту минуту, как господин Байи благодаря моему сообщению докладывал о всех подробностях маршрута его величества; оставалось только составить соответствующий приказ и сменить направление. Все было сделано в мгновение ока! Господин де Ромёф отправился по дороге на Шалон, а я получил задание его сопровождать, которое, как видите, и выполнил. Теперь, — мрачно прибавил Бийо, — я нагнал короля, обманувшего меня как француза, и могу быть спокоен: он от меня не ускользнет! Мне остается лишь догнать того, кто обманул меня как отца. И я вам клянусь, господин граф, что он тоже от меня не уйдет!
— Увы, дорогой Бийо, — со вздохом возразил Шарни, — вы ошибаетесь!
— Почему?
— Говорю вам, что тот несчастный, о ком вы говорите, от вас ускользнул!
— Сбежал? — с неописуемой яростью вскричал Бийо.
— Нет, он мертв! — ответил Шарни.
— Мертв? — невольно вздрогнув, воскликнул Бийо и вытер мгновенно покрывшийся потом лоб.
— Мертв! — подтвердил Шарни. — Вот эта кровь, что вы видите (ее вы недавно по праву сравнивали с той, которой вы испачкались в версальском дворике), — это его кровь… А если вы еще сомневаетесь, спуститесь, дорогой Бийо: вы увидите тело во дворе, похожем на версальский, и причина, по которой он погиб, та же!
Шарни произнес это тихим голосом, по щекам его катились две крупные слезы. Бийо смотрел на него растерянным, блуждающим взглядом, но вдруг закричал:
— A-а, есть, стало быть, справедливость на небесах!
Он бросился вон из комнаты, прокричав на бегу:
— Господни граф, я вам верю, конечно, но все равно хочу убедиться собственными глазами, что справедливость восторжествовала…
Шарни посмотрел ему вслед, подавив вздох и смахнув слезы.
Понимая, что каждая минута на счету, он поспешил в комнату, где была королева. Приблизившись к ней, он шепотом спросил:
— Что господин де Ромёф?
— Он наш, — отвечала королева.
— Тем лучше, — заметил Шарни, — потому что на другого надеяться нельзя!
— Что же делать? — испуганно спросила королева.
— Стараться изо всех сил выиграть время до тех пор, пока не прибудет господин де Буйе.
— А он прибудет?
— Да, потому что я сам за ним отправлюсь.
— На улицах полным-полно народу! — вскричала королева. — Вы слишком заметны, вы не проедете, они вас убьют! Оливье! Оливье!
Шарни в ответ лишь улыбнулся, отворил выходившее в сад окно, еще раз повторил свое обещание, данное королю, поклонился королеве и спрыгнул вниз, преодолев таким способом отделявшие его от земли пятнадцать футов.
Королева вскрикнула от ужаса и закрыла лицо руками, однако находившиеся в комнате молодые люди поспешили к окну и успокоили королеву радостным криком.
Шарни перелез через отделявшую сад стену и исчез по другую ее сторону.
Было самое время: на пороге комнаты снова стоял Бийо.
II
ГОСПОДИН ДЕ БУЙЕ
Посмотрим теперь, что в это тревожное время делал г-н маркиз де Буйе, с таким нетерпением ожидаемый в Варение, ведь на него возлагались последние надежды членов королевской семьи.
В девять часов вечера, то есть почти в ту самую минуту, как беглецы прибыли в Клермон, г-н маркиз де Буйе выехал из Стене со своим сыном, графом Луи де Буйе, и поехал в сторону Дёна навстречу королю.
Не доезжая четверти льё до этого города, последнего на пути короля, маркиз остановился, полагая, что его появление в городе не останется незамеченным; вместе со своими спутниками он съехал с дороги и укрылся в придорожной канаве, держа лошадей чуть поодаль.
Там решено было ждать. Вскоре, по всей видимости, должен был появиться королевский курьер.
В подобных обстоятельствах минуты кажутся часами, часы — столетиями.
Стало слышно, как часы пробили десять, одиннадцать, полночь, потом час, два и три часа утра. Удары раздавались медленно; ожидавшие хотели бы, чтобы вот так же безучастно стучали их сердца.
После двух часов начало светать; все шесть часов ожидания малейший шум, доносившийся до слуха сидевших в засаде людей, будь то приближавшиеся или удалявшиеся звуки, сулил им надежду или ввергал в отчаяние.
Когда совсем рассвело, небольшой отряд потерял надежду.
Господин де Буйе подумал, что случилось какое-нибудь несчастье, но, не зная, какое именно, он приказал возвращаться в Стене, чтобы, приняв командование всеми своими войсками, суметь, насколько это будет возможно, отразить удар.
Сев на коней, отряд медленным шагом двинулся по дороге на Стене.
До города оставалось не более четверти льё, когда, обернувшись, г-н Луи де Буйе заметил вдалеке на дороге облако пыли, поднимаемое, вне всякого сомнения, несколькими лошадьми.
Отряд остановился и принялся ждать.
По мере того как всадники приближались, их стали узнавать.
Наконец сомнений больше быть не могло: это были г-н Жюль де Буйе и г-н де Режкур.
Отряд двинулся к ним навстречу.
Когда они съехались, всадники первого отряда задавали товарищам один и тот же вопрос; те отвечали им одно и то же.
— Что случилось? — дружно спрашивали одни.
— Король арестован в Варение, — отвечали другие.
Было около четырех часов утра.
Новость была страшной, тем более страшной, что оба молодых человека, оставленные на окраине города в гостинице «Великий монарх», где их застиг врасплох мятеж, были вынуждены прокладывать себе путь в толпе, не успев разузнать никаких подробностей о происшедшем.
Однако как бы ни была страшна эта новость, она все-таки оставляла еще надежду.
Господин де Буйе, как все старшие офицеры, полагался на абсолютную дисциплину и, не задумываясь о препятствиях, считал, что все его приказания исполнены.
Если даже король и арестован в Варение, то все посты, получившие заранее приказ сопровождать короля, должны были прибыть в Варенн.
Эти посты должны были представлять собой сорок гусаров полка Лозена под командованием герцога де Шуазёля; тридцать драгунов из Сент-Мену, возглавляемые г-ном Дандуаном; сто сорок драгунов из Клермона под командованием г-на де Дама и, наконец, шестьдесят гусаров в Варение, возглавляемые шевалье де Буйе и г-ном де Режкуром; правда, молодые офицеры не успели связаться со своими людьми до отъезда, но в их отсутствие гусары оставались под присмотром г-на де Рорига.
Правда и то, что г-на де Рорига, двадцатилетнего юношу, не посвятили в тайну; однако он обязан был подчиниться другим старшим офицерам — господам де Шуазёлю, Дандуану или де Дама — и по их приказанию собрать своих людей, чтобы вместе с другими отрядами поспешить на помощь королю.
Итак, в распоряжении короля должно было сейчас находиться около ста гусаров и ста шестидесяти — ста восьмидесяти драгунов.
Этого было довольно, чтобы продержаться во время волнений в небольшом городке, насчитывающем тысячу восемьсот жителей.
Читатель видел, как события опровергли стратегические расчеты г-на де Буйе.
И первое же сообщение не замедлило нанести удар по его уверенности.
Пока генерал выслушивал доклад шевалье де Буйе и г-на де Режкура, на дороге показался скакавший во весь опор всадник.
Его появление предвещало новости.
Все взгляды обратились к нему, и вскоре присутствовавшие узнали г-на де Рорига.
Едва завидев его, генерал поскакал ему навстречу.
Он находился в таком расположении духа, когда человек не прочь обрушить свой гнев даже на невиновного.
— Что это значит, сударь? — взревел генерал. — Почему вы оставили свой пост?
— Мой генерал, прошу прощения, но я прибыл по приказу господина де Дама, — доложил тот.
— A-а, так значит, господин де Дама в Варение вместе со своими драгунами?
— Господин де Дама в Варение, но без своих драгунов, мой генерал. Он прибыл в сопровождении одного офицера, одного аджюдана и еще двух-трех человек.
— А другие?
— Другие отказались выступать.
— А господин Дандуан и его драгуны?.. — спросил г-н де Буйе.
— Говорят, их арестовали в муниципалитете Сент-Мену.
— Но хоть господин де Шуазёль в Варение? Со своими и с вашими гусарами, не так ли? — вскричал генерал.
— Гусары господина де Шуазёля перешли на сторону народа и кричат: «Да здравствует нация!» Мои же гусары заперты в казармах под охраной вареннской национальной гвардии.
— Почему же вы не встали во главе их, сударь, не разогнали всю эту сволочь и не пробились к королю?
— Господин генерал забывает об обстоятельствах: у меня не было никакого приказа, шевалье де Буйе и господин де Режкур были моими командирами, я не имел ни малейшего понятия о том, что его величество должен проехать через Варенн.
— Это верно, — желая восстановить справедливость, в один голос подтвердили шевалье де Буйе и г-н де Режкур.
— Едва заслышав шум, я вышел на улицу, спросил, что происходит, — продолжал младший лейтенант, — и узнал, что около четверти часа тому назад задержана карета, в которой, по слухам, ехали король и члены королевской семьи, и что находившиеся в карете лица препровождены к прокурору коммуны. Я направился к дому прокурора коммуны. Вокруг дома собралась огромная толпа вооруженных людей, слышалась барабанная дробь, гремел набат. Я почувствовал, как кто-то тронул меня за плечо, и обернулся: это был господин де Дама в рединготе, натянутом поверх мундира. «Вы младший лейтенант стоящего в Варение отряда гусар?» — спросил он. «Да, мой полковник». — «Вы меня знаете?» — «Вы граф Шарль де Дама». — «Так вот, садитесь на коня и, не теряя ни минуты, отправляйтесь в Дён, потом в Стене… Отыщите господина маркиза де Буйе и передайте ему, что Дандуан и его драгуны задержаны в Сент-Мену, что мои драгуны отказались повиноваться, что гусары Шуазёля вот-вот перейдут на сторону восставших и что находящиеся под арестом король и члены королевской семьи надеются только на помощь маркиза де Буйе». Получив этот приказ, мой генерал, я подумал, что не имею права на какие бы то ни было замечания, и решил, что, напротив, обязан беспрекословно подчиниться. Я сел на коня, пустил его во весь опор, и вот я здесь.
— Господин де Дама ничего больше не просил передать?
— Он еще сказал, что они всеми способами попытаются выиграть время, чтобы вы, мой генерал, успели прибыть в Варенн.
— Ну, я вижу, каждый сделал все, что было в его силах, — вздохнул г-н де Буйе. — Теперь дело за нами.
Он обернулся к графу Луи де Буйе со словами:
— Луи, я остаюсь здесь. Эти господа развезут по полкам мои приказы. Раньше других на Варенн двинутся отряды Музе и Дёна и, взяв под охрану переправу через Мёзу, начнут атаку. Господин де Рориг, отвезите этот приказ от моего имени и передайте, что поддержка подоспеет очень скоро.
Молодой человек, которому было дано поручение, поклонился и поехал в сторону Дёна.
Господин де Буйе продолжал:
— Господин де Режкур, отправляйтесь навстречу полку швейцарцев под командованием Кастелла — он сейчас движется по направлению к Стене; где бы вы его ни встретили, объясните командиру положение дел и передайте мой приказ поторопиться. Поезжайте!
Проводив глазами молодого офицера, отправившегося в направлении, противоположном тому, в каком во весь опор поскакал г-н де Рориг на уже взмыленной лошади, маркиз обернулся к своему младшему сыну:
— Жюль, возьми в Стене свежего коня и скачи в Монмеди. Пусть господин фон Клинглин отправит в Дён пехотный полк Нассау, а сам идет в Стене. Ступай!
Молодой человек отвесил поклон и удалился.
Наконец г-н де Буйе обратился к старшему сыну:
— Луи, Королевский немецкий полк находится в Стене?
— Да, отец.
— Получил ли он приказ на рассвете быть готовым к выступлению?
— Я лично передал от вашего имени этот приказ полковнику.
— Приведи полк сюда, я буду ждать на дороге — возможно, узнаю что-нибудь еще. Королевский немецкий полк надежен, не правда ли?
— Да, отец.
— Ну, в таком случае его будет довольно; мы выступаем с этим полком на Варенн. Отправляйся!
Граф Луи ускакал.
Он возвратился спустя десять минут.
— Королевский немецкий полк прибудет следом за мной, — доложил он генералу.
— Значит, когда ты прибыл, полк был готов к выступлению?
— К моему величайшему изумлению — нет. Должно быть, командир не понял меня вчера, когда я передавал ему ваш приказ, и я застал его в постели. Но он сейчас же вскочил и заверил меня, что сам пойдет в казармы, чтобы поторопить своих людей с отъездом. Я боялся, что вы будете беспокоиться, и приехал сообщить вам о причине задержки.
— Хорошо, — кивнул генерал. — Стало быть, полк скоро прибудет сюда?
— Командир сказал мне, что выезжает следом за мной.
Прошло десять минут, потом четверть часа, двадцать минут — никто так и не появился.
Генерал бросил на сына нетерпеливый взгляд.
— Я туда сейчас еще раз съезжу, отец, — предложил тот.
Пустив коня галопом, он вернулся в город.
Каким бы долгим ни казалось время г-ну де Буйе, сгоравшему от нетерпения, командиру полка его все равно оказалось недостаточно: были готовы всего несколько человек. Молодой человек горько упрекнул его, повторил приказание генерала и, услышав твердое обещание командира полка выйти из города через пять минут, поехал к отцу.
На обратном пути граф обратил внимание на то, что городские ворота, через которые он уже четырежды проехал за последний час, охраняются национальной гвардией.
Снова прошли в ожидании пять минут, потом десять, четверть часа — никто не появлялся.
Господин де Буйе понимал, что каждая потерянная минута стоит пленникам целого года жизни.
Он увидел, что со стороны Дёна появился кабриолет.
Там сидел Леонар; беспокойство парикмахера все возрастало, чем дальше он продвигался вперед.
Господин де Буйе остановил кабриолет; удаляясь от Парижа, бедный малый все чаще вспоминал о своем брате, у которого он забрал шляпу и плащ, а также о тщетно ожидающей его г-же де Лааге, которую, кроме него, некому было причесать; от этих неспокойных мыслей в голове его был такой хаос, что г-ну де Буйе не удалось добиться от него внятных ответов на свои вопросы.
Впрочем, Леонар, уехавший из Варенна еще до ареста короля, не мог сообщить маркизу ничего нового.
Это небольшое происшествие помогло генералу скоротать несколько минут томительного ожидания. Но прошло уже около часу с тех пор, как командиру Королевского немецкого полка был передан приказ, и потому г-н де Буйе в третий раз послал сына в Стене, приказав ему без полка не возвращаться.
Граф Луи уехал в бешенстве.
Прибыв на место, он еще больше рассвирепел: были готовы всего полсотни человек!
Он забрал этих людей и с ними отправился к городским воротам, чтобы обеспечить себе свободу передвижения; затем он вернулся к ожидавшему его генералу, уверяя его, что уж на этот-то раз за ним точно следуют командир полка и его солдаты.
Так он, во всяком случае, думал. Но только десять минут спустя, когда он в четвертый раз собирался вернуться в город, показалась головная колонна Королевского немецкого полка.
При других обстоятельствах г-н де Буйе приказал бы арестовать командира его же подчиненным, но в такую минуту он опасался вызвать недовольство офицеров и солдат и позволил себе лишь упрекнуть его в медлительности; потом, обратившись к солдатам с речью, он сказал, какая почетная миссия на них возложена: не только свобода, но сама жизнь короля и членов королевской семьи зависела от них; он обещал офицерам почести, солдатам — награду и для начала приказал раздать им четыреста луидоров.
Речь, имевшая такой финал, произвела ожидаемое действие: солдаты грянули «Да здравствует король!» и полк в полном составе поскакал галопом в Варенн.
В Дёне они застали отряд из тридцати человек, охранявший мост через Мёзу (он был оставлен г-ном Делоном, когда тот уезжал вместе с Шарни из Дёна).
Маркиз забрал с собой этих тридцать человек, и они продолжали путь.
Перед ними лежали восемь трудных льё: дорога то поднималась, то сбегала вниз и потому они никак не могли перейти на тот аллюр, какого им хотелось; перед маркизом стояла задача привести солдат в таком состоянии, чтобы они были способны и выдержать натиск противника, и атаковать его.
Но уже ощущалось, что они вступают на неприятельскую территорию: по обеим сторонам от дороги в деревнях гремел набат, впереди слышалась стрельба.
Они продолжали продвигаться вперед.
В Ла-Гранж-о-Буа какой-то всадник с обнаженной головой, пригнувшись к холке коня, не сводит глаз с дороги; он издалека начинает подавать знаки. Солдаты под командованием маркиза де Буйе торопят лошадей, и вот полк поравнялся со всадником.
Это г-н де Шарни.
— За короля, господа! За короля! — кричит он еще издалека, подняв руку.
— За короля! Да здравствует король! — отвечают солдаты и офицеры.
Шарни занимает место в их рядах; в нескольких словах он обрисовывает положение: король находился еще в Варение, когда граф оттуда уехал, — значит, не все еще потеряно.
Лошади устали; это не имеет значения, полк все равно поскачет тем же аллюром: лошади напичканы овсом, люди разгорячены речами и луидорами г-на де Буйе; полк летит, словно ураган, с криками «Да здравствует король!».
В Крепи они встречают священника из присягнувших. Он видит войско, спешащее в Варенн, и злорадствует:
— Поторапливайтесь, поторапливайтесь! К счастью, вы все равно опоздаете!
Граф де Буйе слышит его слова и набрасывается на него с саблей в руке.
— Несчастный, — кричит ему отец, — что ты делаешь?
Молодой человек спохватывается, что едва не убил безоружного человека, и притом священнослужителя, — а это двойное преступление; он высвобождает ногу из стремени и бьет священника сапогом в грудь.
— Вы опоздаете! — продолжает кричать священник, падая в придорожную канаву.
Солдаты продолжают путь, проклиная вестника несчастья.
Выстрелы слышатся все явственнее.
Это г-н Делон с семьюдесятью гусарами обстреливают примерно такое же число национальных гвардейцев.
Королевский полк бросается в атаку, разгоняет национальных гвардейцев и движется дальше.
Но по пути они узнают от г-на Делона, что король уехал из Варенна в восемь часов утра.
Маркиз де Буйе вынимает часы: без пяти минут девять.
Ничего! Еще не все потеряно. Не может быть и речи о том, чтобы ехать через город: на улицах баррикады; надо обойти Варенн стороной, обогнуть его слева, ибо справа сделать это не позволяет местность.
Если ехать слева, придется форсировать реку. Но Шарни утверждает, что ее можно перейти вброд.
Гусары оставляют Варенн справа, скачут по лугам; они хотят атаковать эскорт на клермонской дороге: сколько бы ни было там человек, они освободят короля или погибнут.
Спустившись с возвышенности, на которой расположен город, гусары оказываются у реки. Шарни первым понукает своего коня и ступает в воду, за ним — маркиз и граф де Буйе, потом в воду бросаются офицеры, а за офицерами — солдаты. Лошадей и людей так много, что за ними не видно воды. Десять минут спустя они переходят реку вброд.
Вода освежила и коней и всадников. Они снова мчатся галопом прямо к клермонской дороге.
Вдруг Шарни, скакавший впереди войска шагов на двадцать, останавливается и неожиданно вскрикивает: он оказался на берегу глубокого канала с крутыми скатами и обнаружил его, лишь подъехав вплотную.
Он совсем забыл об этом канале, а ведь сам отметил его на карте. Этот канал тянется на многие льё в обе стороны и на всем протяжении одинаково труден для форсирования. Если не преодолеть канал с ходу, то его уже не преодолеть никогда.
Шарни подает пример: он первым бросается в воду; в канале брода нет, но выносливый конь графа уверенно плывет к другому берегу.
Однако берег представляет собой крутой глинистый откос, и подковы не могут за него зацепиться.
Три или четыре раза Шарни пытается выбраться на берег; но, несмотря на ловкость всадника, умница-конь после отчаянных, почти человеческих попыток подняться соскальзывает назад, не найдя опоры для передних ног, и падает в воду, жалобно фыркая и едва не опрокидываясь на всадника.
Шарни понимает: то, что не удается сделать жеребцу чистых кровей, находящемуся в руках опытного всадника, тем более будет не под силу четыремстам эскадронным лошадям.
Итак, попытка оказалась неудачной, рок одержал верх: король и королева погибли, и раз уж он не сумел их спасти, ему остается лишь до конца исполнить свой долг, то есть погибнуть вместе с ними.
Пытаясь выбраться на берег, он предпринимает последнее усилие, столь же безуспешное, как и предыдущие; впрочем, он успевает до половины лезвия вонзить свою саблю в глину.
Коню эта опора в виде воткнутого клинка ни к чему, но она может пригодиться всаднику.
И действительно, Шарни оставляет стремена и повод, представляет своему коню возможность бороться с гибельной водой в одиночку, подплывает к своей сабле, хватается за нее и после нескольких безуспешных попыток найти опору для ноги чудом выбирается на берег.
Он оборачивается и видит, как на другом берегу канала г-н де Буйе и его сын плачут от злости, а хмурые солдаты стоят неподвижно, молча наблюдая за безнадежной борьбой Шарни и понимая, что пытаться преодолеть этот непреодолимый канал совершенно бесполезно.
Господин де Буйе в отчаянии ломает руки, ведь до сих пор он был исключительно удачлив: за что бы он ни брался, все его начинания увенчивались успехом, и в армии о нем даже сложили поговорку «Удачлив, как Буйе».
— Ну, господа, — задетый за живое, кричит он, — можно ли после этого назвать меня удачливым?
— Нет, генерал, — отвечает ему с другого берега Шарни. — Но можете быть спокойны: я скажу, что вы сделали все, что в человеческих силах, а если скажу я, то мне поверят. Прощайте, генерал.
Оставшись без коня, мокрый насквозь и весь покрытый грязью, Шарни идет через поле, бросив на берегу саблю и практически лишившись пистолета, так как весь порох в нем подмок; граф переходит на бег и скоро исчезает за деревьями, похожими на часовых, будто лес выставил их вдоль дороги.
Это та самая дорога, по которой увозят пленных — короля и членов королевской семьи. Иди по ней — и непременно их нагонишь!
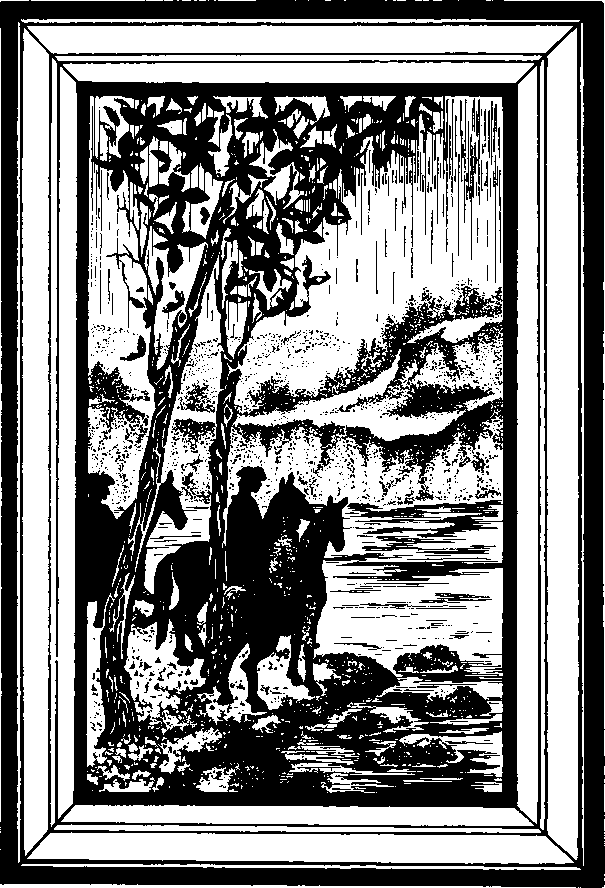
Однако прежде чем двинуться в путь, он в последний раз оглядывается и видит на берегу проклятого канала г-на де Буйе с войском; отлично понимая, что идти вперед невозможно, они тем не менее никак не могут решиться повернуть назад.
Он в последний раз безнадежно машет им рукой, потом выходит на дорогу и исчезает за поворотом.
Он не собьется с пути: впереди слышится гул, в котором угадываются крики, угрозы, смех, проклятия десятитысячной толпы.
III
ОТЪЕЗД
Читатели знают, как король покинул Варенн.
Нам остается сказать несколько слов об этом отъезде и возвращении в столицу; именно в это время, как мы увидим, решались судьбы верных слуг и последних друзей, оказавшихся рядом с умирающей монархией по воле рока, случая или преданности.
Итак, вернемся в дом г-на Соса.
Едва ноги Шарни коснулись земли, как, если помнит читатель, дверь распахнулась и на пороге встал Бийо. Он мрачно глядел из-под нависших бровей. Обведя взглядом присутствующих, он отметил про себя следующее.
Во-первых, Шарни бежал — это сразу бросалось в глаза: его в комнате не было, а г-н де Дама затворял за ним окно; если бы Бийо свесился с подоконника, он бы мог увидеть, как граф перелезает через садовую стену.
Во-вторых, между королевой и г-ном де Ромёфом было заключено нечто вроде пакта, по которому все, что еще мог обещать г-н де Ромёф, — это сохранять нейтралитет.
За спиной Бийо в первой комнате снова столпились те самые люди, вооруженные ружьями, косами или саблями, которых фермер перед разговором с Шарни жестом попросил выйти.
Их словно магнитом инстинктивно тянуло к Бийо, такому же плебею, как они сами; они с готовностью повиновались ему, угадывая в нем такой же патриотизм или, если выражаться точнее, такую же ненависть, как и у них.
Бийо оглянулся назад, встретился взглядом с глазами этих людей и сразу же понял, что может на них рассчитывать даже в том случае, если придется прибегнуть к насилию.
— Ну что, готовы ли они ехать? — спросил он у г-на де Ромёфа.
Королева бросила на Бийо косой взгляд, в который хотела бы вложить силу молнии, чтобы испепелить наглеца.
Не отвечая, она опустилась в кресло, изо всех сил вцепившись в подлокотники.
— Король просит еще несколько минут, — отозвался г-н де Ромёф. — Никто в эту ночь не сомкнул глаз, и их величества крайне утомлены.
— Господин де Ромёф, — возразил Бийо, — вы отлично знаете, что их величества просят повременить не из-за усталости, а потому, что надеются на прибытие господина де Буйе. Только пусть их величества поостерегутся, — твердо прибавил Бийо, — если они не пойдут сами, их отволокут к карете за ноги.
— Негодяй! — вскричал г-н де Дама и бросился на Бийо с саблей в руках.
Бийо повернулся к нему, невозмутимо скрестив руки на груди.
Ему в самом деле не о чем было беспокоиться: человек десять бросились из первой комнаты во вторую и окружили г-на де Дама, угрожая ему оружием.
Король понял: одно неосторожное слово или движение — и оба его телохранителя, а также г-н де Шуазёль, г-н де Дама и еще несколько находившихся рядом с ним офицеров и унтер-офицеров будут мгновенно убиты.
— Хорошо, — сказал он, — прикажите запрягать. Мы едем.
Госпожа Брюнье, одна из двух камеристок королевы, громко вскрикнула и лишилась чувств.
Ее крик разбудил детей.
Дофин расплакался.
— Ах, сударь! — обращаясь к Бийо, вскричала королева. — Разве у вас нет детей, что вы так жестоки к матери?
Бийо вздрогнул, но сейчас же взял себя в руки и, горько усмехнувшись, отвечал:
— Нет, ваше величество, у меня больше нет детей.
Он повернулся к королю:
— Лошади уже готовы!
— В таком случае прикажите подать карету.
— Она у крыльца.
Король подошел к выходившему на улицу окну: там действительно стояла заложенная карета (из-за шума на площади он не слышал, как она подъехала).
Народ увидел в окне короля.
Над толпой поднялся угрожающий гул голосов. Король побледнел.
Господин де Шуазёль подошел к королеве.
— Какие будут приказания вашего величества? — спросил он. — Я и мои товарищи готовы скорее умереть, чем видеть все это.
— Вы думаете, господину де Шарни удалось спастись? — торопливо прошептала королева.
— О, за это я ручаюсь! — воскликнул г-н де Шуазёль.
— Тогда едем; но заклинаю вас Небом, не оставляйте нас, и не ради нашей безопасности, а ради спасения вас и ваших друзей.
Король понял, чего опасалась королева.
— Да, в самом деле, — подтвердил он, — господа де Шуазёль и де Дама должны нас сопровождать, а я не вижу их коней.
— И правда, — согласился г-н де Ромёф, обращаясь к Бийо, — не можем же мы запретить этим господам следовать за королем и королевой.
— Если эти господа в состоянии, пусть следуют за королем и королевой; у нас приказ: доставить короля и королеву, а об этих господах там ничего не сказано.
— А я заявляю, что не поеду, пока у этих господ не будет коней, — заявил король с твердостью, которой никто от него не ожидал.
— Что вы на это скажете? — обратился Бийо, к наводнившим комнату людям. — Король не поедет, если у этих господ не будет лошадей!
Те разразились хохотом.
— Я прикажу привести коней, — предложил г-н де Ромёф.
Однако г-н де Шуазёль шагнул вперед, преградив г-ну де Ромёфу путь.
— Не покидайте их величеств, — попросил он. — Ваша миссия дает вам некоторую власть над этим народом, и дело вашей чести — позаботиться о том, чтобы ни один волосок не упал с головы короля и королевы.
Господин де Ромёф остановился.
Бийо пожал плечами.
— Хорошо, — проворчал он, — я сам схожу.
Он пошел было к дверям, но обернулся с порога и, насупившись, прибавил:
— Вы тут приглядите, а?
— О, не волнуйтесь, — с грубым хохотом отвечали столпившиеся в комнате люди; это означало, что в случае сопротивления пощады от них не будет.
И действительно, они дошли до такой степени раздражения, что способны были на насилие по отношению к членам королевской семьи, а кроме того, могли открыть огонь, если бы кто-нибудь попытался бежать.
Бийо даже не пришлось снова подниматься наверх.
Один из горожан следил из окна за тем, что происходило на улице.
— Вон лошади! — закричал он. — В путь!
— В путь! — не допуская возражения, подхватили его товарищи.
Король пошел первым.
За ним двинулся г-н де Шуазёль, подав руку королеве, потом — г-н де Дама, он вел мадам Елизавету; затем — г-жа де Турзель с обоими детьми в окружении маленькой группы тех, кто остался верен королю.
Господин де Ромёф, как посланец Национального собрания и, следовательно, особа священная, лично отвечал за безопасность членов королевской семьи.
Однако справедливости ради следует отметить, что г-н де Ромёф сам нуждался в охране: уже распространился слух о том, что он не только неохотно исполняет приказы Собрания, но и способствовал — если не действиями, то бездеятельностью — бегству одного из преданнейших слуг короля, оставившего, как поговаривали, их величества только затем, чтобы передать г-ну де Буйе приказание прийти им на помощь.
Вот почему если поведение Бийо было встречено в народе ликованием и его готовы были признать единственным руководителем, то на г-на де Ромёфа, когда он появился на пороге дома, посыпались угрозы и оскорбления: «Аристократ! Предатель!»
Все стали рассаживаться по каретам в том порядке, в каком спускались по лестнице.
Оба телохранителя заняли свои места на козлах.
Пока они выходили на улицу, г-н де Валори обратился к королю:
— Государь, мы с моим товарищем просим у вашего величества милости.
— Какой милости, господа? — удивился король, не веря в то, что от него еще может исходить хоть какая-нибудь милость.
— Мы лишены счастья служить вам, государь, как офицеры и потому просим о милости занять места ваших лакеев.
— Моих лакеев? — переспросил король. — Но это недопустимо!
Однако г-н де Валори с поклоном заметил:
— Государь, в том положении, в каком ваше величество оказались, это место, по нашему мнению, составило бы честь принцам крови, тем более — простым дворянам, как мы.
— Ну хорошо, господа, — со слезами на глазах согласился король, — оставайтесь с нами до самого конца.
Вот каким образом молодые люди, словно оправдывая ливреи, надетые на них, и мнимые должности курьеров, снова оказались на козлах.
Господин де Шуазёль захлопнул дверцу кареты.
— Господа! — сказал король. — Я категорически приказываю отвезти меня в Монмеди. Форейторы! В Монмеди!
Но горожане ответили единодушным криком, таким громким, словно их было в десять раз больше:
— В Париж! В Париж!
В наступившей вслед за тем тишине Бийо указал острием сабли на дорогу, по которой надо было ехать.
— Форейторы! Дорога на Клермон! — приказал Бийо.
Карета тронулась.
— Призываю всех вас в свидетели, что надо мной совершается насилие, — заявил Людовик XVI.
После этого несчастный король, устав от попытки проявить волю, самой энергичной попытки из всех, какие он предпринимал до сих пор, откинулся в глубь кареты (он сидел между королевой и мадам Елизаветой).
Карета покатила дальше.
Спустя пять минут, когда она не успела проехать и двухсот шагов, позади раздались громкие крики.
Королева — то ли потому, что была ближе к окну, то ли вследствие своего темперамента — первой выглянула из окна кареты.
Однако почти в ту же секунду она отпрянула, закрыв лицо руками.
— О, горе нам! — вскричала она. — Они убивают господина де Шуазёля!
Король подался было вперед, но королева и мадам Елизавета удержали его и заставили сесть на место. Кроме того, карета только что свернула за угол и было уже невозможно разглядеть, что происходит в двадцати шагах от нее.
Вот как было дело.
Выйдя из дома г-на Соса, г-н де Шуазёль и г-н де Дама сели на коней, а вот почтовая лошадь г-на де Ромёфа исчезла.
Господин де Ромёф, г-н де Флуарак и аджюдан Фук отправились пешком в надежде раздобыть лошадей у драгунов или гусаров: либо забрать их у тех, кто, сохранив верность королю, захочет расстаться со своим конем, либо захватить лошадей, брошенных их хозяевами, большая часть которых браталась с народом и пила за здоровье нации.
Но, не проехав и пятнадцати шагов, г-н де Шуазёль, сопровождавший карету верхом на коне, замечает, что г-ну де Ромёфу, г-ну де Флуараку и г-ну Фуку грозит опасность: они вот-вот будут окружены, оторваны от кортежа и смяты в толпе.
Тогда он останавливается, пропускает карету вперед и, рассудив, что из этих трех человек, подвергающихся одинаковой опасности, г-н де Ромёф, принимая в соображение возложенную на него миссию, может оказать королевской семье наибольшую услугу, приказывает своему лакею Джеймсу Бризаку, идущему в толпе:
— Второго моего коня — г-ну де Ромёфу!
Стоило ему произнести эти слова, как в толпе происходит волнение, слышится брань, его окружают с криками:
— Это Шуазёль, один из тех, кто хотел похитить короля! Смерть аристократу! Смерть предателю!
Известно, как скоро во времена народных восстаний угрозы приводятся в исполнение.
Господина де Шуазёля стащили с седла, опрокинули на спину, и он исчез в страшном водовороте, который зовется толпой и из которого в эту эпоху смертельных страстей можно было выйти лишь разорванным в клочья.
Но в то же мгновение как он упал, на помощь ему бросилось пять человек.
Это были г-н де Дама, г-н де Флуарак, г-н де Ромёф, аджюдан Фук и все тот же лакей Джеймс Бризак: у него отняли коня, которого он вел в поводу, руки его оказались свободны, и он мог помочь хозяину.
Завязалась ужасающая схватка, напоминавшая бой античных воинов (а в наши дни — арабов) вокруг окровавленных тел своих раненых или убитых товарищей.
Вопреки всем предположениям, г-н де Шуазёль, по счастью, не был ни ранен, ни убит; во всяком случае, несмотря на грозное оружие врагов, раны его были неопасны.
Жандарм подставил ствол своего мушкетона, отразив таким образом предназначавшийся герцогу удар косы. Джеймс Бризак отразил другой такой удар палкой, которую он успел вырвать у одного из нападавших.
Палка переломилась как тростинка, но удар все-таки удалось отвести; ранен был только конь г-на де Шуазёля.
Тогда аджюдан Фук догадался крикнуть:
— Ко мне, драгуны!
На крик прибежали несколько солдат: при виде того, как убивают их бывшего командира, они устыдились и пробились к нему сквозь толпу.
Господин де Ромёф бросился вперед.
— Именем Национального собрания, уполномоченным коего я являюсь, а также именем генерала Лафайета, пославшего меня сюда, — закричал он, — приказываю отвести этих господ в муниципалитет!
Упоминание Национального собрания и имени генерала Лафайета, находившихся в то время на вершине популярности, возымело свое действие.
— В муниципалитет! В муниципалитет! — подхватила толпа.
Добровольцы потащили г-на де Шуазёля и его товарищей к ратуше.
Дорога туда заняла более полутора часов; каждую минуту арестованным грозили расправой: едва только между защищавшими их людьми образовывалось свободное пространство, как в нем мелькали клинок сабли, зубья вил или лезвие косы.
Наконец прибыли в ратушу; единственный оставшийся там чиновник муниципалитета был очень напуган выпавшей на его долю ответственностью.
Желая снять ее с себя, он приказал отвести г-на де Шуазёля, г-на де Дама и г-на де Флуарака в тюрьму и приставить к ним национальных гвардейцев для охраны.
Господин де Ромёф заявил, что не хочет покидать г-на де Шуазёля, рисковавшего ради него жизнью.
Муниципальный чиновник приказал, чтобы г-на де Ромёфа тоже отвели в тюрьму.
По знаку г-на де Шуазёля его лакей, слишком незначительная фигура, чтобы им занимались, поспешил скрыться.
Его первой заботой — не будем забывать, что Джеймс Бризак был конюхом, — были лошади.
Он узнал, что лошади, более или менее целые и невредимые, находятся на постоялом дворе под охраной многочисленной стражи.
Успокоившись на этот счет, он вошел в кафе, спросил чаю, перо и чернила и написал г-же де Шуазёль и г-же де Грамон. Он утешил их, сообщив о судьбе их сына и племянника, который, по всей вероятности, был спасен в ту самую минуту, как его арестовали.
Бедный Джеймс Бризак поторопился с хорошими новостями: да, г-н де Шуазёль был арестован; да, г-н де Шуазёль находился в тюрьме; да, г-н де Шуазёль был под охраной городской милиции; но власти забыли поставить часовых к подвальным окнам тюрьмы, через эти окна по пленникам палили из ружей, и те были вынуждены забиться по углам.
В этом весьма опасном положении арестованные провели целые сутки; все это время г-н де Ромёф с достойной восхищения преданностью отказывался оставить своих товарищей.
Наконец 23 июня прибыла национальная гвардия из Вердена. Господин де Ромёф добился, чтобы пленники были выданы ей, и оставил их только после того, как офицеры дали честное слово взять их под свою охрану до тех пор, пока они не будут помещены под стражу в тюрьму Верховного суда.
А тело несчастного Изидора де Шарни, перенесенное в дом одного ткача, похоронили благочестивые, но чужие люди; в этом ему повезло меньше, чем Жоржу, кого снарядили в последний путь братские руки графа, дружеские руки Жильбера и Бийо.
Ведь тогда Бийо был еще преданным и почтительным другом. Мы видели, как его дружба, его преданность и почтение переросли в ненависть столь же неумолимую, сколь глубокими были когда-то эта дружба, эта преданность и это почтение.
IV
КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
А королевская семья тем временем продолжала продвигаться к Парижу, следуя — мы можем сказать это — крестным путем.
Увы! Людовика XVI и Марию Антуанетту ждала впереди своя Голгофа! Искупили ли они этими жестокими муками грехи монархии, как искупил Иисус Христос грехи человечества? Вот вопрос, на который прошлое еще не ответило и на который, быть может, даст когда-нибудь ответ лишь будущее.
Кортеж продвигался медленно, потому что лошади не могли двигаться быстрее эскорта, а этот эскорт, состоявший преимущественно из людей, вооруженных, как мы уже сказали, вилами, ружьями, косами, саблями, пиками, цепами, включал в себя также огромное число женщин и детей; женщины поднимали над головами детей, чтобы показать им короля, которого силой возвращали в Париж и которого они вряд ли когда-нибудь увидели бы, если бы не этот случай.
В необъятной толпе, не умещавшейся на дороге и выплескивавшейся по обе ее стороны на поля, огромная карета короля в сопровождении кабриолета г-жи Брюнье и г-жи де Невиль была похожа на затерявшийся в море корабль со шлюпкой, которых вот-вот должны поглотить яростные волны.
Время от времени какое-нибудь непредвиденное обстоятельство способствовало — если нам позволительно будет продолжить это сравнение — тому, что буря обретала новую силу. Крики, проклятия, угрозы звучали громче; человеческие волны оживали, поднимались, падали вниз, снова поднимались, как во время прилива, и порой в их глубинах полностью скрывались с большим трудом разрезавшее их своим носом судно, его терпящие бедствие пассажиры и прилепившаяся к нему утлая лодчонка.
Они прибыли в Клермон, но, несмотря на то что позади осталось около четырех льё, не заметили, чтобы страшный эскорт уменьшился: на смену тем из сопровождавших, кого призывали домой неотложные дела, сбегались из окрестных деревень другие добровольцы, жаждавшие насладиться тем зрелищем, каким их предшественники уже пресытились.
Из всех пленников передвижной тюрьмы двое подвергались особенно частым нападкам толпы и служили ей мишенью: это были несчастные телохранители, сидевшие на широких козлах кареты. Всякую минуту — это был способ задеть членов королевской семьи, неприкосновенной благодаря приказу Национального собрания, — то им в грудь наставляли штыки; то над головами у них вздымалась коса, которая легко могла стать косой смерти; то чье-то копье, подобно коварной змее, так и пыталось вонзиться в живую плоть, а потом окрасившееся кровью острие появлялось перед глазами своего хозяина, довольного тем, что он не промахнулся.
Вдруг появился человек с обнаженной головой, безоружный, весь в грязи; он протолкался сквозь толпу и, почтительно поклонившись королю и королеве, вскарабкался на козлы и сел между телохранителями.
Королева вскрикнула от испуга, радости и боли.
Она узнала Шарни.
Испуг королевы объяснялся тем, что действия Шарни на виду у всех были невероятно рискованными и только чудом он занял место на козлах, не получив ни единой царапины.
Радовалась она оттого, что, к счастью, он избежал неведомых опасностей, которым мог подвергнуться во время своего бегства из дома г-на Соса, — опасностей, казавшихся ей тем более страшными, что действительность, не выделяя какую-то одну из них, позволяла воображению рисовать их все сразу.
Боль она испытывала оттого, что понимала: раз Шарни возвратился один, да еще в таком виде, значит, надо отказаться от всякой надежды на помощь г-на де Буйе.
А толпа, в изумлении следившая за дерзким поступком графа, казалось, из-за самой этой дерзости почувствовала к нему уважение.
Бийо, ехавший верхом впереди кареты, оглянулся на шум и тоже узнал Шарни.
— A-а! Я очень доволен, что с ним ничего не случилось, — проворчал он. — Но горе безумцу, который еще раз попытается сделать то же: он заплатит за двоих.
В Сент-Мену прибыли около двух часов пополудни.
Недолгий сон в ночь отъезда, а также трудности и волнения только что пережитой ночи подействовали на всех, но главным образом сказались на дофине. Когда подъезжали к Сент-Мену, у бедного мальчика была страшная лихорадка.
Король приказал остановиться.
К сожалению, из всех расположенных по дороге городов Сент-Мену отличался, пожалуй, самой лютой ненавистью к несчастному семейству.
Вот почему на приказание короля не обратили ни малейшего внимания, а Бийо отдал противоположный приказ: запрягать лошадей в карету, что и было исполнено.
Дофин плакал и, всхлипывая, спрашивал:
— Почему меня не раздевают и не укладывают в постельку, если я болен?
Королева не выдержала, гордость на мгновение изменила ей.
Она подняла на руках юного принца, обливающегося слезами, дрожащего, и, показывая его народу, стала просить:
— Господа! Смилуйтесь над ребенком, остановитесь!
Но лошади были уже готовы.
— Вперед! — крикнул Бийо.
— Вперед! — вторила ему толпа.
Бийо как раз оказался рядом с дверцей кареты, собираясь проехать вперед и занять свое место во главе кортежа.
— Повторяю вам, сударь, — обратилась королева к нему, — у вас, должно быть, нет детей!
— А я вам повторяю, ваше величество, — мрачно взглядывая на нее, отвечал тот, — что у меня был ребенок, но его больше нет!
— Поступайте как вам угодно, — смирилась королева, — сила на вашей стороне. Но берегитесь: ничьи жалобы не доходят до Господа так скоро, как детские слезы!
Кортеж снова пустился в путь.
Дорога через город была нелегкой. Всеобщее воодушевление возрастало при виде Друэ, которому все были обязаны арестом пленников, что должно было бы послужить им страшным уроком, если только для королей существуют уроки; в криках толпы Людовику XVI и Марии Антуанетте слышалась лишь слепая ненависть; в этих патриотически настроенных людях, убежденных в том, что они спасают Францию, король и королева видели лишь восставшую чернь.
Король был подавлен; у королевы от стыда и гнева выступил пот на лбу; мадам Елизавета, ангел небесный, заблудившийся на грешной земле, едва слышно молилась, и не за себя, а за брата, за невестку, за племянников, за всех этих людей. Святая женщина не отделяла тех, кого она считала жертвами, от тех, на кого она смотрела как на палачей: в одной и той же молитве она просила у Господа милосердия тем и другим.
При въезде в Сент-Мену весь людской поток, подобно наводнению заливавший равнину, не мог втиснуться в узкую улочку.
Он вспенился по обе ее стороны и потек в обход города справа и слева; но в Сент-Мену карета остановилась на короткое время, необходимое лишь для перемены лошадей, и потому на другой окраине города толпа с прежней ненавистью сомкнулась вокруг кареты.
Король полагал — и эта точка зрения толкнула его, может быть, на неверный путь, — что только в Париже народ сбился с пути, и рассчитывал на свою добрую провинцию. И вот эта провинция не только покинула его, но безжалостно повернулась против него. Эта самая провинция напугала г-на де Шуазёля в Пон-де-Сомвеле, захватила г-на Дандуана в плен в Сент-Мену, стреляла в г-на де Дама в Клермоне, только что убила Изидора де Шарни на глазах у короля; все противились бегству его величества, даже тот священник, кого граф де Буйе столкнул пинком в придорожную канаву.
И было бы еще хуже, если бы король мог видеть, что происходит в других местах, куда доходила весть о его аресте. В одно мгновение все население города или деревни поднималось как один человек, женщины хватали на руки грудных детей и тащили за собой детей постарше — тех, что уже умели ходить; мужчины вооружались кто чем мог: сколько ни было у них оружия, они вешали его на себя или взваливали на плечи; и все прибывали и прибывали, готовые не эскортом следовать за королем, но убить его, убить за то, что король в страдную пору жатвы — такой жалкой, что, например, провинцию на подступах к Шалону народ, со свойственной ему выразительностью языка, называет Сухой Шампанью! — итак, король в страдную пору привел сюда грабителей-пандуров и разбойников-гусаров, чтобы их кони вытоптали жалкий урожай! Однако у королевской кареты было три ангела-хранителя: бедный маленький дофин, дрожавший в лихорадке на коленях у матери; юная принцесса, поражавшая яркой, свойственной рыжеволосым красотой, стоявшая у самой дверцы кареты и взиравшая на происходящее удивленным, но твердым взглядом; наконец, мадам Елизавета, уже достигшая двадцатисемилетнего возраста, но благодаря чистоте телесной и духовной словно увенчанная ореолом девичьей невинности. Люди эти видели всех троих, а также королеву, склонившуюся над своим ребенком, видели подавленного короля, и их ненависть отступала в поисках какого-нибудь другого объекта, на кого она могла бы обрушиться. И люди кричали на телохранителей, оскорбляли их, — эти благородные и преданные сердца! — называя их трусами и предателями; кроме того, на их головы, большею частью непокрытые да еще разгоряченные дешевым вином, падали прямые лучи июньского солнца, образуя огненную радугу в лиловой пыли, поднимаемой с дороги всем этим бесконечным кортежем.
Что сказал бы этот король, еще, может быть, на что-то надеявшийся, если бы увидел человека, который покинул Мезьер с ружьем на плече, проехал шестьдесят льё за три дня только для того, чтобы убить короля, нагнал его в Париже и, увидев его, такого бедного, такого несчастного, такого униженного, покачал головой и отказался от своего плана?
Что сказал бы он, если бы узнал, как молодой столяр — не сомневавшийся в том, что после своего бегства король будет незамедлительно предан суду и осужден, — отправился в путь из самой Бургундии, торопясь на суд, чтобы собственными ушами послушать обвинительную речь? В дороге другой столяр, старший его товарищ, дает ему понять, что это займет больше времени, чем он думает, и задерживает его для того, чтобы с ним побрататься; юный столяр в самом деле останавливается у старого мастера и женится на его дочери.
То, что видел Людовик XVI, было, возможно, более впечатляющим, но менее пугающим; ведь мы рассказали, как тройной щит невинности отводил от него злобу и направлял ее против слуг короля.
Когда карета выехала из Сент-Мену, приблизительно в полульё от города показался верхом на коне старый дворянин с крестом Святого Людовика в петлице; он скакал галопом через поле наперерез карете; в толпе подумали было, что этого господина влекло простое любопытство, и потому посторонились, давая ему возможность проехать. Сняв шляпу, кланяясь королю и королеве и называя их «величествами», дворянин подъехал к дверце кареты. Народ только что взвесил, где истинная сила и настоящее величие; он возмутился, что его пленников удостоили принадлежащего им титула; в толпе послышались глухие угрозы.
Король научился распознавать эти угрозы: он уже слышал их у дома прокурора в Варение, он угадывал их значение.
— Сударь, — обратился он к старому кавалеру ордена Святого Людовика, — королева и я тронуты вашей преданностью, выраженной вами публично. Но во имя Господа уезжайте: вашей жизни угрожает опасность!
— Моя жизнь принадлежит королю, — заявил старый дворянин, — и последний мой день будет прекраснейшим в моей жизни, если я умру за короля!
Некоторые из окружавших карету людей услышали его слова и стали проявлять недовольство.
— Уезжайте, сударь, уезжайте! — закричал король.
Выглянув из кареты, он прибавил:
— Друзья мои! Пропустите, пожалуйста, господина де Дампьера.
Те, кто стоял ближе всех к карете и слышал просьбу короля, посторонились. К несчастью, немного отъехав от кареты, всадник и его лошадь оказались сжатыми со всех сторон: всадник понукал коня, но люди стояли такой плотной толпой, что сами не могли ничего поделать. Несколько стиснутых женщин закричали от боли, чей-то ребенок от испуга заплакал, мужчины стали размахивать кулаками, один упрямый старик пригрозил плетью; затем угрозы сменились ревом — вестником львиной ярости народа. Господин де Дампьер был уже на самой окраине этого людского моря, он изо всех сил пришпорил коня, тот отважно перепрыгнул через придорожную канаву и поскакал галопом по полю. И тогда старый дворянин обернулся и, снова сняв шляпу, прокричал: «Да здравствует король!» Это было его последней данью своему государю, но величайшим оскорблением народу.
Грянул выстрел.
Старик вынул из седельной кобуры пистолет и выстрелил в ответ.
Тогда все, кто имел заряженные ружья, разрядили их в безумца.
Прошитый пулями конь рухнул наземь.
Был ли всадник ранен или сражен насмерть? Этого никто никогда не узнает. Толпа хлынула подобно лавине к тому месту, где упали конь и всадник, шагах в пятидесяти от кареты короля; потом произошла сумятица, какая всегда бывает вокруг мертвого тела, послышались крики, и вдруг на острие одной из пик взвилась над толпой седовласая голова.
Это была голова несчастного шевалье де Дампьера.
Королева вскрикнула и отпрянула в глубь кареты.
— Чудовища! Каннибалы! Убийцы! — закричал Шарни.
— Молчите, молчите, господин граф, — остановил его Бийо. — Не то я за вас не отвечаю.
— Пусть так! — отозвался Шарни. — Я устал от жизни! Разве они могут сделать мне больше зла, чем сделали моему бедному брату?
— Ваш брат был виновен, а вы — нет, — возразил Бийо.
Шарни хотел было спрыгнуть с козел, но телохранители его удержали: на него были направлены два десятка штыков.
— Друзья! — громко и убежденно сказал Бийо. — Что бы ни сделал или ни сказал этот человек, — он указал на Шарни, — пусть ни один волос не упадет с его головы… Я отвечаю за него перед его женой.
— Перед его женой? — пробормотала королева, вздрогнув, словно один из угрожавших графу штыков поразил ее в самое сердце. — Перед его женой? Но почему?..
Почему? Бийо и сам бы не мог ответить. Он упомянул о жене Шарни, зная, какое влияние может оказать это слово на толпу, состоящую по преимуществу из отцов и мужей!
V
КРЕСТНЫЙ ПУТЬ (Продолжение)
В Шалон прибыли поздно. Карета въехала во двор интенданства; курьеры были высланы заранее, чтобы приготовить помещение.
Двор был полон национальных гвардейцев и любопытных.
Пришлось потеснить зевак, чтобы король мог выйти из кареты.
Он показался первым, за ним с дофином на руках следовала королева, за нею шли мадам Елизавета с юной принцессой и, наконец, г-жа де Турзель.
В ту минуту как Людовик XVI ставил ногу на первую ступеньку лестницы, грянул выстрел и пуля просвистела над его ухом.
Была то попытка цареубийства или простая случайность?
— Ну вот, какой-то увалень случайно выстрелил! — обернувшись, невозмутимо заметил король.
Потом он прибавил в полный голос:
— Надобно быть осмотрительней, господа! Не то может произойти несчастье!
Шарни и оба телохранителя без помех прошли за королевской семьей и поднялись вслед за ней по лестнице.
Если не считать злополучного выстрела, королеве почудилось, будто она окунулась в более приятную атмосферу. У дверей, где остановился шумный кортеж, крики скоро стихли; в то время как члены королевской семьи выходили из кареты, в толпе сочувственно зашептались; поднявшись во второй этаж, путешественники увидели роскошный стол, сервированный с такой изысканностью, что пленники в изумлении переглянулись.
Лакеи застыли в почтительном ожидании; однако Шарни попросил для себя и двух телохранителей милости прислуживать за столом. В наши дни такое самоуничижение могло бы показаться странным, однако граф хотел под этим предлогом оставаться рядом с королем на случай любой неожиданности.
Королева все поняла; однако она даже не повернула к нему головы, не поблагодарила его ни жестом, ни взглядом, ни словом. Слова Бийо «Я отвечаю за него перед его женой!» звучали в глубине души Марии Антуанетты подобно раскатам грома.
Шарни, которого она надеялась увезти из Франции и мечтала оставить при себе за границей, возвращался вместе с ней в Париж! Шарни должен был снова увидеться с Андре!
Он же понятия не имел, что творится в душе у королевы. Он и не предполагал, что она слышала слова фермера; кроме того, у Оливье начали возникать кое-какие надежды.
Как мы уже сказали, Шарни был послан вперед разведать дорогу, и он добросовестно исполнил свой долг. Он знал настроение в каждой деревушке. В Шалоне, древнем городе, не имевшем своей торговли и населенном буржуа, рантье, дворянами, царил роялистский дух.
Вот почему едва августейшие путешественники сели за стол, как их хозяин, интендант департамента, вышел вперед и, поклонившись королеве, не ожидавшей уже более ничего хорошего и потому взглянувшей на него с беспокойством, проговорил:
— Ваше величество! Девицы города Шалона просят о милости принять их, чтобы вручить вам цветы.
Королева бросила изумленный взгляд на мадам Елизавету, потом на короля.
— Чтобы вручить цветы?! — переспросила она.
— Ваше величество! Если время выбрано неудачно или просьба слишком дерзка, — продолжал интендант, — я прикажу девицам не входить.
— О нет, нет, сударь, напротив! — вскричала королева. — Девицы! Цветы! Пусть войдут!
Интендант удалился, а мгновение спустя двенадцать девушек от четырнадцати до шестнадцати лет, самые хорошенькие, каких только могли найти в городе, вошли в переднюю и замерли на пороге.
— О, входите, входите, дети мои! — воскликнула королева, простирая к ним руки.
Одна из девушек, выступавшая от имени не только своих подруг, но и от имени их родителей, от имени всего города, приготовила прекрасную речь и теперь собиралась ее произнести; однако, услышав слова королевы, увидев ее распростертые объятия и почувствовав волнение всех членов королевской семьи, бедняжка не смогла сдержать слез, а из груди ее вырвались слова, передававшие общее мнение:
— Ах, ваше величество! Какое несчастье!
Королева приняла букет и расцеловала ее.
Тем временем Шарни наклонился и шепнул на ухо королю:
— Государь, вероятно, стоит воспользоваться настроением в городе: может быть, еще не все потеряно; если вашему величеству будет угодно отпустить меня на час, я спущусь вниз, а потом дам вам отчет обо всем увиденном и, возможно, сделанном.
— Ступайте, сударь, — разрешил король, — но будьте осторожны; если с вами случится несчастье, я буду безутешен до конца моих дней! Увы, двух смертей и так довольно для одной семьи!
— Государь, моя жизнь, как и жизнь моих братьев, принадлежит королю! — ответил Шарни.
Затем он вышел.
Однако, выходя, он смахнул слезу.
Присутствие всех членов королевской семьи делало этого человека с непоколебимым и нежным сердцем тем стоиком, каким он старался казаться; но как только он оставался наедине с самим собой, он снова был лицом к лицу со своим горем.
— Бедный Изидор! — прошептал он.
Он прижал руку к груди, чтобы убедиться, что в кармане у него по-прежнему лежат переданные ему г-ном де Шуазёлем бумаги, обнаруженные у убитого Изидора; он дал себе слово прочитать их, лишь только выдастся свободная минута, с таким же благоговением, как если бы читал завещание.
Вслед за девушками, которых юная принцесса расцеловала словно родных сестер, явились их родители; все это были, как мы уже сказали, либо преуспевающие буржуа, либо дворяне; они вошли робко и, как величайшей милости, попросили позволения приветствовать своих несчастных государей. Король при их появлении встал, а королева как можно ласковее пригласила:
— Входите!
Где все это происходило? В Шалоне? В Версале? Неужели всего несколько часов назад пленники видели своими собственными глазами, как обезглавили г-на де Дампьера?
Спустя полчаса вернулся Шарни.
Королева видела, как он выходил и как вернулся назад; однако по выражению ее лица даже самый наблюдательный человек не мог бы определить, какой отклик имели в ее душе его уход и возвращение.
— Ну что? — спросил король, склонившись к Шарни.
— Все складывается наилучшим образом, государь: национальная гвардия берется сопроводить завтра ваше величество в Монмеди, — отвечал граф.
— Вы приняли какое-нибудь решение?
— Да, государь, я разговаривал с их командирами. Завтра, прежде чем отправиться в путь, король изъявит желание пойти в церковь; в этой просьбе вашему величеству не смогут отказать: завтра праздник Тела Господня. Карета будет ждать короля возле паперти. Выйдя из церкви, король сядет в карету, все закричат «Виват!», а король тем временем отдаст приказание поворачивать назад и ехать в Монмеди.
— Хорошо, — согласился король, — благодарю вас, господин де Шарни; если до завтра ничто не изменится, мы поступим так, как вы говорите… А теперь вы и ваши товарищи отдохните — вам это еще более необходимо, чем нам.
Нетрудно догадаться, что прием юных девиц, добропорядочных буржуа и представителей славного дворянства продолжался до самого вечера; только в девять часов король и члены его семьи удалились на покой.
Когда они вернулись к себе, часовой у двери как бы напомнил королю и королеве, что они по-прежнему пленники.
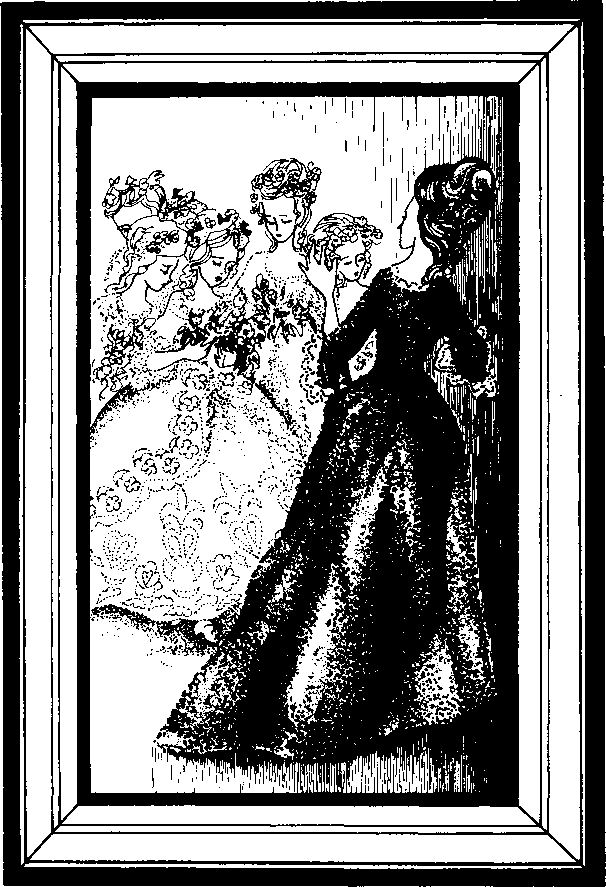
Однако часовой отдал им честь.
По тому, как, с какой безукоризненной четкостью это было выполнено перед его королевским величеством, пусть и пленным, король узнал в нем старого солдата.
— Где вы служили, мой друг? — спросил он у часового.
— Во французской гвардии, государь, — отвечал тот.
— В таком случае, — сухо заметил король, — я не удивлен тем, что вы здесь.
Людовик XVI не мог забыть, что 13 июля 1789 года солдаты французской гвардии перешли на сторону народа.
Король и королева вошли к себе. Часовой стоял у самой двери в спальню.
Час спустя, меняясь с поста, часовой попросил позволения переговорить с командующим эскортом, то есть с Бийо.
Тот ужинал на свежем воздухе в компании тех, кто прибыл из разных деревень, расположенных вдоль дороги, по которой проезжала королевская карета, и пытался уговорить их остаться на следующий день.
Но люди эти уже увидели то, что хотели, то есть короля, и больше половины из них стремились встретить праздник Тела Господня в родной деревне.
Бийо хотел их удержать, потому что аристократические настроения в городе вызывали у него немалое беспокойство.
Они же, простые деревенские жители, отвечали ему:
— Если мы не вернемся домой, то кто же поздравит завтра Господа и натянет простыни перед нашими домами?
За этими разговорами его и застал часовой.
Они стали оживленно шептаться.
Потом Бийо послал за Друэ.
Разговор продолжался втроем — такой же негромкий и оживленный, с такой же чрезмерной жестикуляцией.
После этого Бийо и Друэ отправились к смотрителю почтовой станции, другу Друэ.
Тот приказал оседлать двух коней, и десять минут спустя Бийо уже мчался по дороге на Реймс, а Друэ ехал в Витри-ле-Франсуа.
Наступило утро; от вчерашнего эскорта осталось не более шестисот человек, самых ожесточенных или самых уставших; они провели ночь под открытым небом на принесенных жителями охапках соломы. Отряхиваясь в первых лучах восходящего солнца, они видели, как двенадцать человек в военной форме вошли в интенданство, а минуту спустя выбежали во двор.
В Шалоне была расквартирована рота гвардейцев Вильруа; двенадцать человек из них еще оставались в городе.
Они только что получили приказания от Шарни.
Граф велел им быть на конях, в полной форме, у церкви к моменту выхода из нее короля.
Они спешили подготовиться к этому маневру.
Как мы уже сказали, не все крестьяне, составлявшие накануне эскорт короля, разошлись вечером из-за усталости; утром они стали подсчитывать расстояние: одни из них оказались в десяти, другие — в пятнадцати льё от родного дома. Сотни две крестьян отправились домой, несмотря на настойчивые уговоры товарищей остаться.
Самых стойких недругов короля оказалось сотни четыре, самое большее — человек четыреста пятьдесят.
Столько же, если не больше, было национальных гвардейцев, сохранивших преданность королю, не говоря о гвардейцах короля и офицерах, которых предстояло набрать, — нечто вроде священного батальона, готового на любой риск ради монарха.
Кроме того, как уже было сказано, город питал симпатии к аристократам.
Уже с шести часов утра горожане, наиболее преданные делу спасения монархии, были на ногах и собрались во дворе интендантства. Шарни и гвардейцы находились среди них и тоже чего-то ждали.
Король встал в семь часов и приказал объявить, что намерен пойти на мессу; Отправились на поиски Друэ и Бийо, чтобы передать им желание короля, но ни того, ни другого не нашли.
Таким образом, ничто не препятствовало исполнению желания короля.
Шарни поднялся к королю и доложил ему, что оба командующих эскортом отсутствуют.
Король обрадовался этому сообщению, но Шарни с сомнением покачал головой: если он и не знал Друэ, то уж Бийо-то он знал.
Впрочем, все предвещало удачу. Улицы были полны народу, и было нетрудно заметить, что все население городка относилось к королю с симпатией. Пока ставни в спальнях короля и королевы оставались притворены, толпа оберегала сон пленников: люди двигались молча и на цыпочках; собралось так много людей, что в толпе почти растворились те четыреста человек из соседних деревень, которые так и не захотели вернуться по домам.
Как только ставни в комнате венценосных супругов распахнулись, раздались громкие крики: «Да здравствует король!» и «Да здравствует королева!»; их величества, не сговариваясь, появились каждый на своем балконе.
Снова грянули единодушные приветствия, и обреченные король и королева последний раз в своей жизни могли потешить себя иллюзией.
— Ну, все идет хорошо! — заметил Людовик XVI, обращаясь со своего балкона к Марии Антуанетте.
Королева устремила глаза к небу, но промолчала.
Но вот колокольный звон возвестил о том, что церковь открыта.
В это же время Шарни тихо постучался в дверь.
— Да, граф, я готов, — отозвался король.
Шарни бросил на короля быстрый взгляд; тот был спокоен и почти тверд; он уже столько выстрадал, что можно было подумать, будто вследствие перенесенных страданий он избавлялся от присущей ему нерешительности.
Карета ждала у дверей.
Король, королева и члены королевской семьи сели в экипаж; их окружала толпа, не меньшая, чем накануне; но вместо того чтобы оскорблять пленников, эти люди ждали от них слова, взгляда, были счастливы возможностью прикоснуться к одежде короля, горды позволением коснуться губами платья королевы.
Три офицера заняли свои прежние места на козлах.
Кучеру приказали ехать в церковь, и он беспрекословно повиновался.
Да и кто мог бы отменить этот приказ, если обоих командующих эскортом по-прежнему не было?
Шарни пристально огляделся по сторонам, но не увидел ни Бийо, ни Друэ.
Прибыли в церковь.
Эскорт крестьян окружил карету, как и накануне; но с каждой минутой прибывало все больше солдат национальной гвардии: на углу каждой улицы они появлялись целыми ротами.
Подъехав к церкви, Шарни увидел, что может рассчитывать на шестьсот человек.
Для королевской семьи были приготовлены места под балдахином; хотя было всего восемь часов, священники начали торжественное богослужение.
Шарни это заметил; он ничего так не боялся, как опоздания: оно могло оказаться смертельным для надежд, которым он позволил снова себя увлечь. Он велел предупредить священника, что служба должна продолжаться не более четверти часа.
— Я понимаю и молюсь Господу о ниспослании их величествам счастливого путешествия! — таков был ответ.
Служба была окончена точно в указанное время, однако Шарни так торопился, что раз двадцать вынимал часы; король тоже не мог скрыть своего нетерпения; королева, стоя на коленях между своими детьми, склонила голову на подушку молитвенной скамеечки; мадам Елизавета стояла словно мраморное изваяние, безмятежная и просветленная: то ли потому, что ее не посвятили в планы, то ли оттого, что она уже передала жизнь брата и свою собственную жизнь в руки Господни и теперь ни о чем не беспокоилась.
Наконец священник, обернувшись, произнес сакраментальные слова: «Ite, missa est».
И спустившись по ступенькам алтаря с дароносицей в руке, он благословил короля и королевскую семью.
Те в ответ поклонились и на мысленное пожелание священника ответили шепотом: «Атеп».
После этого они пошли к выходу.
Все, кто был во время мессы вместе с ними в церкви, опустились на колени, когда королевская семья проходила мимо; губы их беззвучно шевелились, но нетрудно было догадаться, чего они желали королю и его семейству.
У выхода из церкви стояли в ожидании десять или двенадцать всадников.
Роялистский эскорт становился огромным.
Однако было очевидно, что крестьяне с их грубыми желаниями, с их оружием, не таким смертоносным, может быть, как оружие горожан, но более устрашающим — у трети из них были ружья, у остальных вилы и пики, — могли в решительную минуту одержать верх.
Это не могло не тревожить Шарни; желая подбодрить короля, от которого ждали распоряжений, граф наклонился к нему и сказал:
— Смелее, государь!
Король решился.
Он выглянул в окошко кареты и, обратившись к окружавшим ее людям, проговорил:
— Господа! Вчера в Варение надо мною было совершено насилие: я приказал отвезти меня в Монмеди, а меня силой отправили в восставшую столицу; но вчера я находился в стане мятежников, сегодня же я оказался среди верноподданных и потому повторяю: в Монмеди, господа!
— В Монмеди! — крикнул Шарни.
— В Монмеди! — подхватили гвардейцы роты Вильруа.
— В Монмеди! — повторили вслед за ними солдаты национальной гвардии Шалона.
Все хором провозгласили: «Да здравствует король!»
Карета повернула за угол и поехала той же дорогой, по которой прибыла вчера.
Шарни не сводил глаз с деревенских жителей; в отсутствие Друэ и Бийо ими командовал гвардеец, накануне стоявший на часах у двери в королевскую спальню; он приказал своим людям молча следовать за каретой, а их мрачный вид свидетельствовал о том, что им это изменение маршрута не очень нравится.
Итак, крестьяне пропустили вперед всех солдат национальной гвардии и повалили вслед за ними, образуя арьергард.
В первых его рядах шли крестьяне, вооруженные пиками, вилами и косами.
За ними шагали примерно полтораста человек, имевших при себе ружья.
Этот маневр, исполненный с такой четкостью, словно то были солдаты регулярной армии, обеспокоил Шарни; однако он не мог воспротивиться ему и, сидя на своем месте, не имел возможности даже просто потребовать объяснений.
Впрочем, очень скоро все и так объяснилось.
По мере того как карета приближалась к городской заставе, сквозь шум колес, гул толпы и крики эскорта стал доноситься какой-то грохот.
Шарни вдруг побледнел и, опустив руку на колено сидевшего рядом с ним телохранителя, проговорил:
— Все пропало!
— Почему? — спросил тот.
— Вы не узнаете этот шум?
— Похоже на барабанный бой… И что же?
— Сейчас сами увидите! — отозвался Шарни.
В это время карета выезжала на площадь.
На эту площадь выходили две улицы: одна была дорогой на Реймс, другая — на Витри-ле-Франсуа.
По обеим этим улицам двигались большие отряды солдат национальной гвардии с развернутыми знаменами и барабанами.
Один отряд насчитывал примерно тысячу восемьсот человек, другой — от двух с половиной до трех тысяч.
Отрядами командовали два всадника.
Одним из них оказался Друэ, другим — Бийо.
Шарни достаточно было увидеть, откуда движутся эти отряды, чтобы ему все стало ясно.
Необъяснимое до сих пор отсутствие Друэ и Бийо теперь было более чем понятно.
Несомненно, они были предупреждены о готовившемся в Шалоне заговоре и отправились: один — чтобы поторопить прибытие национальной гвардии Реймса, другой — чтобы позвать на подмогу национальную гвардию из Витри-ле-Франсуа.
Действовали они согласованно и прибыли вовремя.
Они приказали своим людям остановиться и полностью оцепили площадь.
Потом без дальнейших околичностей солдатам было приказано зарядить оружие.
Кортеж остановился.
Король выглянул из окна кареты и увидел, что Шарни, поднявшись во весь рост, сильно побледнел и стиснул зубы.
— Что случилось? — спросил король.
— Случилось то, государь, что наши враги получили подкрепление и теперь, как видите, заряжают ружья, а позади солдат шалонской национальной гвардии стоят уже готовые к бою крестьяне.
— Что вы обо всем этом думаете, господин де Шарни?
— Я полагаю, ваше величество, что мы оказались меж двух огней! Впрочем, если вы захотите, вы проедете, государь; правда, трудно сказать, далеко ли вашему величеству удастся уехать.
— Хорошо, — сказал король, — вернемся.
— Это окончательное решение вашего величества?
— Господин де Шарни! За меня и так уже пролито немало крови, и я горько ее оплакиваю. Я не хочу, чтобы пролилась еще хоть одна капля… Вернемся.
При этих словах к дверце подбежали два телохранителя; за ними подоспели гвардейцы из роты Вильруа. Храбрые и пылкие воины жаждали вступить в бой с третьим сословием, но король еще решительнее повторил свой приказ.
— Господа! — громко и властно проговорил Шарни. — Мы возвращаемся, такова воля короля!
Он сам взял лошадь под уздцы и развернул тяжелую карету.
При выезде на парижскую дорогу шалонская национальная гвардия стала не нужна и уступила место крестьянам, а также солдатам отрядов национальной гвардии Витри и Реймса.
— Вы считаете, что я правильно поступил, мадам? — спросил Людовик XVI у Марии Антуанетты.
— Да, государь, — отвечала та. — А вот господин де Шарни, как мне кажется, чересчур охотно с вами согласился…
И королева впала в мрачное раздумье, совсем не относящееся к тому ужасному положению, в каком они оказались.
VI
КРЕСТНЫЙ ПУТЬ (Продолжение)
Королевская карета медленно катила по парижской дороге; короля охраняли все те же двое угрюмых людей, заставившие его вернуться. Между Эперне и Дорманом Шарни, благодаря своему немалому росту и высоким козлам, увидел экипаж, запряженный четверкой мчавшихся во весь опор почтовых лошадей.
Шарни сейчас же догадался, что он везет важное сообщение или значительное лицо.
И действительно, когда экипаж поравнялся с авангардом эскорта, сидевшие в нем люди обменялись двумя-тремя словами с солдатами и в рядах авангарда образовался проход, а солдаты взяли на караул.
Королевская берлина остановилась, послышались громкие крики.
Все хором скандировали: «Да здравствует Национальное собрание!»
Экипаж, кативший со стороны Парижа, подъехал к королевской берлине.
Оттуда вышли три господина, двое из которых были совершенно незнакомы августейшим пленникам.
Третьего королева узнала, когда голова его показалась в окне экипажа, и она шепнула Людовику XVI на ухо:
— Господин де Латур-Мобур, тень Лафайета!
Покачав головой, она прибавила:
— Нам это не предвещает ничего хорошего.
Из троих вновь прибывших вперед вышел самый старший и, резким движением распахнув дверцу королевской кареты, объявил:
— Я — Петион, а это — господа Барнав и Латур-Мобур, посланные вместе со мной Национальным собранием для эскорта, чтобы разгневанный народ не учинил над вами самосуда. Потеснитесь же и дайте нам место.
Королева метнула в депутата от Шартра и двух его товарищей такой высокомерный взгляд, на какой была способна только гордая дочь Марии Терезии.
Господин де Латур-Мобур, галантный придворный, вышколенный Лафайетом, не выдержал этого взгляда.
— Их величествам и так тесно в карете, — заметил он, — я сяду в экипаж свиты.
— Садитесь куда хотите, — отозвался Петион, — а мое место — в карете короля и королевы, сюда я и сяду.
С этими словами он шагнул в карету.
Заднее сидение занимали король, королева и мадам Елизавета.
Петион обвел их взглядом и обратился к мадам Елизавете:
— Прошу прощения, сударыня, но мне как представителю Собрания по праву принадлежит почетное место. Будьте любезны встать и пересесть вперед.
— Этого только недоставало! — прошептала королева.
— Сударь!.. — заикнулся было король.
— Да, вот так; ну же, вставайте, сударыня, и уступите мне свое место.
Мадам Елизавета встала и пересела вперед, знаком попросив брата и невестку не вступать в спор.
Тем временем г-н де Латур-Мобур отправился просить места у двух дам в кабриолете, безусловно, с большей вежливостью, чем это только что проделал Петион по отношению к королю и королеве.
Барнав продолжал стоять, не решаясь сесть в берлину, где и так уже теснилось семь человек.
— А вы что же, Барнав? — поинтересовался Петион. — Вы едете или нет?
— Да куда же мне сесть? — в смущении спросил Барнав.
— Не угодно ли на мое место, сударь? — ядовито прошипела королева.
— Благодарю вас, ваше величество, — задетый за живое, отвечал Барнав, — я согласен и на переднее сиденье.
Мадам Елизавета с прежним смирением придвинула к себе поближе юную принцессу, а королева посадила дофина на колени.
Таким образом место на переднем сиденье освободилось, и Барнав сел как раз напротив королевы, почти касаясь коленями ее коленей.
— Ну, пошел! — приказал Петион, не спрашивая позволения короля.
И карета двинулась в путь, а за ней — кортеж с криками: «Да здравствует Национальное собрание!»
Так в лице Барнава и Петиона в карету короля уселся простой люд.
Что касается оснований на это, он их получил еще 14 июля, а также 5 и 6 октября.
Наступило молчание; все, кроме Петиона, замкнувшегося в своей суровости и казавшегося ко всему равнодушным, разглядывали остальных.
С позволения читателя мы скажем несколько слов о только что появившихся на сцене действующих лицах.
Жерому Петиону, называемому также де Вильнёвом, было на вид года тридцать два; у него были грубые черты лица, и все его достоинства заключались в восторженности, а также в четком и добросовестном следовании своим политическим принципам. Он родился в Шартре, там же стал адвокатом, потом, в 1789 году, его послали в Париж в качестве члена Национального собрания. Ему суждено было стать мэром Парижа, насладиться популярностью, превзошедшей известность таких людей, как Байи и Лафайет, и погибнуть в бордоских ландах, где он был растерзан волчьей стаей. Друзья называли его «добродетельным Петионом». Он да еще Камилл Демулен уже были республиканцами, когда во Франции о таком, кроме них, еще никто не имел понятия.
Пьер Жозеф Мари Барнав родился в Гренобле; ему было не более тридцати лет; будучи избран в Национальное собрание, он сделал себе имя и стал весьма популярен благодаря борьбе с Мирабо в то время, когда звезда депутата от Экса уже закатывалась. Все те, кто считал себя врагами великого оратора — а Мирабо пользовался привилегией гениального человека числить своим врагом любую посредственность, — стали друзьями Барнава; они его поддерживали, возвышали, возвеличивали в бурных схватках, сопровождавших последние годы жизни прославленного трибуна. Это был — мы говорим о Барнаве — тридцатилетний молодой человек; как мы уже сказали, он выглядел не более чем на двадцать пять лет; у него были огромные голубые глаза, большой рот, вздернутый нос, пронзительный голос. Впрочем, он был довольно изящен, слыл забиякой и дуэлянтом, был похож на молодого офицера в цивильном платье. Он производил впечатление сухого, холодного и злобного человека, однако на самом деле был лучше, чем мог показаться на первый взгляд.
Он принадлежал к партии конституционных роялистов.
В ту минуту как он занимал место на переднем сиденье напротив королевы, Людовик XVI сказал:
— Господа! Я с самого начала вам заявляю, что в мои намерения не входило покидать пределы королевства.
Не успев сесть, Барнав замер и посмотрел на короля.
— Вы говорите правду, государь? — спросил он. — В таком случае, это слова, которые спасут Францию.
И он сел.
И произошло нечто необъяснимое между этим человеком, выходцем из буржуазии небольшого провинциального городка, и женщиной, наполовину низвергнутой с одного из величайших тронов мира.
Оба они пытались прочесть мысли друг друга, и не как политические враги, надеющиеся обнаружить какую-нибудь государственную тайну, а как мужчина и женщина, пытающиеся постичь тайну любви.
Каким образом закралось в сердце Барнава это чувство, а через несколько минут было замечено проницательной Марией Антуанеттой?
Об этом мы и поведаем, обнародовав одну из тех записных табличек сердца, что составляют тайные легенды истории и в дни великих судьбоносных решений способны перевесить тяжелые тома с пересказом официальных событий.
Барнав, претендовавший во всем на роль последователя и преемника Мирабо, считал, что он уже занял место великого оратора на трибуне.
Однако оставалась еще одна сторона дела.
В глазах всех — мы-то знаем, как это обстояло в действительности, — Мирабо был удостоен доверия короля и благосклонности королевы. Одна-единственная встреча для переговоров, которой ему удалось добиться в замке Сен-Клу, разрослась в сплетнях в многочисленные тайные аудиенции, причем самомнение Мирабо обратилось в дерзость, а снисходительность королевы — в слабость. В описываемые нами времена было принято не только клеветать на бедную Марию Антуанетту, но и верить в эту клевету.
В своих честолюбивых мечтаниях Барнав доходил до того, что хотел во всем быть преемником Мирабо; вот почему он так упорно боролся за это назначение, чтобы вместе с двумя другими комиссарами его отправили навстречу королю.
Он был назначен и приехал сюда с уверенностью в том, что, в случае если ему не хватит таланта заставить себя полюбить, ему достанет, по крайней мере, могущества вызвать к себе ненависть.
Королеве было довольно быстрого женского взгляда, чтобы если не угадать, то почувствовать все это. Кроме того, она догадалась, что главным образом заботило Варнава в эти минуты.
За четверть часа, пока молодой депутат сидел напротив нее, он раз шесть обернулся, пристально вглядываясь в троих сидевших на козлах людей, а с козел переводил взгляд на королеву, всякий раз все более суровый и враждебный.
Барнаву было известно, что один из этих троих — кто именно, он не знал — граф де Шарни, тот самый, кого молва называла любовником королевы.
Барнав был ревнив. Пусть желающие попытаются объяснить это чувство в душе молодого человека, но дело обстояло именно так.
Вот о чем догадалась королева.
И с той минуты как она об этом догадалась, она почувствовала себя сильной: она знала уязвимое место противника и теперь оставалось лишь ударить и не промахнуться.
— Государь, вы слышали, что сказал человек, который возглавляет кортеж? — обратилась она к королю.
— По какому поводу, мадам? — не понял король.
— По поводу господина графа де Шарни.
Барнав встрепенулся.
Охватившая его дрожь не ускользнула от внимания королевы, коснувшейся его коленом.
— Кажется, он заявил, что берет на себя ответственность за жизнь графа, — заметил король.
— Совершенно верно, государь; он еще прибавил, что отвечает за его жизнь перед графиней.
Барнав прикрыл глаза, но слушал так, чтобы не пропустить ни единого звука из того, о чем говорила королева.
— Так что же? — продолжал король.
— Графиня де Шарни — моя старинная приятельница мадемуазель Андре де Таверне. Не думаете ли вы, государь, что, когда мы вернемся в Париж, было бы хорошо отпустить господина де Шарни, чтобы он мог успокоить свою супругу? Он подвергался огромному риску; его брат погиб за нас. Я считаю, государь, что задерживать его у нас на службе было бы жестоко по отношению к обоим супругам.
Барнав с облегчением вздохнул и раскрыл глаза.
— Вы правы, мадам, — отозвался король, — хотя, по правде говоря, я сомневаюсь, что господин де Шарни согласится на это.
— В этом случае, — сказала королева, — каждый из нас поступил бы так, как должно: мы — предложив г-ну де Шарни отпуск, а он — отказавшись от него.
Королева почувствовала благодаря установившейся между нею и Барнавом магнетической связи, как раздражение молодого депутата мало-помалу проходит. Более того, великодушный молодой человек понял, как он был несправедлив к этой женщине, и устыдился.
До сих пор он свысока, вызывающе поглядывал на нее, словно судья, в чьей власти осудить на смерть, и вдруг эта подсудимая будто в ответ на обвинение, которое она не могла угадать, произнесла слова, свидетельствовавшие то ли о ее невиновности, то ли о ее раскаянии.
Но почему о невиновности?
— Нас решительно не в чем упрекнуть, — продолжала королева, — ведь мы не брали с собою господина де Шарни, и я лично была уверена, что он в Париже, как вдруг он появился у дверцы нашей кареты.
— Это верно, — подтвердил король, — но вот вам лишнее доказательство, что графа не нужно понукать, когда он выполняет то, что считает своим долгом.
Она была невиновна, сомнений в этом больше быть не могло.
О! Как Барнаву испросить у королевы прощение за то, что он дурно о ней думал как о женщине?
Заговорить с королевой? Барнав не решался. Обождать, пока королева заговорит сама? Но королева, довольная произведенным эффектом, молчала.
Барнав снова стал мягким, почти покорным, он не сводил с королевы умоляющего взгляда; однако она делала вид, что совершенно не интересуется Барнавом.
Молодой человек впал в нервную экзальтацию: ради того чтобы привлечь внимание этой женщины, он готов был совершить двенадцать подвигов Геракла с риском погибнуть уже при первом из них.
Он молил Верховное Существо — в 1791 году у Бога уже ничего не просили — предоставить ему хоть малейшую возможность привлечь внимание безразличной королевы, как вдруг (можно было подумать, что Верховное Существо в самом деле услышало обращенную к нему мольбу) на обочине дороги появился бедный священник, ожидавший проезда королевской кареты; он подошел поближе к венценосному пленнику, поднял к небу руки и полные слез глаза, говоря:
— Государь! Да хранит Господь ваше величество!
У черни давно уж не было ни случая, ни повода сорвать на ком-нибудь свою ярость — с того самого времени, как крестьяне в клочья растерзали старого кавалера ордена Святого Людовика, и теперь его голова продолжала следовать за королевской каретой на острие пики.
И вот представился удобный случай — народ с готовностью за него ухватился.
На поступок старика, на молитву, которую он произнес, толпа ответила грозным воем и, прежде чем Барнав очнулся от задумчивости, набросилась на священника, опрокинула его на землю, собираясь растерзать; королева в ужасе закричала, обращаясь к Барнаву:
— О сударь, разве вы не видите, что происходит?
Барнав поднял голову и бросил торопливый взгляд на океан, кативший вокруг кареты бурные рокочущие волны, только что поглотившие несчастного старика. Увидев, о чем идет речь, он вскричал: «Негодяи!» — и рванулся с такой силой, что дверца кареты распахнулась; он несомненно выпал бы, если бы мадам Елизавета по доброте душевной не придержала его за полу сюртука.
— О дикие звери! Либо вы не французы, либо Франция, родина храбрецов, превратилась в страну убийц!
Такое обращение, возможно, покажется нам несколько высокопарным, но оно было в духе времени. Кстати сказать, Барнав представлял Национальное собрание; его устами вещал орган верховной власти: толпа отступила, старик был спасен.
Он поднялся на ноги со словами:
— Вы хорошо сделали, что спасли меня, молодой человек, старик будет за вас молиться.
Осенив себя крестным знамением, он удалился.
Народ расступился перед священником, подчиняясь жесту и взгляду Варнава, напоминавшего статую власти.
Когда старик был уже далеко, молодой депутат спокойно и просто сел на прежнее место, словно не подозревая, что минуту тому назад спас человеку жизнь.
— Благодарю вас, сударь, — произнесла королева.
Этих слов оказалось достаточно, чтобы Варнав вздрогнул всем телом.
За весь долгий путь, который мы прошли вместе с несчастной Марией Антуанеттой, бывали, бесспорно, времена, когда она выглядела более красивой, но никогда еще она не была столь трогательной.
Действительно, не имея возможности властвовать как королева, она царствовала как мать: по левую руку от нее сидел дофин, прелестный белокурый мальчуган, перебравшийся с детской беззаботностью и непосредственностью с рук матери на колени к добродетельному Петиону, и тот расчувствовался до такой степени, что стал играть его кудрявыми прядями; справа от королевы сидела ее дочь-принцесса, вылитая мать в расцвете юности и красоты. Наконец, над ней самой вместо золотого королевского венца как бы реял терновый венец страданий, а черные глаза и бледное чело были обрамлены восхитительными белокурыми волосами, в которых сверкало несколько преждевременных серебряных нитей, взывавших к сердцу молодого депутата красноречивее, чем самая горькая жалоба.
Он любовался ее царственным изяществом и чувствовал, что вот-вот падет на колени пред этим угасающим величием, как вдруг дофин вскрикнул от боли.
Малыш допустил по отношению к добродетельному Петиону какую-то шалость, и тот счел себя вправе его наказать, сильно дернув мальчика за ухо.
Король побагровел от гнева; королева побледнела от стыда. Она протянула руки и вырвала ребенка, зажатого между колен у Петиона, а так как Варнав сделал то же движение, что и королева, дофин, поднятый сразу четырьмя руками и притянутый к себе Барнавом, оказался на коленях депутата.
Мария Антуанетта хотела было пересадить его к себе.
— Нет, — отказался дофин, — мне здесь хорошо.
Заметив движение королевы, Варнав развел руки в стороны, чтобы не препятствовать исполнению ее воли, но королева — было это материнским кокетством или женским обольщением? — оставила дофина там, где он был.
В это время в душе Барнава произошло нечто непередаваемое: он был и горд и счастлив.
Мальчик стал играть кружевным жабо Барнава, потом его поясом, потом пуговицами его депутатского сюртука.
Эти пуговицы в особенности заинтересовали юного принца: на них был выгравирован какой-то девиз.
Дофин называл буквы одну за другой и, наконец, соединив их между собой, прочел следующие четыре слова: «Жить свободным или умереть».
— Что это значит, сударь? — спросил мальчик.
Барнав замялся.
— Это значит, малыш, что французы поклялись не иметь больше хозяина, — пояснил Петион, — понятно?
— Петион! — остановил его Барнав.
— Ну, объясни этот девиз иначе, — нимало не смутившись, отозвался Петион, — если, конечно, ты знаешь другой его смысл.
Барнав умолк. Девиз, который он еще накануне считал возвышенным, в этих обстоятельствах казался ему почти жестоким.
Он взял руку дофина и почтительно коснулся ее губами.
Королева украдкой смахнула набежавшую слезу.
А карета, передвижная сцена этой необычной, но чрезвычайно простой драмы, катила дальше под угрожающие крики толпы, увозя на смерть шестерых из восьми пассажиров.
Но вот они прибыли в Дорман.
Дальше: VII КРЕСТНЫЙ ПУТЬ (Продолжение)

