Книга: Дюма. Том 02. Асканио
Назад: XV О ТОМ, КАК РАДОСТЬ ОБОРАЧИВАЕТСЯ ГОРЕМ
Дальше: VI КАРЛ V В ФОНТЕНБЛО
Часть вторая
I
ЧЕЛОВЕК, ТОРГУЮЩИЙ СОВЕСТЬЮ
Наступил день, когда Коломбу должны были представить королеве.
Перенесемся мысленно в один из залов Луврского дворца; здесь собрался весь двор, чтобы сразу после обедни отправиться в Сен-Жермен: дожидаются лишь выхода короля и королевы. Сидят только несколько дам; большинство придворных стоят или прогуливаются по залу, беседуя вполголоса; шуршат парчовые и шелковые платья; в тесноте шпага задевает за шпагу; встречаются сияющие нежностью или горящие ненавистью глаза; влюбленные шепотом назначают свидания, соперники вызывают друг друга на дуэль; блестящий поток знати ошеломляет своим великолепием. Наряды, сшитые по последней моде, роскошны; лица дам очаровательны. На этом пышном и до смешного пестром фоне выделяются одетые на итальянский или испанский манер пажи со шпагой у пояса; они стоят неподвижно, как статуи, положив руку на бедро. Впрочем, было бы бесполезно пытаться изобразить ослепительную, полную блеска и живых красок картину королевского двора: сколько бы мы ни старались это сделать, у нас получилась бы лишь тусклая и неудачная копия. Попробуйте вдохнуть жизнь в галантных и насмешливых кавалеров, оживите изящных и остроумных дам "Гептамерона" и Брантома, вложите в их уста подлинно французский язык XVI века — яркий, сочный, естественный, и вы получите представление о прекрасном дворе Франциска I, особенно если припомните слова этого монарха: "Двор без дам — это год без весны и весна без цветов". И в самом деле, двор Франциска I олицетворял собой вечную весну, благоухавшую самыми прекрасными, благородными цветами.
Освоившись со всем этим шумом и суетой и присмотревшись к толпе придворных, каждый без труда заметил бы, что она разделялась на два лагеря. Отличительным признаком лагеря герцогини д’Этамп служил лиловый цвет; синий — указывал на принадлежность к лагерю Дианы де Пуатье. Сторонники герцогини являлись тайными поборниками реформы, их противники — ревностными католиками. Среди приверженцев Дианы де Пуатье можно было видеть дофина — человека с невыразительным, бесцветным лицом; в лагере герцогини д’Этамп то и дело мелькало умное, живое лицо и золотистые кудри Карла Орлеанского, второго сына Франциска. Дополните эту картину политической и религиозной распри ревностью дам, соперничеством художников и поэтов — и вы получите довольно полное представление о ненависти, царившей при дворе Франциска I, что поможет вам понять причину злобных взглядов и угрожающих жестов, которые невозможно было скрыть от наблюдательного взора, несмотря на все лицемерие придворных. Главные враги — Диана де Пуатье и Анна д’Этамп — сидят в противоположных концах огромного зала; и все же каждая насмешка, брошенная одной из соперниц, вмиг достигает слуха другой, и столь же быстро, благодаря усердию множества досужих сплетников, приходит разящий ответ.
Среди разряженных в шелка и бархат вельмож расхаживает в своей длинной докторской мантии мрачный и равнодушный к остротам, да и ко всему окружающему, Анри Этьен, всецело преданный партии реформистов; а в двух шагах от него стоит, прислонясь к колонне, столь же ко всему равнодушный, печальный и бледный Пьетро Строцци — эмигрант из Флоренции; наверное, он видит в мечтах покинутую родину, куда ему суждено будет вернуться пленником и обрести покой лишь в могиле. Пожалуй, излишне говорить, что этот благородный эмигрант — по женской линии родственник Екатерины Медичи — всей душой принадлежит партии католиков.
Вот проходят, беседуя о важных государственных делах и поминутно останавливаясь друг против друга, словно для того чтобы придать больше веса своим словам, старик Монморанси, которого король каких-нибудь два года назад возвел в должность коннетабля, вакантную со времени опалы Бурбонов, и канцлер Пуайе, гордый недавно введенным им налогом на лотереи и собственноручно подписанным в Виллер-Котре указом.
Держась обособленно и ни с кем не вступая в разговор, расхаживает, сверкая белозубой улыбкой, бывший бенедиктинец, а ныне францисканец Франсуа Рабле. Он все вынюхивает, высматривает, ко всему прислушивается и все высмеивает. А горбун Трибуле, любимый шут его величества, бросается всем под ноги со своим неистощимым запасом шуточек и, пользуясь положением любимца и карлика, высмеивает то одного, то другого — в общем, довольно забавно, хотя и не всегда безобидно.
Что же касается Клемана Маро, великолепного в своем новехоньком, с иголочки мундире королевского камердинера, то он выглядит не менее смущенным, чем на приеме у герцогини д’Этамп. Видно, в кармане поэта и теперь лежит новоиспеченное стихотворение или какой-нибудь сиротливый сонет, и он ждет случая преподнести его под видом импровизации. Увы! Всем известно, что вдохновение нисходит свыше и мы над ним не властны. Вот и ему пришли в голову восхитительные стихи о госпоже Диане. Он пытался бороться, но ведь муза не возлюбленная, а повелительница: стихи получились сами собой, рифмы каким-то чудом нанизывались одна на другую, и теперь злосчастный мадригал невообразимо терзал его. Имей Маро власть над собой, он, разумеется, посвятил бы его герцогине д’Этамп или Маргарите Наваррской, в этом не могло быть ни малейшего сомнения — ведь поэт всей душой тяготел именно к партии протестантов. Быть может, этот проклятый мадригал и привязался к нему в ту минуту, когда он силился сочинить эпиграмму на госпожу Диану; как бы то ни было, а превосходные стихи, посвященные католичке, появились на свет Божий. Можно ли было удержаться и вопреки своей приверженности к партии протестантов не продекламировать их хотя бы вполголоса кому-нибудь из друзей, понимающих толк в литературе!
И бедняга Маро не удержался. Нескромный кардинал де Турнон, перед которым поэт излил свою пылкую душу, нашел эти стихи такими прекрасными, такими блестящими и великолепными, что, в свою очередь, не утерпел и пересказал их герцогу Лоранскому, а тот не замедлил передать их госпоже Диане. И тотчас же в лагере "синих" пошло шушуканье; поэта подозвали, его упросили, заставили прочесть стихи. "Лиловые", увидя, как Маро пробирается сквозь толпу к Диане, тоже приблизились и окружили испуганного и польщенного поэта. Наконец и сама герцогиня д’Этамп поднялась с места и с любопытством поглядела в сторону "синих". "Только для того, чтобы увидеть, — сказала она, — сумеет ли этот плут Маро, всегда такой остроумный, достойно воспеть госпожу Диану".
Несчастный поэт поклонился улыбающейся ему Диане де Пуатье и уже собирался начать читать стихи, но, обернувшись, увидел герцогиню д’Этамп, которая тоже ему улыбалась; однако если улыбка Дианы была полна благосклонности, в улыбке герцогини д’Этамп таилась угроза. Итак, пригреваемый с одной стороны и обдаваемый ледяным холодом — с другой, бедный Маро дрожащим, запинающимся голосом пролепетал свои стихи:
Подчас, признаться, стать хотел бы
Фебом,
Но не затем, чтоб исцелять я мог Боль сердца, мне ниспосланную Богом, — Ведь с болью, от которой изнемог,
Не в силах сладить никакой зарок,
И не затем, чтоб стрелами его Сердца пронзать… Соперничать напрасно Мне с королем. Хочу лишь одного — Любимым быть Дианою прекрасной.
Едва прозвучали последние слова изящного мадригала, "синие" разразились аплодисментами; "лиловые" хранили гробовое молчание. Ободренный похвалами и задетый за живое враждебными взглядами "лиловых", поэт решительно подошел к Диане де Пуатье и преподнес ей свое творение.
— Диане прекрасной, — произнес он вполголоса, склонясь перед красавицей. — Вы понимаете меня, мадам? Прекраснейшей из прекрасных, несравненной!
Диана поблагодарила Маро выразительным взглядом, и он отошел.
— Почему бы не посвятить один мадригал прекрасной даме? Ведь до сих пор я посвящал свои стихи прекраснейшей из всех, — виновато сказал Маро, проходя мимо герцогини д’Этамп. — Помните — "Властительнице гордой всех сердец"?
Вместо ответа Анна пронзила Маро грозным взглядом.
Все это время две небольшие группы держались в стороне от толпы придворных. Первую составляли небезызвестные нам Асканио и Бенвенуто Челлини, имевшие слабость предпочитать мадригалам "Божественную комедию". Во второй были столь же хорошо нам знакомые граф д’Орбек, виконт де Мармань, мессир д’Эстурвиль и Коломба, упросившая отца не смешиваться с толпой придворных; она впервые находилась среди этих людей, и они не внушали ей ничего, кроме страха. Граф д’Орбек, желая быть галантным, не захотел оставить невесту, которую отец привез во дворец, чтобы после обедни представить королеве.
Асканио и Коломба, хотя и были очень взволнованы, тотчас же заметили друг друга и то и дело украдкой переглядывались. Оба чистые и застенчивые, выросшие в возвышающем душу одиночестве, они чувствовали бы себя затерянными среди этой блестящей и испорченной знати, если бы не встретились здесь и не имели возможности обмениваться ободряющими взглядами.
Они так и не виделись с того самого дня, когда Асканио узнал о любви Бенвенуто к Коломбе. Асканио раз десять безуспешно пытался попасть в Малый Нельский замок. Но, когда бы он ни явился, вместо Перрины его встречала теперь новая дуэнья, приставленная к Коломбе графом д’Орбеком, которая каждый раз безжалостно его выпроваживала. А бедный Асканио не был ни достаточно богат, ни достаточно предприимчив, чтобы завоевать расположение этой женщины. К тому же он мог сообщить своей возлюбленной лишь печальные вести, а с ними можно было и повременить. Ведь если Бенвенуто сам признался ему в своей любви к Коломбе, бедные влюбленные не смели больше рассчитывать на помощь художника — напротив, они вынуждены были его опасаться.
Отныне Асканио, как он уже сказал об этом Челлини, оставалось надеяться только на Божью помощь. По своей наивности молодой человек решил тронуть сердце герцогини д’Этамп. Когда из-под ног человека ускользает почва, он готов ухватиться за соломинку. Всесокрушающая мощь Бенвенуто была теперь не только бесполезна для Асканио — она могла в любой момент обратиться против него. Но он был молод и потому верил, что ему удастся затронуть в душе герцогини струны великодушия и человеколюбия, внушить ей сострадание к любимому ею человеку. А если и эта соломинка выскользнет у него из рук, ему останется отдаться течению и ждать — ведь он беззащитен и одинок. Потому-то он и явился вместе с Бенвенуто Челлини ко двору короля Франциска.
Госпожа д’Этамп вернулась на место. Асканио, смешавшись со свитой герцогини, пробрался к самому ее креслу. Она оглянулась и увидела его.
— Ах, это вы, Асканио! — довольно холодно произнесла знатная дама.
— Да, мадам. Я пришел сюда со своим учителем Бенвенуто Челлини и осмелился потревожить вас. Меня очень беспокоит рисунок лилии, которую вы соблаговолили мне заказать. Я оставил на днях рисунок у вас во дворце. Быть может вы, недовольны им?
— Нет, нет, напротив, рисунок мне очень по душе, — более мягко ответила герцогиня. — Я показывала его такому ценителю, как господин де Гиз, и он вполне согласился со мной. Но сумеете ли вы так же хорошо выполнить и золотой цветок? А если вы уверены в своем мастерстве, то хватит ли вам для работы драгоценных камней?
— О да, госпожа герцогиня, думаю, что хватит. Хорошо бы украсить венчик цветка крупным бриллиантом, похожим на каплю росы. Но, быть может, это слишком дорогой материал для такого скромного мастера, как я?
— Мы вполне можем позволить себе такой пустяк!
— Однако бриллиант такой величины стоит по меньшей мере двести тысяч экю.
— Хорошо, хорошо, я согласна. — И, понизив голос, герцогиня добавила: — Асканио, не окажете ли вы мне небольшую услугу?
— Я всегда готов служить вам, ваша светлость.
— Только что, слушая болтовню этого Маро, я заметила там, в конце зала, господина д’Орбека. Так вот, прошу вас, подойдите к нему и скажите, что я желаю с ним говорить.
— К графу?! — воскликнул Асканио, побледнев.
— Да. Разве вы не сказали, что готовы мне служить? — высокомерно спросила герцогиня. — Мне хочется, чтобы вы присутствовали при нашем разговоре и кое о чем поразмыслили, если, впрочем, влюбленные вообще способны размышлять; поэтому я и даю поручение именно вам.
— Я повинуюсь, — ответил Асканио, боясь прогневить герцогиню, от которой зависела теперь его судьба.
— Вот и прекрасно. Говорите с графом только по-итальянски, у меня есть на то свои причины, и возвращайтесь вместе с ним.
И Асканио, боясь вновь прогневить свою опасную покровительницу, покорно отправился выполнять поручение; обратившись к какому-то молодому дворянину в костюме, украшенном лиловыми лентами, он спросил, не может ли тот указать ему графа д’Орбека.
— Да вот он! Видите эту старую обезьяну, которая стоит рядом с очаровательной девушкой и разговаривает с парижским прево?
Очаровательной девушкой была Коломба, на которую с любопытством поглядывали придворные щеголи. Что же касается старой обезьяны, то есть графа, он и в самом деле показался Асканио просто отвратительным, чего только и может пожелать один соперник другому. Поглядев издали на графа д’Орбека, Асканио, к великому изумлению Колом-бы, подошел к нему и передал по-итальянски приглашение г-же д’Этамп. Граф д’Орбек извинился перед невестой и друзьями и поспешил к герцогине; Асканио последовал за ним, бросив ободряющий взгляд бедной Коломбе, встревоженной этим странным поручением, а главное — выбором посланца.
— А, здравствуйте, граф! Рада вас видеть! — воскликнула герцогиня д’Этамп. — Мне надо сообщить вам нечто очень важное… Господа, — обратилась она к придворным, — их величества выйдут, наверное, минут через пятнадцать; с вашего разрешения, я воспользуюсь этим временем и побеседую с моим старым другом графом д’Орбеком.
Теснившиеся вокруг герцогини дворяне, столь бесцеремонно выпровоженные, поспешили удалиться и оставили ее наедине с королевским казнохранителем в одной из оконных ниш, не менее просторной, чем наши нынешние салоны. Асканио хотел было последовать за ними, но герцогиня жестом удержала его.
— Кто этот юноша? — спросил граф.
— Это мой паж, итальянец; можете говорить при нем так же свободно, как если бы мы были одни: он ни слова не понимает по-французски.
— Прекрасно! — ответил граф. — До сих пор я повиновался вам слепо, герцогиня, не пытясь вникать в суть ваших приказаний. Вы пожелали, чтобы моя будущая супруга была представлена сегодня королеве, и вот Коломба с отцом уже здесь. Но теперь, когда я исполнил ваше желание, мне хотелось бы знать, зачем я это сделал. Не соблаговолите ли вы хоть теперь, мадам, объяснить мне, в чем дело?
— Вы самый преданный из моих друзей, д’Орбек; не знаю, сумею ли я когда-нибудь отплатить вам за все ваши услуги; к счастью, мне предстоит еще много сделать для вас. Будем надеяться, что это мне удастся, ведь полученное вами место казнохранителя лишь начало, фундамент, на котором я воздвигну здание вашего благополучия, граф.
— О мадам! — воскликнул граф, отвешивая низкий поклон.
— Поэтому я буду с вами предельно откровенна, граф. Но разрешите сначала похвалить ваш выбор. Я только что видела Коломбу. Она прелестна; чуть застенчива, правда, но это придает девушкам особое очарование. И все же, хоть я хорошо вас знаю, граф, сколько я ни ломала голову, никак не могу понять, что заставляет вас вступать в этот брак; вас, человека солидного, рассудительного и, уж, конечно, не питающего слабости к женской свежести и красоте. Что-то за всем этим кроется — ведь вы такой предусмотрительный человек!
— Как вам сказать, герцогиня… Рано или поздно надо же на ком-нибудь жениться. Ну и потом старый пройдоха оставит по завещанию немалое состояние своей дочери.
— Сколько же ему лет?
— Не то пятьдесят пять, не то пятьдесят шесть.
— А вам, граф?
— Гм… и мне почти столько же, но старик выглядит совсем дряхлым.
— Ну наконец-то я узнаю вас, граф! Правда, я и так была уверена, что вы гораздо выше пошлой чувствительности и не могли плениться прелестями этой девочки.
— Фи, мадам! Да мне и в голову не могла прийти такая чепуха! Будь девушка хоть уродиной, мне все едино; ну, а раз она красива, тем лучше.
— В добрый час, граф! Очень рада, что мне не пришлось в вас разочароваться.
— Не соблаговолите ли вы теперь сказать, мадам…
— Я мечтаю создать вам блестящую будущность, д’Орбек, — прервала его герцогиня. — Мне очень хотелось бы видеть вас на месте этого Пуайе. Я так его ненавижу! — И герцогиня бросила полный ненависти взгляд на канцлера, все еще расхаживавшего с коннетаблем по залу.
— Как! Вы прочите мне одну из высших должностей в государстве?
— Отчего бы и нет, граф! Вы для этого достаточно знатны. Но, увы, моя власть над королем так непрочна — она прямо-таки висит на волоске. Вот и сейчас я нахожусь в смертельной тревоге. Дело в том, что у короля новая фаворитка, по имени Ферон. Если эта особа окажется еще и честолюбивой, мы с вами пропали. Впрочем, я сама виновата: надо было заранее принять меры. Но где сыщешь вторую герцогиню де Бриссак, которую я нашла когда-то для его величества! Мне так трудно утешиться в ее утрате. Слабенькая, нежная, она была настоящим ребенком и к тому же совсем неопасна; бедняжка только и твердила королю о моих достоинствах. Несчастная Мари! Она приняла на себя все тяготы моего положения, оставив мне одни преимущества. А от этой Фероньерши, как ее прозвали при дворе, короля надо во что бы то ни стало отвлечь! Но я израсходовала весь арсенал своих чар, и теперь мой единственный козырь — привычка.
— Возможно ли, герцогиня?
— Увы, это так! Я владею только умом короля, а сердце его принадлежит другой. Понимаете ли, граф, мне нужна помощница, преданная и верная, на которую я могла бы вполне положиться. Я осыпала бы ее милостями, озолотила бы! Но где найти такое сокровище, д’Орбек? Помогите мне! Вы даже не подозреваете, что в душе Франциска Первого идет вечная борьба между монархом и человеком и что иной раз человек оказывается сильней монарха. Ах, если бы мы властвовали над ним вдвоем не как соперницы, а как союзницы, если бы мы были не просто фаворитками, а подругами, если бы одна из нас управляла королем Франциском Первым, а другая — просто Франциском, — о!., тогда вся Франция оказалась бы в наших руках! И в какой момент, граф! Когда Карл Пятый сам спешит броситься в наши сети. Воспользовавшись его безрассудством, мы могли бы обеспечить себе блестящую будущность. Открою вам свои планы, д’Орбек: эта Диана, которая вам так нравится, потеряла бы в один прекрасный день всякую власть над нашей судьбой и некий граф мог бы стать… Но вот и король!
Так действовала герцогиня д’Этамп: она редко что-либо объясняла, предпочитая прибегать к намекам; она внушала человеку мысли и чувства, разжигала в нем честолюбие, алчность, дурные наклонности и вовремя умолкала. Великое искусство, которое не мешало бы познать большинству влюбленных и поэтов!
Граф д’Орбек, человек безнравственный, жадный к деньгам и почестям, прекрасно понял герцогиню, тем более что в продолжении разговора взгляд ее не раз обращался в сторону Коломбы. У Асканио же была настолько прямая и честная натура, что он даже не мог постигнуть все вероломство, всю низость этой затеи, однако он смутно почувствовал в мрачных и страшных словах герцогини какую-то страшную угрозу для своей Коломбы и с ужасом глядел на герцогиню.
Дворецкий объявил о выходе короля и королевы. Придворные мгновенно вскочили и, обнажив головы, застыли в неподвижности.
— Да хранит вас Бог, господа! — сказал, входя, Франциск I. — Должен сообщить вам важную новость: наш любезнейший брат, император Карл Пятый, находится сейчас на пути во Францию, а быть может, уже пересек границу. Приготовимся же достойно встретить императора Карла! Полагаю, что нет нужды напоминать моему верному дворянству, к чему его обязывают законы гостеприимства. В лагере Дра-д’Ор мы уже доказали, что умеем принимать королей. Менее чем через месяц Карл Пятый будет в Лувре.
— А я, господа, заранее благодарю вас за прием, который вы окажете моему царственному брату, — нежным голосом прибавила королева Элеонора.
В ответ раздались громкие возгласы:
— Да здравствует король!
— Да здравствует королева!
— Да здравствует император!
В этот миг, пробравшись сквозь толпу придворных, к королю подбежал шут Трибуле.
— Ваше величество! — воскликнул он. — Позвольте посвятить вам труд, который я собираюсь напечатать.
— Охотно, шут; но сначала скажи, как ты назовешь его и о чем там идет речь?
— Я назову его "Альманах глупцов", государь, ибо он будет содержать перечень величайших глупцов, каких когда-либо носила земля. А на первой странице я уже вывел имя короля всех бывших и будущих глупцов.
— Ну, и кто же, интересно, этот достойный мой собрат, которого ты возвел на трон? — с улыбкой спросил король.
— Карл Пятый, — ответил Трибуле.
— Карл Пятый?! — воскликнул король. — Но почему именно он?
— А потому что никому, кроме него, и в голову не пришло бы явиться в страну вашего величества, после того как он держал вас пленником в Мадриде, — ответил шут.
— Ну, а если он благополучно проедет через все мое королевство? — спросил Франциск.
— О! Тогда я торжественно обещаю стереть его имя и заменить другим.
— Каким же, любопытно?
— Вашим, сир. Потому что, допустив это, вы окажетесь еще глупее, чем он.
Король расхохотался, придворные последовали его примеру. Только несчастная Элеонора побледнела при этой шутке.
— Ну что ж! — сказал Франциск. — Можешь сейчас же заменить имя Карла моим; я дал императору честное слово дворянина и сдержу его. А посвящение твое принимаю, и вот тебе плата за первый экземпляр.
И, вынув из кармана полный кошелек, король швырнул его шуту. Трибуле подхватил подарок зубами и убежал на четвереньках, ворча, как собака, уносящая брошенную ей кость.
К королеве приблизились парижский прево с Коломбой.
— Ваше величество, — сказал прево, — дозвольте мне в этот радостный день представить вам мою дочь Коломбу, которую ваше величество изволили принять в число своих придворных дам.
Королева, у которой было доброе сердце, обласкала и ободрила смущенную девушку, между тем как король не спускал с Коломбы восхищенного взора.
— Слово дворянина, мессир прево! — с улыбкой вскричал Франциск. — Да вы просто государственный преступник — до сих пор утаивали от нас такую жемчужину! Ведь ваша дочь может украсить собою общество прекраснейших дам, окружающих ее величество! И если я прощаю ваше вероломство, месье, то лишь благодаря немому заступничеству этих мило потупленных глаз.
Король изящным жестом приветствовал очаровательную девушку и в сопровождении всего двора направился к часовне.
— Мадам, — сказал герцог де Медина-Сидониа, предлагая руку герцогине д’Этамп, — давайте пропустим вперед всех этих придворных. Мне надо сказать вам нечто весьма важное и секретное, и, я думаю, здесь это сделать всего удобней.
— Як вашим услугам, господин посол, — ответила герцогиня. — Нет, нет, д’Орбек, останьтесь!.. Господин де Медина, вы смело можете говорить в присутствии моего старинного друга, я доверяю ему, как самой себе. А этот юный итальянец ни слова не понимает по-французски.
— Хорошо, герцогиня, но помните: вам не менее важно, чем мне, сохранить этот разговор в тайне. Итак, мы теперь одни, и я буду говорить прямо, без околичностей. Вы знаете, что его величество, император Карл Пятый решил проехать через Францию и, быть может, уже ступил на ее землю. Император знает, что едет во вражеский стан, но по вашему совету рассчитывает на рыцарские чувства короля. Говоря откровенно, мадам, ваше влияние на Франциска Первого сильнее, чем влияние любого из его министров. Вот почему от вас одной зависит, будет ли этот совет дурным или хорошим, окажется ли он ловушкой для императора или сослужит ему службу. Но к чему вам, герцогиня, идти против нас? Ведь это ничего не даст ни вам самой, ни французскому государству.
— Продолжайте, герцог, продолжайте! Говорите все до конца.
— Хорошо, мадам. Карл Пятый является достойным преемником Карла Великого, и потому весьма возможно, что он преподнесет в дар Франции то, чего вероломный союзник мог бы потребовать от него в виде выкупа. Мало того, император сумеет щедро вознаградить и за гостеприимство, и за совет.
— Прекрасно! Сделав это, он поступит великодушно и благоразумно.
— Король Франциск Первый давно мечтает о герцогстве Миланском, не правда ли? Так вот, Карл Пятый согласен уступить ему эту провинцию, испокон веков служившую причиной раздоров между Испанией и Францией, но, конечно, за известную ежегодную плату…
— Понимаю, понимаю! — перебила герцогиня. — Как известно, финансы императора находятся в плачевном состоянии, а герцогство Миланское разорено беспрерывными войнами. Вот его величество и не прочь переложить часть своих долгов на более состоятельного должника. Нет, господин де Медина, я отказываюсь от этого предложения! Вы же сами понимаете, что оно неприемлемо.
— Но переговоры уже начались, и, как я слышал, король в восторге от сделанного предложения.
— Пусть так, но я от него отказываюсь! И, если вы можете обойтись в этом деле без меня, тем лучше для вас.
— Поверьте, герцогиня, император бесконечно дорожит вашим содействием! И все, чего бы вы ни пожелали…
— Я не торгую своим влиянием на короля, господин посол.
— О мадам! Никто не осмелится даже подумать об этом.
— Послушайте, вы уверяете, будто ваш повелитель желает заручиться моей поддержкой, и, между нами говоря, он прав. Я окажу ему поддержку и прошу за это значительно меньше, чем он предлагает. Но вот что он должен сделать, слушайте внимательно: он обещает Франциску дарственную на герцогство Миланское, однако, едва покинув Францию, вспомнит о нарушении Мадридского договора и забудет о своем обещании.
— Но ведь это повлечет за собой войну!
— Терпение, господин де Медина. Действительно, его величество разгневается, пригрозит императору войной. Тогда Карл Пятый согласится сделать герцогство Миланское независимым и отдаст его, но только свободным от всяких договорных обязательств, Карлу Орлеанскому, вторе сыну Франциска Первого. Таким образом, император и тщание выполнит, и не увеличит мощи своего соперника. Думаю, мой совет чего-нибудь стоит, и, надеюсь, господин посол, вам нечего возразить против него. Что же касается моих личных пожеланий, о которых вы только что упомянули, то, если его величеству понравится мой план, пусть он обронит при первой нашей встрече какой-нибудь блестящий камешек. И, если камешек окажется достойным моего внимания, я подниму его и сохраню на память о своем славном союзе с наследником римских цезарей, великим королем Испанским и Индийским.
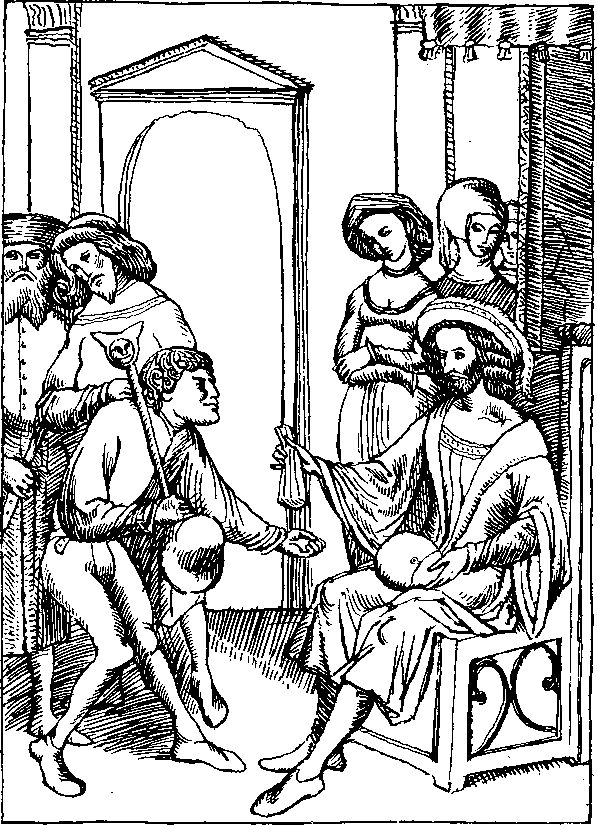
При этих словах герцогиня д’Этамп склонилась к Асканио, не меньше напуганному этими таинственными и мрачными планами, чем герцог де Медина был ими обеспокоен, а граф д’Орбек — восхищен.
— Все это ради тебя, Асканио! — прошептала она. — Чтобы завоевать твою любовь, я готова погубить Францию! — И уже громко прибавила: — Ну как, господин посол?
— Решать такие важные вопросы может только сам император; но я почти уверен, что он примет ваше предложение: выгоды его для нас столь очевидны, что меня это просто пугает.
— Поверьте, господин посол, что, берясь воздействовать на короля, я соблюдаю и собственную выгоду. Ведь у нас, женщин, есть своя дипломатия, подчас более тонкая, чем у политиков! Но, клянусь, в моих планах не таится для вас ни малейшей опасности, да и подумайте: какая тут может быть опасность? Впрочем, в ожидании решения Карла Пятого я постараюсь вооружить против него короля Французского и буду всячески убеждать его величество захватить своего гостя в плен.
— Как, герцогиня, вы считаете это достойным началом союза?
— Полноте, господин посол, вы такой блестящий государственный деятель, а не понимаете, что главное для меня сейчас — отвести от себя подозрения! Открыто встать на вашу сторону — значит погубить все дело. Не думаю, однако, чтобы кто-нибудь мог выдать меня. Позвольте же мне быть вашим врагом, герцог, позвольте говорить против вас! Да и не все ли вам равно? Бог мой! Разве вы не знаете, герцог, что можно играть словами! Если, например, Карл Пятый отвергнет мое предложение, я скажу королю: "Сир, верьте моему женскому чутью, вы должны во имя справедливости без колебания покарать преступника!" Ну, а если его величество согласится, я скажу Франциску: "Сир, положитесь на мою женскую хитрость — мы, женщины, хитры и изворотливы, как кошки. Вам необходимо решиться на одну маленькую сделку".
— О мадам, как жаль, что вы повелеваете одним королевством! Из вас получился бы прекрасный дипломат! — склоняясь перед г-жой д’Этамп, воскликнул герцог де Медина.
И он удалился в восторге от неожиданного оборота, который приняли его переговоры с герцогиней.
— Ну, а теперь, друг мой, я буду говорить с вами откровенно, без обиняков, — сказала герцогиня графу д’Орбеку, оставшись наедине с ним и Асканио. — Из нашего разговора, граф, вы узнали три вещи: во-первых, и для моих друзей и для меня самой необходимо, чтобы моя власть над королем окончательно упрочилась; во-вторых, после успешного завершения этого дела нам уже не надо будет опасаться завтрашнего дня — ведь короля заменит его сын, а у герцога Миланского, которого возвышу я, будет гораздо больше причин быть мне благодарным, чем у Франциска Первого, который возвысил меня. И, наконец, в-третьих, его величество очарован вашей прелестной Коломбой. Вот почему я обращаюсь к вам, граф, как к человеку, который стоит выше всех пошлых предрассудков. Теперь вы держите свою судьбу в собственных руках. Скажите, хотелось бы вам, чтобы королевский казнохранитель д’Орбек занял место королевского канцлера Пуайе, или, выражаясь точнее, хотите ли вы, чтобы Коломба д’Орбек заняла место Марии де Бриссак?
Асканио содрогнулся от ужаса. К счастью, д’Орбек этого не заметил; его хитрые глазки были прикованы к герцогине, смотревшей на него выразительным, проницательным взглядом.
— Я хочу стать канцлером, — последовал его краткий ответ.
— Прекрасно! Мы спасены! Но как быть с прево?
— Что ж, найдете ему какое-нибудь тепленькое местечко, только пусть оно будет подоходней. К чему тут почет! Ведь когда этот старый подагрик отправится на тот свет, все его богатство перейдет ко мне.
Асканио не мог дольше сдерживаться.
— Сударыня!.. — вскричал он срывающимся от гнева голосом.
Но он не успел договорить, а граф не успел удивиться его дерзости: двери широко распахнулись, и в них появился король в сопровождении всего двора.
Герцогиня д’Этамп крепко схватила Асканио за руку и, отойдя в сторону, сказала негромко, с трудом подавляя волнение:
— Понимаешь ли ты теперь, юноша, как нас, женщин, ломает жизнь? Девушка может стать фавориткой короля даже против воли!
Ее слова были заглушены остротами и веселыми шутками, которыми обменивались король и придворные.
Франциск I так и сиял от радости. Еще бы, приедет Карл V, начнутся торжественные приемы, пиршества, увеселительные прогулки> и на его долю выпадет самая благодарная роль. Весь мир устремит взоры на Париж и французского короля. При мысли о захватывающем спектакле, нити которого были у него в руках, Франциск I радовался, как дитя. Превыше всего он ценил внешний блеск и ни к чему не относился серьезно. Войны для него были турнирами, а управление государством — искусной игрой. Этот монарх, одаренный блестящим умом, увлекался самыми странными, рискованными и поэтическими идеями, а из своего царствования сделал театральное представление, аплодировать которому должен был весь мир.
И вот теперь ему представился случай ослепить своего соперника и Европу. Не мудрено, что он был сегодня необыкновенно милостив и приветлив. Сделав вид, что благодушие короля придало ему смелости, Трибуле подбежал к Франциску, едва тот переступил порог.
— О сир! — жалобно завопил шут. — Прощайте навеки! Ваше величество скоро лишится своего верного слуги; но я сокрушаюсь больше о вас, нежели о себе, ваше величество! Что вы будете делать без своего жалкого шута Трибуле — ведь вы так его любите!
— Как! Ты хочешь меня покинуть, да еще теперь, когда у меня всего один шут на двух королей?
— Да, сир, именно теперь, когда на одного шута приходится целых два короля.
— Не болтай чепухи! Я приказываю тебе остаться.
— Повинуюсь, ваше величество. Но тогда издайте королевский указ, запрещающий господину де Вьейвилю преследовать меня. Я лишь повторил ему то, что говорят о его жене, и за такой пустяк он поклялся, что оборвет мне уши и душу из меня вытряхнет. "Если она у тебя есть", — добавил этот нечестивец. Ваше величество, да за такое кощунство ему язык надо отрезать!
— Ну-ну, успокойся, бедный мой шут. Тот, кто лишит тебя жизни, ровно через четверть часа после этого будет повешен сам.
— Ах, ваше величество, а нельзя ли сделать наоборот?
— То есть как это — наоборот?
— Очень просто: повесить его за четверть часа до того, как он меня убьет. Так будет лучше.
Все расхохотались, и громче всех Франциск I. Король двинулся дальше, и взгляд его случайно упал на итальянского эмигранта Пьетро Строцци.
— А, сеньор Строцци! — воскликнул он. — Кажется, вы уже давно ходатайствовали о предоставлении вам французского подданства. Нам отнюдь не делает чести, что человек, столь доблестно сражавшийся за нас в Пьемонте и отвергнутый за это своей родиной, до сих пор не принят в число подданных второй своей родины — Франции, ибо по храбрости вы настоящий француз. Сегодня же вечером, сеньор Строцци, мой секретарь Ле Масон пришлет вам грамоту на подданство… Не благодарите меня: я делаю это не только в ваших, но и в своих собственных интересах — необходимо, чтобы Карл Пятый нашел вас уже французом… A-а, это вы, Челлини! — обратился король к художнику. — И, как всегда, не с пустыми руками. Что это у вас под мышкой? Но, клянусь честью, мой друг, я знаю, как отблагодарить вас! Пусть не говорят, что Франциска Первого кто-нибудь превзошел в щедрости… Мессир Антуан Ле Масон! Вместе с грамотой для Пьетро Строцци изготовьте другую, для моего друга Бенвенуто Челлини, и притом безвозмездно: бедному чеканщику труднее раздобыть пятьсот дукатов, чем вельможе Строцци.
— От всей души благодарю вас, ваше величество! — сказал Бенвенуто. — Но простите мое невежество: что такое грамота на подданство?
— Как, вы не знаете? — укоризненно воскликнул Антуан Ле Масон, а король расхохотался как безумный над столь наивным вопросом. — Грамота на подданство — это высшая милость, какую его величество может даровать иностранцу. Благодаря этой грамоте вы станете французом.
— О! Теперь я понял, сир, и несказанно вам признателен. Но для чего мне эта грамота? Я и так всей душой предан вашему величеству.
— Как — для чего? — воскликнул Франциск, по-прежнему в превосходном настроении. — А хотя бы для того, Бенвенуто, что теперь, когда вы стали французским подданным, я могу подарить вам Большой Нельский замок, а для иностранца я не мог бы этого сделать… Мессир Ле Масон, присоедините к грамоте на подданство дарственную на этот замок… Ну как, Бенвенуто, поняли вы теперь, какую пользу может принести человеку грамота на подданство?
— О да, сир, и разрешите поблагодарить вас не один, а тысячу раз! Наши с вами сердца без слов понимают друг друга; милость, которую вы мне сейчас оказали, позволяет мне надеяться на другую великую милость, о которой со временем я, быть может, осмелюсь просить ваше величество.
— Я не забыл своего обещания, Бенвенуто. Заканчивай скорей Юпитера и тогда проси что хочешь.
— У вашего величества прекрасная память, и, смею надеяться, вы сдержите свое слово. Да, я буду просить, буду умолять ваше величество исполнить одно желание, от которого зависит счастье всей моей жизни! И то, что вы сделали для меня сейчас, каким-то непостижимым чудом угадав мои сокровенные мысли, позволяет мне надеяться на скорое осуществление моей мечты.
— Вот и прекрасно, мой великий мастер! Ну, а сейчас удовлетворите все-таки наше любопытство и покажите наконец, что у вас под мышкой.
— Это серебряная солонка, сир, в дополнение к кубку и тазу.
— А ну-ка, покажите ее скорей!
Некоторое время король, как всегда, с огромным вниманием молча разглядывал дивное творение Челлини и наконец воскликнул:
— Ну что за бессмыслица! Что за чушь!
— Как, ваше величество, — в отчаянии воскликнул Бенвенуто, — вы недовольны моей работой?!
— Конечно, месье, я недоволен вами, я зол на вас! Разве можно было портить такой прекрасный замысел, воплощая его в серебре! Из золота следовало делать эту вещь, Челлини, из золота, и вы это сделаете!
— Увы, сир, — грустно сказал Бенвенуто, — мои скромные творения недостойны столь высоких похвал. Я боюсь, как бы ценность материала не погубила сокровищ моей фантазии. Жизнь жестока, ваше величество, а люди жадны и глупы; кто знает, не будет ли какой-нибудь кубок, за который вы, ваше величество, охотно заплатили бы десять тысяч дукатов, переплавлен когда-нибудь в десять экю. Нет! Золото дает менее прочную славу, чем глина, — вот почему имена ювелиров не переживают их самих.
— Послушайте! Уж не думаете ли вы, что король Французский станет закладывать солонку со своего стола?
— Ваше величество, отдал же император Константинопольский венецианцам терновый венец Иисуса Христа!
— Да, но французский король выкупил его, месье!
— Верно, ваше величество, но подумайте о всевозможных опасностях, которым подвергаются короли: о революциях, ссылках… У меня на родине, например, Медичи трижды изгонялись и трижды возвращались. Вряд ли есть на свете другой король, чья слава и казна были бы столь же прочны, как у вашего величества.
— Хорошо, хорошо, Бенвенуто! Но я желаю все же, чтобы вы сделали мне золотую солонку. Мой казнохранитель сегодня же выдаст вам для этого тысячу полновесных золотых экю старой чеканки… Слышите, д’Орбек, сегодня же! Я не хочу, чтобы у Челлини пропала даром хоть одна минута… Прощайте, Бенвенуто, желаю вам успеха! Помните, французский король ждет Юпитера… Прощайте, господа! Не забывайте о Карле Пятом!
Пока Франциск I сходил с лестницы, чтобы сесть на коня и верхом сопровождать королеву, которая была уже в карете, в зале шли небезынтересные разговоры. Послушаем их.
Бенвенуто подошел к графу д’Орбеку и сказал:
— Я должен повиноваться его величеству, господин казнохранитель. Потрудитесь, пожалуйста, приготовить золото, а я тем временем схожу за мешком и через полчаса буду у вас.
Граф в знак согласия молча поклонился, и Челлини, напрасно поискав глазами Асканио, вышел из Лувра один.
В то же время де Мармань тихо проговорил, обращаясь к прево, который все еще держал Коломбу за руку:
— Прекрасная возможность: побегу предупредить своих людей, а вы скажите д’Орбеку, чтобы он как можно дольше держал у себя Бенвенуто.
И он исчез; а мессир д’Эстурвиль, подойдя к графу д’Орбеку, что-то прошептал ему на ухо и тут же громко прибавил:
— А тем временем, граф, я отведу Коломбу в Нельский замок.
— Хорошо, — ответил д’Орбек. — И сегодня же вечером сообщите мне, чем все это кончится.
Они расстались; прево не спеша направился с дочерью к Малому Нельскому замку. Асканио, не замеченный ими, шел сзади, любуясь издали грациозной походкой Коломбы. А король вскочил на своего любимого коня — превосходного скакуна гнедой масти, подаренного ему Генрихом VIII, — и, вдев ногу в стремя, произнес:
— Нам с тобой, приятель, предстоит сегодня долгий путь:
Хоть ростом мал красавчик мой гнедой,
Друг другом все ж довольны мы с тобой…
— Вот две первые строчки и готовы! — прибавил он. — А ну-ка, Маро, попробуйте закончить четверостишие! Или вы, Мелен де Сен-Желе.
Маро медлил, почесывая в затылке; Сен-Желе опередил его, с необыкновенной быстротой сочинив удачное окончание:
Хоть ты не Буцефал, но всадник твой Превыше македонского героя.
Стихи были встречены громкими аплодисментами, и король, сидя в седле, изящным поклоном поблагодарил поэта за столь удачный экспромт.
Что касается Маро, он вернулся к себе в отвратительнейшем настроении.
— Понять не могу, что сегодня случилось с придворными, — ворчал он, — но все они ужасно глупы!
II
ЧЕТЫРЕ СОТНИ РАЗБОЙНИКОВ
Перейдя на противоположный берег Сены, Бенвенуто поспешил домой, однако не за мешками, как он сказал графу д’Орбеку, а за небольшой корзинкой, которую подарила ему во Флоренции одна из его двоюродных сестер — монахиня.
Было уже два часа, но Бенвенуто непременно хотел покончить с этим делом сегодня же; поэтому, не дождавшись дома Асканио и других учеников, которые в эту пору обедали, ювелир отправился один на улицу Фруа-Манто, где жил граф д’Орбек; по пути он внимательно оглядывался по сторонам, однако не заметил ничего подозрительного.
Когда Челлини пришел к графу, тот заявил, что не может отдать ему золото сейчас же: необходимо выполнить сначала кое-какие формальности — пригласить нотариуса, составить контракт. Зная строптивый нрав Челлини, граф без конца извинялся и говорил так убедительно, что Бенвенуто поверил в несуществующие препятствия и согласился терпеливо ждать.
Но он решил, по крайней мере, воспользоваться этим промедлением и послать за своими подмастерьями, чтобы они проводили его и помогли донести золото. Д’Орбек тут же отправил в Нельский замок слугу и завел с Челлини разговор о его работе, о милостивом отношении к нему короля — словом, обо всем, что могло занять гостя. Впрочем, у Бенвенуто не было причин в чем-либо подозревать графа: ведь о любви художника к Коломбе знали только он сам и Асканио. Поэтому он довольно любезно отвечал казнохранителю на все его льстивые речи.
Потом потребовалось время, чтобы отобрать именно такие монеты, о которых говорил король. А нотариус все не являлся. Наконец он все же пришел, но очень долго провозился с составлением контракта. Короче говоря, когда Бенвенуто, обменявшись с хозяином последними любезностями, собрался уходить, начало уже смеркаться. Бенвенуто позвал слугу, которого посылал в Нельский замок, и тот сказал, что никто из подмастерьев прийти не мог, зато он сам охотно поможет сеньору ювелиру нести его золото. Только тут в душе Бенвенуто шевельнулось подозрение, и он отказался от помощи, как ни любезно она была предложена. Он ссыпал золото в корзинку и взял ее под мышку, продев руку в ручки, так что крышка оказалась плотно прижатой. Да и нести золото было таким образом гораздо удобнее, чем в мешке.
На Бенвенуто под платьем была надета превосходная кольчуга с наручами, на боку у него висела короткая шпага, а за поясом торчал острый кинжал. Он быстрым, твердым шагом пустился в путь. Когда он выходил от д’Орбека, ему почудилось, что слуги графа о чем-то тихо переговариваются, а затем он увидел, что они один за другим выбегают из дому, делая вид, будто направляются в другую сторону, нежели он.
Теперь благодаря мосту Искусств, построенному через Сену, от Лувра до Академии рукой подать, а во времена Бенвенуто это было долгим путешествием. В самом деле, от улицы Фруа-Манто приходилось подняться по набережной до Шатле, пройти по мосту Менял, пересечь Сите; следуя по улице Сен-Бартоломе, перебраться на левый берег реки по мосту Сен-Мишель и отсюда вновь спуститься по набережной до Большого Нельского замка. И пусть не удивляется читатель, что в те времена воров и грабителей отважному Бенвенуто было немного не по себе: он опасался за огромную сумму денег, которую нес под мышкой. И, если читатель не прочь опередить вместе с нами Бенвенуто на несколько сотен шагов, он убедится, что эти опасения были не напрасны.
Около часа назад, когда еще только начало смеркаться, на набережной Августинцев, возле церкви, остановились четверо молодцов довольно зловещего вида, с головы до пят закутанных в плащи. Набережную отделяла от реки лишь невысокая каменная ограда, и по вечерам здесь было совсем пустынно. За все это время мимо незнакомцев прошел только прево, проводивший Коломбу в Малый Нельский замок и теперь возвращавшийся обратно. Все четверо с должным почтением приветствовали этого достойного представителя власти.
Они стояли у церковной стены и вполголоса вели беседу, надвинув шапки до самых бровей. Двое из них нам уже знакомы: это наемники, нанятые в свое время виконтом де Марманем для осады Большого Нельского замка; их имена Ферранте и Фракассо. Двое других занимались тем же достойным ремеслом, и звали их Прокоп и Маледан. А чтобы наши потомки не спорили о родине этих молодчиков, как спорят уже три тысячи лет о родине Гомера, добавим, что Маледан был пикардийцем, Прокоп — цыганом, а Ферранте и Фракассо появились на свет под благословенным небом Италии. Что же касается их отличительных особенностей, то Прокоп был юристом, Ферранте — педантом, Фракассо — мечтателем, а Маледан — просто глупцом. Как видит читатель, несмотря на нашу принадлежность к французской нации, мы отнюдь не заблуждаемся насчет достоинств нашего соотечественника. Но на войне, или, точнее, в деле, все они были сущими дьяволами.
А теперь, когда мы с ними познакомились, прислушаемся к их дружеской и весьма поучительной беседе. Из нее мы узнаем, что они были за люди и какая опасность грозит нашему другу Бенвенуто Челлини.
— Как хорошо, что сегодня рыжий болван виконт не будет совать палки в колеса! — сказал Ферранте, обращаясь к Фракассо. — Наконец-то мы обнажим наши шпаги, и этот проклятый трус не одернет нас и не заставит обратиться в бегство!
— Ты прав, — ответил Фракассо. — Но, раз он предоставил нам одним все опасности этого дельца, за что я ему весьма признателен, он должен отдать нам всю добычу. Какое, в сущности, право имеет рыжий дьявол присваивать пятьсот золотых — ровно половину добычи? Правда, и пять сотен, которые нам причитаются, неплохая награда. Ведь это получается по сто двадцать пять экю на брата — сумма знатная, что и говорить! В трудные времена мне случалось убивать человека и за два экю.
— За два экю! Пресвятая Богоматерь! Да ведь это ремесло только позорит! — воскликнул Маледан. — Знаешь что, приятель, не говори лучше при мне таких вещей, а то, чего доброго, кто-нибудь услышит и сочтет меня таким же негодяем, как и ты.
— Что делать, Маледан. Все в жизни бывает, — уныло произнес Фракассо. — Иной раз кажется, убил бы человека за кусок черствого хлеба! Но вернемся к делу. По-моему, друзья, двести пятьдесят экю вдвое лучше, чем сто двадцать пять. А что если, укокошив парня, мы прикарманим все денежки и не отдадим этому плуту Марманю ни гроша?
— Брат мой, — наставительно изрек Прокоп, — это значило бы надуть клиента, а в любой работе прежде всего следует быть честным. Я думаю, мы должны поступить так, как было условлено, и отдать виконту все пятьсот экю. Но distinguamus! Когда он их получит и убедится, что мы люди честные, я не вижу причин, почему бы нам не напасть на него и не отнять эти деньги.
— Вот это здорово! — одобрительно воскликнул Ферранте. — У нашего Прокопа честность всегда сочетается с поразительной изобретательностью.
— Ну, это просто потому, что я изучал когда-то законоведение, — скромно заметил Прокоп.
— Не будем, друзья, отвлекаться отдела, — обычным для него поучительным тоном заметил Ферранте. — Recte ad terminum eamus. Пусть себе виконт мирно почивает в своей мягкой постели! Его час не настал. Нам предстоит сейчас заняться флорентийским ювелиром. Ради успеха предприятия хозяин желает, чтобы мы прирезали ювелира вчетвером. Собственно говоря, укокошить человека и отобрать у него мошну мог бы и один из нас, но говорят, что богатство — страшное общественное зло, и поэтому лучше, если доход поделят между собой несколько добрых приятелей. Но только, чур, надо скорехонько отправить его на тот свет — ведь человек, о котором идет речь, умеет постоять за себя. Мы с Фракассо уже убедились в этом. Для большей верности придется наброситься на него всем сразу. Итак, внимание! Побольше хладнокровия, держите ушки на макушке, глядите в оба и берегитесь его шпаги! Он, как и все эти итальянцы, отлично ею владеет, что и не замедлит вам доказать.
— Уж насчет этого можешь не беспокоиться! — презрительно проворчал Маледан. — Я привык ко всяким ударам — и режущим, и колющим. На собственной шкуре испытал их. Как-то раз мне довелось ночью побывать по личному делу в Бурбонском дворце. Я не успел управиться до рассвета и решил дождаться следующей ночи в каком-нибудь укромном уголке. Я подумал, что самое подходящее для этого место — оружейный зал; там была пропасть всякого рыцарского снаряжения и трофеев: шлемы, латы, наручи, щиты, забрала. И все это прилажено одно к одному и установлено на подставках. Ну прямо как настоящие рыцари в доспехах! Напялил я на себя доспехи, опустил забрало и встал на подставку…
— Вот потеха-то! Ну, а дальше? — нетерпеливо воскликнул Ферранте: ведь когда собираешься совершить геройский подвиг, самое лучшее — побольше слушать о доблести других. — Продолжай, продолжай же!
— Ну вот, спрятался я, а не знал, что на этих проклятых рыцарских доспехах королевские сынки упражняются в искусстве владеть холодным оружием. Скоро в комнату вошли два дюжих молодца лет по двадцати, взяли по копью и шпаге и ну лупить по моим доспехам! Хотите верьте, хотите нет, но я выдержал все до конца! Я стоял, будто и впрямь был деревянный и меня привинтили к этой дурацкой подставке. Счастье мое, что юнцы оказались не очень-то сильны. Но вот появился папаша и принялся их подзадоривать. До тех пор святой Маледан, мой патрон, которому я все время про себя молился, отводил от меня наиболее опасные удары; но вдруг этот дьявол папаша выхватывает у одного из сынков копье, чтобы показать, как сшибают одним ударом забрало. "Пропал!" — подумал я.
— Бедняга! — печально произнес Фракассо. — Ты мог погибнуть ни за что.
— Не тут-то было! Увидев мое посиневшее лицо с дико выпученными глазами, эти олухи приняли меня за привидение своего прадеда и удрали, да так прытко, будто сам черт поджаривал им пятки! Ну, а я… Как бы это поскладнее объяснить вам… Я повернулся к ним спиной и тоже побежал. Но ведь важно не это! Надеюсь, вы убедились, что я достаточно вынослив.
— Так-то оно так, но в нашем деле главное — не принимать удары, а наносить их, дружище Маледан! — изрек Прокоп. — А хороший удар — это тот, от которого жертва падает, не успев даже вскрикнуть. Да вот послушайте: во время одного из моих путешествий по Фландрии мне надо было освободить одного из своих клиентов от четверки дружков, которые путешествовали вместе. Мне предложили трех помощников, но я заявил, что или сделаю все один, или совсем отказываюсь от дела. Условие было принято, и в случае удачи мне обещали заплатить за четверых. Я знал, каким путем поедут приятели, и подождал их в одной харчевне, где они должны были остановиться. Хозяин харчевни тоже когда-то погуливал по большим дорогам, а теперь, когда сменил ремесло, ему стало еще легче и безопаснее грабить путешественников; впрочем, в душе трактирщика еще не заглохли добрые чувства, и мне было нетрудно добиться от него поддержки, обещав ему десятую долю своей награды. Договорившись обо всем, мы стали поджидать наших молодчиков и немного спустя увидели их на повороте дороги. Всадники торопливо спешились у харчевни, чтобы поесть и дать отдохнуть лошадям. Но трактирщик заявил, что его конюшня слишком мала и вчетвером там просто не повернуться: придется заводить лошадей по очереди. Вот пошел первый да и пропал; пришлось идти другому, узнавать, в чем дело. Ну и этот не вернулся. Тогда, устав ждать приятелей, пошел третий и тоже исчез. "A-а, понимаю! — воскликнул хозяин, видя, что четвертый обеспокоен их задержкой. — Они вышли через заднюю дверь". Эти слова успокоили четвертого, он решил присоединиться к товарищам и нашел меня, потому что, как вы, наверное, догадались, в конюшне был я. Ну, последнему я дал возможность вскрикнуть разок, прощаясь с жизнью, — ведь это уже никого не могло испугать… Ферранте, как ты думаешь, нельзя ли в соответствии с римским правом назвать это trucidatio per divisionem necis?.. А итальянца нашего все нет и нет, — продолжал Прокоп. — Уж не случилось ли с ним чего! Скоро совсем стемнеет…
— "Suadentque cadentia sidera somnos", — изрек Фракассо. — Кстати, друзья мои, как бы этот Бенвенуто не выкинул в потемках такую же штуку, какую однажды проделал я сам. Это было во время моих странствий по берегам Рейна. Я всегда любил эти края с их живописной и меланхоличной природой. Рейн — река мечтателей. Мечтал и я. Мне, видите ли, очень хотелось отправить на тот свет некоего вельможу, по имени Шрекенштейн, если не ошибаюсь. Дельце было не из легких, потому что этот господин никогда не выходил из дому без надежной охраны. Но вот что я придумал. Выбрав ночку потемнее, я оделся точно в такое же платье, какое носил он сам, и стал поджидать его на улице. Увидев во мраке, "obscuri sub noste", Шрекенштейна и черные фигуры его телохранителей, шедших несколько позади, я вихрем налетел на вельможу, сорвал с него шляпу с перьями и, нахлобучив на себя, ловко стал на его место, так что мы оказались лицом к лицу. Не дав ему опомниться, я оглушил его, сильно ударив по голове рукояткой шпаги, и среди поднявшейся суматохи, воплей и звона клинков принялся орать благим матом: "Помогите! Грабят! Убивают!" Эта военная хитрость удалась как нельзя лучше: люди Шрекенштейна яростно набросились на него и тут же прикончили, а я тем временем скрылся в ближайшем лесу.
— Что смело, то смело, ничего не скажешь, — заметил Ферранте. — Но если вспомнить мою далекую молодость, то найдется рассказать кое-что и похлеще. Как и тебе, Фракассо, мне пришлось иметь дело с одним вельможей, который нигде не появлялся без вооруженной охраны. Дело было в Абруццском лесу. Я взобрался на огромный дуб и уселся на толстой ветке, протянувшейся над дорогой; под ней-то и должен был проехать субъект, которого я поджидал. Рассвело; дул свежий утренний ветерок, и косые лучи восходящего солнца освещали замшелые стволы деревьев; воздух так и звенел от пения птиц. Сидя на своем суку, я размечтался, как вдруг…
— Тс! — прервал его Прокоп. — Шаги. Это он!
— Вот и прекрасно, — пробурчал Маледан, настороженно озираясь. — Поблизости ни души — нам везет.
Убийцы умолкли и замерли на своих местах. В сумерках нельзя было различить их смуглые, страшные лица, виднелись только сверкающие глаза, руки, судорожно вцепившиеся в рукояти шпаг, и застывшие в напряженном ожидании фигуры. Вся эта живописная группа, притаившаяся в полумраке, являла собой картину, достойную кисти Сальватора Розы. Разбойники угадали: это действительно был Бенвенуто, он шел быстрым, бодрым шагом. Как мы уже говорили, он кое-что заподозрил, а потому зорко вглядывался в окружающую тьму. Впрочем, глаза его привыкли к темноте, и он еще за двадцать шагов различил фигуры четырех бандитов, вышедших из засады.
Но, прежде чем они успели наброситься на него, Бенвенуто с присущим ему хладнокровием прикрыл плащом корзину с золотом, обнажил шпагу и прижался спиной к церковной стене. Таким образом он оказался защищенным с тыла.
Все четверо напали на него разом. Положение казалось безнадежным: бежать некуда, кричать бесполезно — до замка не менее пятисот шагов. Но Бенвенуто не был новичком в искусстве владеть оружием и ловко отражал все атаки. Нанося удары направо и налево, он не терял способности рассуждать. Вдруг в голове его мелькнула мысль: ясно, это ловушка, и устроена она ему, Челлини. Ну, а если убедить разбойников, что они ошиблись? Тогда он будет спасен. И вот под градом сыпавшихся на него ударов Челлини принялся вышучивать бандитов за их мнимую ошибку.
— Да что вы, ребята, спятили? Какой бес в вас вселился! Ведь с бедняка солдата многого не возьмешь. Плащ мой, что ли, вам приглянулся или, может быть, шпага? Эй, эй, парень! Побереги свои уши! Коли хотите получить мою шпагу, надо сперва суметь ее отбить. Право, для грабителей, да еще не новичков в своем деле, у вас совсем нет нюха.
Говоря это, Бенвенуто и не думал бежать, а сам теснил противников. Однако он отходил от стены самое большее на шаг, на два и тотчас же опять прислонялся к ней, беспрерывно нанося удары. Несколько раз он умышленно приоткрывал плащ, показывая, что никакого золота у него нет и в помине. Бенвенуто делал это на случай, если бы слуга графа д’Орбека успел предупредить грабителей; ведь негодяй куда-то исчез как раз перед его уходом. Уловка прекрасно удалась. Видя спокойную уверенность Бенвенуто и то, как проворно он владеет шпагой — слишком проворно для человека, отягощенного тысячей полновесных экю, наемники призадумались.
— А что, может, мы и впрямь ошиблись, Ферранте? — тихо спросил Фракассо.
— Боюсь, что так. Тот был вроде пониже. А если это он, то никакого золота при нем нет; одурачил нас проклятый виконт!
— Золото? Это у меня-то? — вскричал Бенвенуто, делая блестящий выпад шпагой. — Да у меня в кармане всего-навсего пара стершихся медяков! Но если, ребятки, вы вздумаете их отобрать, то медяки обойдутся вам дороже чистейшего золота, да еще вдобавок чужого, так и знайте!
— Вот черт! — воскликнул Прокоп. — Да это в самом деле солдат. Где это видано, чтобы золотых дел мастер так управлялся со шпагой! Потейте тут с ним, сколько вашей душе угодно, а я не такой дурак, чтобы драться ради одной славы.
И Прокоп, ворча, покинул поле боя. Ослаб натиск и остальных бандитов, ибо они были сбиты с толку и лишились поддержки товарища. Бенвенуто воспользовался этим, отошел от стены и стал пробираться к замку; однако он все время держался лицом к бандитам, на ходу отбиваясь от них, словно дикий вепрь, в которого вцепились охотничьи псы.
— Идемте, идемте со мной, храбрецы! — говорил он. — Проводите-ка меня до Пре-о-Клер. Там в Мезон-Руж живет моя краля; ее папаша торгует вином, а сейчас она ждет не дождется меня. Если верить россказням, эта дорога небезопасна, и я не прочь иметь охрану.
После этой шутки Фракассо тоже отказался от преследования и присоединился к Прокопу.
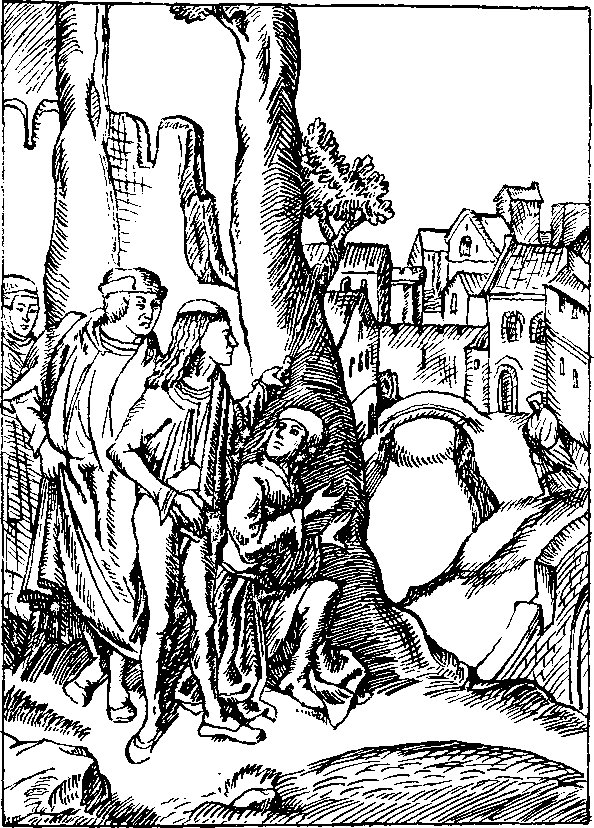
— Дураки мы с тобой, Ферранте! — сказал Маледан. — Это вовсе не Бенвенуто!
— Напротив, это он и есть! — воскликнул Ферранте, заметивший набитую золотом корзину под мышкой у Бенвенуто, случайно распахнувшего свой плащ.
Однако было слишком поздно — до замка оставалось не больше полусотни шагов, и Бенвенуто принялся кричать своим зычным голосом, громко раздававшимся в ночной тиши:
— Помогите! Эй, кто-нибудь из Йельского замка, скорей сюда! Помогите!
Едва успели Ферранте с Маледаном возобновить нападение, а Фракассо и Прокоп прибежать на помощь товарищам, как ворота замка открылись, и оттуда с копьями наперевес выскочили Герман, Жан-Малыш, Симон-Левша и Жак Обри, давно уже с беспокойством поджидавшие учителя.
Увидев их, бандиты разбежались.
— Куда же вы, приятели? Хоть бы еще несколько шагов проводили меня. Эх вы, недотепы! Вчетвером не сумели отобрать у одинокого путника тысячу экю, которые к тому же совсем оттянули ему руку!
В самом деле, разбойники не причинили Бенвенуто Челлини ни малейшего вреда, если не считать легкой царапины на руке, и теперь убегали пристыженные, причем Фракассо улепетывал с громкими воплями. Дело в том, что в конце схватки он лишился правого глаза, и ему на всю жизнь предстояло остаться кривым, отчего унылая физиономия негодяя стала еще более тоскливой.
— Ну, а теперь, друзья, — сказал Бенвенуто, обращаясь к подмастерьям, когда шаги убийц замерли вдали, — после такого славного дельца не худо бы и поужинать. Давайте выпьем за мое спасение!.. Но где же Асканио? Почему его нет с вами?
Читатель, наверное, помнит, что Асканио вышел из Лувра, так и не найдя своего учителя.
— А я знаю, где он! — воскликнул Жан-Малыш.
— Где же, дитя мое? — спросил Бенвенуто.
— Он уже битых полчаса бродит по Йельскому парку. Мы, то есть писец и я, хотели с ним поболтать, но Асканио просил оставить его одного.
"Странно! — подумал Бенвенуто. — Почему же тогда Асканио не прибежал ко мне на помощь вместе с остальными? Неужели он не слыхал моего крика?" А вслух прибавил:
— Поужинайте без меня, друзья… A-а, это ты, Скоццоне!
— О Господи! Вас хотели убить, сударь? Неужели это правда?
— Да-да, что-то в этом роде.
— Господи Иисусе!
— Все в порядке, все в порядке, милочка, — повторял Бенвенуто, чтобы успокоить смертельно побледневшую Катрин. — Теперь надо только раздобыть вина для моих славных спасителей, да получше. Займись-ка этим, Скоццоне. Возьми у Руперты ключи и устрой все сама.
— А вы не уйдете больше? — спросила Скоццоне.
— Нет-нет! Будь покойна. Я только поищу в парке Асканио, мне с ним нужно поговорить.
Ученики вместе с Катрин вернулись в мастерскую, а Бенвенуто отправился в парк.
Как раз в это время взошла полная луна, и он отчетливо увидел Асканио. Однако юноша вовсе не прогуливался, а приставив к ограде Малого Нельского замка лестницу, взбирался по ней. Очутившись наверху, он втащил лестницу за собой и исчез по ту сторону ограды.
Бенвенуто провел рукой по глазам, как человек, не верящий тому, что видит, и тут же, приняв какое-то решение, побежал в мастерскую, поднялся к себе в мансарду, вылез из окна на крышу и ловко перескочил на ограду Малого Нельского замка. Потом, цепляясь за узловатые виноградные лозы, он бесшумно спрыгнул в сад Коломбы. Утром прошел дождь, и сырая земля заглушала шум шагов.
Прижавшись ухом к земле, Бенвенуто прислушался. Сперва все было тихо; потом вдали послышался шепот. Бенвенуто вскочил и стал осторожно, ощупью пробираться по саду, то и дело останавливаясь. Голоса становились все явственнее, и Бенвенуто уверенно двинулся туда, откуда они доносились. И вот, дойдя до аллеи, пересекавшей парк, он увидел Коломбу или, вернее, догадался, что это она.
Девушка была в белом платье и сидела подле Асканио на хорошо знакомой им скамье. Влюбленные говорили очень тихо, взволнованно, но каждое слово отчетливо раздавалось в ночной тиши. Бенвенуто спрятался за деревьями, почти у самой скамьи, и стал слушать.
III
СОН В ОСЕННЮЮ НОЧЬ
Осенний вечер был тих и прозрачен. Луна сияла среди редких облачков, плывших по серебристо-лазурному небосводу, усеянному яркими звездами. Безмятежный покой был разлит вокруг трех людей, притаившихся в Нельском парке, но их души были объяты смятением и тревогой.
— Милая Коломба! — говорил Асканио. (Бенвенуто стоял позади, безмолвный, бледный и, казалось, воспринимал эти слова не слухом, а всем своим истерзанным сердцем.) —
Любимая невеста моя! Сколько горя я причинил вам! И зачем только я вторгся в вашу тихую жизнь! Когда вы узнаете страшную весть, которую я принес, вы меня проклянете.
— Вы ошибаетесь, друг мой, — отвечала Коломба. — Что бы вы ни сказали, я всегда буду благословлять вас, ибо знаю: вы мне посланы Богом. Я никогда не слышала голоса своей матери, но, когда вы говорите со мной, мне кажется, что я слышу ее. Говорите же, говорите, Асканио! И какие бы ужасные вещи вы ни сказали мне, что ж делать! Утешением мне послужит уже то, что я слышу их из ваших уст.
— Соберите же все свое мужество, все свои силы, Коломба!
И Асканио поведал ей обо всем, что он узнал во дворце: о страшном заговоре герцогини д’Этамп и графа д’Орбека, об их намерении предать интересы королевства и обесчестить Коломбу. Для него было настоящей пыткой, когда пришлось объяснить этой чистой девушке, незнакомой с людской подлостью., всю гнусность предательства, которым запятнал себя казнохранитель; рассказывать ей об утонченной жестокости королевской фаворитки, о ее коварстве, подсказанном ревностью.
Но Асканио выдержал эту пытку до конца, а Коломба даже не покраснела — так велики были ее невинность и душевная чистота. Она поняла одно: ее любимый удручен, испуган. И Коломба, как и Асканио, задрожала, словно тонкая лозинка, обвившаяся вокруг молодого деревца, которая трепещет вместе с ним во время бури.
— Друг мой! Необходимо открыть моему отцу весь этот мерзкий замысел против моей чести, — сказала она. — Отец обязан вам жизнью и непременно послушает вас! Успокойтесь, друг мой! Он вырвет меня из рук графа.
— Увы! — вздохнул Асканио.
— Как, вы и отца подозреваете в столь низком сообщничестве? — воскликнула Коломба, понявшая сомнения любимого по его тону. — Но это было бы слишком ужасно, Асканио! Нет, нет! Я уверена — отец ничего не знает, ни о чем не догадывается, и, хотя он никогда не был со мной особенно ласков, он не может собственной рукой толкнуть меня в бездну бесчестия и отчаяния.
— Простите, Коломба, — продолжал Асканио, — но ваш отец иначе понимает счастье, чем вы; высокий титул для него дороже чести; он тщеславен, как все придворные, и считает, что стать фавориткой короля большее счастье для вас, нежели выйти замуж за простого художника. Коломба, я не хочу ничего скрывать от вас: граф д’Орбек сказал герцогине д’Этамп, что он уверен в согласии вашего отца.
— О Боже! Возможно ли? — вырвалось у Коломбы. — Где же это видано, Асканио, чтобы отец продавал свое дитя?!
— Такие вещи встречались во всех странах и во все времена, мой бедный ангел, и особенно часто повторяются они в наше время. Не думайте, что мир подобен вашей прекрасной душе, а общество так же добродетельно, как вы сами. Да, Коломба, знатнейшие люди Франции без стыда и совести отдают в жертву королевским прихотям юность и красоту своих дочерей, своих жен. При дворе это самая обычная вещь, и ваш отец может сослаться в свое оправдание на множество известных примеров. Прости, любимая, что я заставил твою чистую, нежную душу соприкоснуться с этой грубой, отталкивающей действительностью! Но я хотел показать тебе пропасть, в которую тебя собираются столкнуть.
— Асканио! О Асканио! — в отчаянии вскричала Коломба, припадая к его груди. — Неужели и отец против меня? Как мне за него стыдно! Где же искать защиты? Только вы один остались у меня! Спасите меня, Асканио! Советовались ли вы со своим учителем? По вашим словам, он великодушен, добр, силен; я полюбила его за то, что вы его любите.
— Не люби его, Коломба! Не люби его больше!
— Но почему? — пролепетала девушка.
— Потому что он тебя любит! Это вовсе не друг наш, который помог бы нам в беде, — он злейший наш враг! Выслушай меня.
И Асканио рассказал ей, как в ту минуту, когда он собрался все поведать Бенвенуто, учитель сам признался ему в своей возвышенной любви к Коломбе и в том, что он как особой милости намерен просить у короля ее руки. И Бенвенуто вполне может рассчитывать на эту милость, ибо король обещал исполнить любую его просьбу после того, как будет закончена статуя Юпитера. К тому же известно, что Франциск I никогда не нарушает данного слова.
— Милосердный Боже! — воскликнула Коломба, поднимая к небесам свои прелестные глаза и белоснежные руки. — Теперь Ты единственная наша защита! Все друзья изменили нам, и вместо тихой пристани перед нами открывается бурное море. Но вполне ли вы уверены, Асканио, что мы совершенно одиноки?
— Увы, я вполне в этом уверен. Мой учитель теперь так же опасен для нас, как и ваш отец. И подумать только! Я должен бояться и ненавидеть Бенвенуто, моего лучшего друга, любимого учителя, защитника, отца, почти Бога! — воскликнул Асканио, ломая руки. — И за что? Только за то, что, увидя вас, он проникся к вам прекрасным чувством, которое вы внушаете каждому человеку с возвышенной душой! За то, что он любит вас. Но ведь и я люблю вас! Значит, мы оба с ним равно виноваты друг перед другом. Да, но вы, Коломба, любите меня, и в этом мое оправдание! О Боже! Что делать? Вот уже два дня, как меня терзают самые противоречивые чувства — то мне кажется, что я начинаю ненавидеть учителя, то чувствую, что люблю его по-прежнему. Он любит вас, это правда, но ведь он любит и меня! Я теряю голову, и дух мой колеблется, как тростник от дыхания бури. Что сделает Бенвенуто, когда все узнает? Прежде всего я расскажу ему о намерении графа д’Орбека, и, надеюсь, учитель избавит нас от него. Но потом, когда мы окажемся соперниками, врагами, я боюсь, что его гнев будет неумолим и слеп, как рок. И тогда он забудет друга, чтобы всей душой предаться любимой Коломбе. На его месте я без сожаления пожертвовал бы старой дружеской привязанностью ради зарождающейся любви — иначе говоря, променял бы землю на небо. Почему бы и ему так не поступить? В конце концов, он человек, а жертвовать любовью свыше человеческих сил. Стало быть, мы вступим с ним в борьбу, но могу ли я, беспомощный и одинокий, противостоять Бенвенуто Челлини? И все же, как бы я ни возненавидел своего приемного отца — а ведь я давно и от всей души люблю его, — я ни за что на свете не подвергну Бенвенуто пытке, которую испытал сам, когда он рассказывал мне о своей любви к вам!
Бенвенуто, все время неподвижно, как статуя, стоявший за деревом, почувствовал на лбу капли ледяного пота и судорожно схватился рукой за сердце.
— Бедный Асканио! — печально проговорила Колом-ба. — Сколько вы страдали и как много предстоит вам еще выстрадать! Будем все же надеяться, друг мой! Не надо преувеличивать наших горестей и отчаиваться. Мы не одни в борьбе с несчастьем, с нашей горькой судьбой, ведь с нами Бог. Вы предпочли бы, наверное, чтобы я принадлежала Бенвенуто, а не графу д’Орбеку, или, еще лучше, чтобы я навеки посвятила себя Богу. Не так ли, Асканио? Ну так вот, обещаю вам: если я и не стану вашей женой на этом свете, то навеки останусь вашей невестой. Слышите, Асканио? Успокойтесь, милый!
— Благодарю, любимая! — ответил Асканио. — Забудем об окружающем нас огромном мире, нам так хорошо сейчас в этом маленьком садике! Но вы ни разу еще не сказали, Коломба, что любите меня. Увы, мне часто казалось, что для вас долг выше любви.
— Молчи! Молчи, Асканио! — воскликнула Коломба. — Неужели ты не понимаешь, что я хочу освятить твое счастье, став твоей женой! О, я люблю, люблю тебя, Асканио!
Бенвенуто не мог больше держаться на ногах. Он упал на колени, прижался головой к стволу дерева и смотрел перед собой невидящим взглядом, а каждое слово влюбленных больно отдавалось во всем его существе.
— Коломба, я люблю тебя! — повторял Асканио. — И сердце подсказывает мне, что мы будем счастливы. Господь Бог не оставит прекраснейшего из своих ангелов! Все вокруг тебя дышит таким покоем и радостью, что я забываю о мире скорби, в который вернусь, расставшись с тобой.
— Необходимо подумать о завтрашнем дне, — возразила Коломба. — Не будем сидеть сложа руки, и Бог не оставит нас. Прежде всего, я думаю, мы не должны скрывать свою любовь от вашего учителя Бенвенуто. Ведь, вступив в борьбу с герцогиней д'Этамп и графом д’Орбеком, он подвергнется страшной опасности. Мы обязаны все ему рассказать. Поступить иначе было бы нечестно.
— Я повинуюсь, дорогая Коломба. Каждое ваше слово для меня — закон. Да и сердце подсказывает мне, что вы правы. Но если бы вы знали, какой страшный удар нанесу я ему своим признанием! Увы, я испытал это на себе! И, кто знает, быть может, узнав о нашей любви, он возненавидит меня и даже прогонит… Что мне делать тогда одному, на чужбине, без крова, без друзей, перед лицом таких сильных врагов, как герцогиня д’Этамп и королевский казнохранитель? Кто мне поможет расстроить их дьявольские планы? Кто поддержит меня в этой неравной борьбе? Кто протянет мне руку помощи?
— Я! — раздался позади звучный низкий голос.
— Бенвенуто! — воскликнул ученик, которому не надо было оглядываться, чтобы узнать учителя.
Коломба громко вскрикнула и вскочила. Асканио в смятении глядел на Челлини, не зная, друг перед ним или враг.
— Да, я, Бенвенуто Челлини! — продолжал золотых дел мастер. — Вы не любите меня, сударыня, а ты, Асканио, меня разлюбил, и все же я пришел, чтобы спасти вас обоих.
— Что вы хотите этим сказать? — воскликнул Асканио.
— А вот что: садитесь-ка рядом со мной, и потолкуем, так как нам надо понять друг друга. Не рассказывайте мне ничего: я не пропустил ни единого слова из вашей беседы. Простите, что я нечаянно подслушал вас, но вы и сами понимаете: лучше, если я буду знать все. Мне пришлось услышать много печального и страшного для себя, но и много полезного. Кое в чем Асканио прав, а кое в чем — нет. Я действительно стал бы с ним бороться за вас, сударыня; но раз вы любите его — это решает все. Будьте счастливы. Асканио запретил вам любить меня, но я заставлю вас снова меня полюбить за то, что устрою вашу свадьбу.
— Учитель! — вырвалось у Асканио.
— О сударь, вы так страдаете! — умоляюще складывая руки, промолвила Коломба.
— Благодарю, дитя мое! — ответил Бенвенуто; на глаза его навернулись слезы, но он тут же овладел собой. — Вы заметили это, мадмуазель! А вот он, неблагодарный, ничего не видит. О, женщины так чутки! К чему лгать? Я действительно очень страдаю. Да оно и понятно: ведь я потерял вас. И все же я счастлив тем, что могу вам служить; вы будете обязаны мне своим счастьем — и это меня немного утешает. Ты ошибся, Асканио: моя Беатриче ревнива, она не терпит соперниц. Статую Гебы придется закончить тебе. Прощай, моя прекрасная, последняя мечта…
Бенвенуто говорил отрывисто, с трудом, хриплым голосом. Коломба склонилась к нему и, сочувственно взяв за руку, тихо сказала:
— Плачьте, друг мой, вам станет легче.
— Да-да, вы правы! — ответил Челлини, разражаясь рыданиями.
Он встал, не произнося ни слова, весь содрогаясь от беззвучных рыданий. И долго сдерживаемые слезы облегчили его душу.
Коломба и Асканио с уважением взирали на глубокое горе учителя.
— Вот уже двадцать лет, как я не плакал, — сказал он, успокоившись, — если не считать того случая, когда, помнишь, Асканио, я ранил тебя и увидел твою кровь. Но сейчас удар был слишком жесток. Я так страдал, стоя вот тут, за деревом, что чуть не пронзил себя кинжалом, и только мысль о том, что я нужен вам обоим, удержала меня. Выходит, вы спасли мне жизнь. В общем, все благополучно. Асканио даст вам на двадцать лет больше счастья, чем дал бы я. К тому же он мне почти как сын, и я, как всякий отец, буду радоваться вашему счастью. Бенвенуто Челлини победит и самого себя, и ваших врагов. Страдание — удел всех художников-творцов. И кто знает, быть может, из каждой моей слезы родится прекрасная статуя, подобно тому, как из каждой слезы великого Данте родился божественный стих. Видите, Коломба, я уже вернулся к прежней своей возлюбленной, к своей скульптуре, и уж она-то никогда не изменит мне. Слезы смыли всю горечь, накопившуюся в моей душе. Мне грустно, но сердце мое смягчилось, а помогая вам, я забуду о своем горе.
Асканио обеими руками сжал руку учителя. Коломба взяла его за другую руку и поднесла к губам. Бенвенуто вздохнул полной грудью и сказал с улыбкой:
— Полно, дети мои, оставим нежности, не то я совсем расчувствуюсь и потеряю силу. Лучше не будем никогда вспоминать обо всем этом. Отныне, Коломба, я ваш друг, ваш отец, и только. А все, что было, — просто дурной сон. Поговорим о грозящей вам опасности и о том, как ее предотвратить. Я только что слышал о ваших намерениях, о ваших планах. Какие вы еще дети! Вы совсем не знаете жизни и сами подставляете себя под удары судьбы, надеясь победить алчность, злобу и все низкие страсти человеческие своей добротой, своей улыбкой. Милые мои безумцы! На вашем месте я был бы хитер, беспощаден, зол. Но я — другое дело, жизнь многому меня научила. Вы же, мои дорогие, созданы для мира и счастья, и я позабочусь о том, чтобы жизнь вас не обманула… Злоба не омрачит твоего ясного взора, Асканио, и страдание не изменит чистого овала твоего прекрасного лица, Коломба. Я заключу вас обоих в свои объятия и бережно понесу через всю грязь и все житейские невзгоды. Я опущу вас на землю, лишь убедившись, что вы вполне счастливы, и сам буду радоваться вместе с вами. Но предупреждаю: вы должны слепо мне доверять. Мои поступки могут показаться вам странными, грубыми… быть может, даже испугают вас, Коломба. Я действую круто, по-военному, и стремлюсь прямо к намеченной цели, не оглядываясь по сторонам. Да, я больше забочусь о чистоте своих намерений, нежели о чистоте применяемых средств. Так, создавая прекрасную статую, я вовсе не думаю о своих испачканных в глине руках. Когда статуя готова, я отмываю руки, вот и все. Пусть ваша чуткая и нежная душа, дитя мое, не страшится моей вины перед Богом: мы с ним отлично понимаем друг друга. Мне предстоит иметь дело с сильными противниками, но я знаю их слабости: граф тщеславен, прево глуп, герцогиня коварна. Все трое могущественны. Вы находитесь в их власти, и двое из них имеют на вас законное право. Придется применить хитрость, насилие, но вас, дети мои, это не коснется, вы незапятнанными выйдете из недостойной борьбы. Ну как, Коломба, согласны ли вы идти за мной с закрытыми глазами? Согласны ли вы, не рассуждая, повиноваться мне, когда я скажу "Делайте это" или "Идите туда-то"?
— Как скажет Асканио, — прошептала Коломба.
— Бенвенуто великодушен и добр, — ответил Асканио, — он любит нас и прощает нам. Заклинаю вас, Коломба, будем во всем ему повиноваться!
— Приказывайте, сударь, я стану повиноваться вам, как Божьему посланцу.
— Вот и хорошо, дитя мое. Я потребую от вас только одного, хотя вам, вероятно, и трудно будет решиться на это, но решиться необходимо. А затем вам останется только ждать естественного хода событий, предоставив мне действовать одному. А для того, чтобы вы оба вполне доверились человеку, жизнь которого, быть может, запятнана, но совесть чиста, я расскажу вам историю своей юности. Увы, все эти истории похожи друг на друга, и в каждой есть свое горе. Я расскажу вам о том, как узнал мою Беатриче, этого ангела, о котором, Асканио, я уже рассказывал тебе. Ты поймешь, чем она была для меня, и перестанешь удивляться, что я безропотно уступаю тебе Коломбу. Ведь этой жертвой я только пытаюсь искупить слезы, пролитые твоей матерью, Асканио! Она была настоящей святой! Беатриче — значит блаженная, а Стефана — венчанная.
— Вы давно уже обещали рассказать мне эту историю, учитель.
— Да, — продолжал Челлини, — и теперь час настал. Выслушайте меня, Коломба! Вы поймете тогда, почему я так люблю нашего Асканио, и всецело доверитесь мне.
Вот что рассказал своим мягким, звучным голосом Бенвенуто Челлини в эту ароматную, тихую ночь под сверкающими в небе звездами, нежно держа обоих влюбленных за руки.
IV
СТЕФАНА
— С тех пор прошло уже двадцать лет. Я был таким же, как ты, Асканио, двадцатилетним юношей и работал подмастерьем у золотых дел мастера по имени Рафаэль дель Моро. Это был отличный мастер, человек со вкусом, но он предпочитал проводить время в праздности и легко поддавался соблазнам, тратя на забавы последние деньги и увлекая за собой учеников. Мне частенько приходилось оставаться одному в мастерской, чтобы, напевая, закончить какую-нибудь работу. Я тогда все время пел, вроде Скоццоне. Маэстро Рафаэль был известен своей бесхарактерностью. Он ни в чем не мог отказать людям, и к нему стекались в поисках работы или, вернее, развлечений все лентяи Флоренции. Разумеется, при таком образе жизни не разбогатеешь. Действительно, у него никогда не было денег, и вскоре он прослыл в городе мастером, не достойным доверия.
А впрочем, нет! Был во Флоренции еще менее уважаемый собрат моего учителя, хотя он и происходил из благородного рода художников. Я имею в виду Джизмондо Гадди. Только он упал во мнении флорентийцев не оттого, что не платил долгов, как Рафаэль дель Моро, а из-за неумения работать и, главное, из-за своей отвратительной скупости. В конце концов он растерял всех заказчиков, и в его мастерскую отваживался заглянуть лишь какой-нибудь неискушенный иностранец. Тогда Джизмондо начал заниматься ростовщичеством, ссужая под огромные проценты деньги сынкам богачей, расточавшим свое будущее наследство. Это дело пошло гораздо лучше, потому что Гадди всегда брал крупные залоги и никогда не шел на риск. Кроме того, по его собственным словам, Джизмондо был весьма предусмотрителен и терпим: он ссужал деньгами решительно всех — и соотечественников, и иностранцев, и христиан, и евреев; он охотно ссудил бы и святого Петра под залог его ключей, и сатану под залог адских сокровищ.
Надо ли говорить, что он давал деньги и моему несчастному хозяину Рафаэлю дель Моро, который день ото дня все больше запутывался в долгах, хотя по-прежнему оставался честным человеком. Постоянное деловое общение обоих собратьев по ремеслу, близкое соседство и, наконец, пренебрежительное отношение к ним сограждан сблизили их. Дель Моро был полон признательности Джизмондо Гадди за безграничную готовность ссужать его деньгами. Гадди, в свою очередь, питал глубокое уважение к своему честному и скромному должнику. Словом, вскоре они стали закадычными друзьями, и Джизмондо ни за какие сокровища не пропустил бы ни одной из пирушек, на которые всегда приглашал его Рафаэль дель Моро.
Дель Моро был вдовцом, у него была шестнадцатилетняя дочь по имени Стефана.
Стефана не была красавицей в строгом смысле этого слова, но с первого же взгляда пленяла каждого. Под ее слишком высоким и крутым для женщины лбом чувствовалась работа мысли, а взгляд больших, блестящих, бархатисточерных глаз проникал в самую душу, и вы невольно ощущали при этом прилив благоговейной нежности. Мягкая, печальная улыбка, как осеннее солнце, озаряла ее бледное, чуть смуглое лицо. Я забыл сказать, что у девушки были божественно прекрасные руки, а голову ее венчала корона пышных волос.
Стефана имела привычку немного склонять головку, как лилия, надломленная бурей. Живое воплощение меланхолии! Но когда она что-нибудь приказывала, повелительно подняв руки, стан ее гордо выпрямлялся, дивные глаза загорались, ноздри трепетали, и вы готовы были пасть перед ней ниц, как перед архангелом Гавриилом. Ты очень похож на нее, Асканио, но у тебя нет ее болезненной слабости и страдальческого выражения лица. Никогда еще бессмертная душа не являлась мне так ясно, как в этом хрупком, женственном, изящном теле! Дель Моро, который любил свою дочь и вместе с тем побаивался ее, не раз говорил, что, хоть жена его и лежит в могиле, ее душа продолжает жить в Стефане.
Я был в то время ветреным, необузданным и отважным юнцом и больше всего на свете ценил свободу. Молодость била во мне ключом, и я расточал ее в буйных драках и бурной любви. Работал я так же, как и развлекался, со всем пылом юности и, несмотря на свои дурачества, был лучшим подмастерьем Рафаэля. Только на моем заработке и держался еще кое-как наш дом. Однако все, что я делал хорошего, получалось чисто случайно, необдуманно. Я прилежно изучал античное искусство, целыми часами копируя статуи и барельефы греческих и римских мастеров; и это знакомство с великими ваятелями древности дало мне четкость линий и чистоту форм. Но я был тогда всего-навсего хорошим подражателем, а не творцом. И все же, повторяю, я был самым искусным и трудолюбивым учеником дель Моро. Вот почему мой учитель, как я впоследствии об этом узнал, мечтал выдать за меня свою дочь.
Но я и не думал о женитьбе, поверьте! Я жаждал развлечений, свободы, независимости. Я на целые дни исчезал из дому, а по вечерам возвращался разбитый усталостью и все же успевал за несколько часов перегнать в работе остальных подмастерьев Рафаэля. Я дрался из-за одного сказанного невпопад слова, влюблялся за один брошенный мне взгляд. Нечего сказать, славный муж вышел бы из меня!
Чувство мое к Стефане ничуть не походило на мою влюбленность в красоток из Порта-дель-Прато или Борго-Пинти. Я почти робел перед ней. И если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что я люблю ее не как сестру, я расхохотался бы ему в лицо. Возвращаясь после своих похождений, я не решался поднять на нее глаза. Стефана была тогда не строга, нет, а печальна. И, наоборот, если, устав от забав или испытывая благодатное рвение к труду, я оставался дома, мне было отрадно ощущать на себе ясный взгляд Стефаны, слышать ее нежный голосок. Моя любовь к ней была глубокой, почти благоговейной, я и сам не понимал, что это за чувство, но от него так сладко замирало сердце… Нередко среди шумных развлечений мне вдруг приходила мысль о Стефане, и в тот же миг я становился тих и печален. А если, обнажая шпагу или кинжал, я произносил ее имя как имя своей святой покровительницы, то неизменно выходил победителем, и притом без единой царапины. Но это чувство к прелестной, нежной и невинной девушке таилось, как святыня, в глубине моей души.
Стефана, холодная и гордая с моими нерадивыми товарищами, была со мной бесконечно добра и терпелива. Она иногда приходила в мастерскую и садилась возле отца; склоняясь над работой, я всегда чувствовал на себе ее взгляд. Я был горд и счастлив ее предпочтением, хотя и не пытался разобраться в нем. А когда кто-нибудь из подмастерьев, желая грубо польстить мне, говорил, что хозяйская дочка влюбилась в меня, ему так доставалось, что он никогда больше не решался повторить свои слова. И только несчастье, случившееся со Стефаной, показало мне, как прочно вошла она в мое сердце.
Однажды, находясь в мастерской, она не успела отдернуть руку и неловкий подмастерье — думаю, он был пьян — глубоко поранил ей резцом два пальца на правой руке. Бедняжка отчаянно вскрикнула, но тут же спохватилась и, чтобы успокоить нас, улыбнулась, хотя вся рука ее была в крови. Кажется, я убил бы этого парня. Джизмондо Гадди тоже был в мастерской; он сказал, что знает по соседству одного хирурга, и тотчас же побежал за ним. Хирург оказался плохим лекаришкой; правда, он ежедневно навещал Стефану, но был настолько невежествен, что у больной началось заражение крови. Тогда этот осел важно заявил, что все его усилия оказались тщетными и, вероятно, придется отнять руку. Рафаэль дель Моро к тому времени почти разорился, и ему не на что было позвать другого врача. Я же, услыхав страшный приговор, бросился к себе в каморку, вытряхнул из кошелька все свои сбережения и помчался к Джакомо Растелли де Перузе, лучшему итальянскому хирургу, который лечил самого папу. Вняв моей отчаянной мольбе, а главное, увидев порядочную сумму денег, он тотчас же отправился к больной, проворчав: "Ох уж эти мне влюбленные!.." Осмотрев рану, врач объявил, что берется вылечить ее и что недели через две Стефана будет совсем здорова. Мне хотелось расцеловать этого достойного человека. Он перевязал больной раненые пальчики, и Стефане сразу стало легче. Но через несколько дней обнаружилась костоеда, и пришлось делать операцию.
Стефана просила меня присутствовать при операции: это придаст ей смелости, сказала она. А у меня сердце сжималось от страха. Хирург Джакомо орудовал грубыми инструментами, которые причиняли девушке страшную боль. Она не могла сдержать стонов, которые рвали мне сердце, на лбу у меня выступил холодный пот.
В конце концов я не выдержал: я не мог смотреть, как этот страшный инструмент терзает тонкие, нежные пальчики; мне казалось, будто он терзает меня самого. Я вскочил, умоляя мэтра Джакомо на несколько минут отложить операцию.
Можно было подумать, что меня вдохновил какой-то добрый гений: я сбежал в мастерскую и быстро изготовил стальной ножичек, тонкий и острый, как бритва. Вернувшись, я отдал его хирургу, и операция прошла так легко, что Стефана почти не страдала. В пять минут все было закончено, а через две недели она уже дала поцеловать мне свою ручку, которую, как она говорила, я спас.
Не берусь описывать, какую пытку пришлось мне пережить, глядя на страдания бедной смиренницы — так я называл иногда Стефану.
В самом деле, смирение являлось неотъемлемым, врожденным качеством ее души. Стефана не была счастлива: легкомыслие и беспутный образ жизни ее отца приводили ее в отчаяние; религия стала единственным ее утешением. Подобно всем несчастным, она была набожна.
Заходя в церковь (я всегда любил Бога), я нередко встречал там Стефану, которая, стоя в сторонке, горячо молилась и плакала.
В трудные дни, которые из-за беспечности Рафаэля дель Моро часто выпадали на ее долю, она обращалась ко мне за помощью, делая это с доверчивостью, с благородством, приводившими меня в восторг.
"Бенвенуто, — говорила она мне с той милой простотой, которая присуща лишь возвышенным сердцам, — прошу вас — посидите сегодня попозже за работой и закончите эту вещицу. У нас в доме нет ни гроша".
Вскоре у меня вошло в привычку спрашивать ее мнение о каждой работе; она умела зорко подмечать недостатки и давала превосходные советы. Одиночество и горе развили ее ум и возвысили душу. Ее наивные, но вместе с тем глубокие суждения помогли мне постигнуть не одну тайну творчества и часто открывали передо мной новые пути в искусстве.
Помню, однажды я показал ей модель заказанной мне кардиналом медали: на одной стороне был изображен сам кардинал, а на другой — Иисус Христос, идущий по волнам и протягивающий руку апостолу Петру. А внизу надпись: "Quare dubitasti?" — "Зачем усомнился?"
Портрет кардинала Стефана похвалила — он мне удался и был довольно схож с оригиналом. Потом она молча долго глядела на Спасителя и наконец сказала:
"Лицо красиво, и, если бы оно принадлежало Аполлону или Юпитеру, я не возражала бы. Но ведь Спаситель не только красив — он божествен. Черты этого лица безупречно правильны, но где же в нем душа? Я восхищаюсь человеком и не вижу Бога. Помните, Бенвенуто, вы не только художник, вы христианин. Знайте, и мне приходилось падать духом, сомневаться, и я видела Христа, который, протягивая мне руку, говорил: "Зачем усомнилась?" Ах, Бенвенуто, Его небесный лик прекрасней, чем созданный вами! В Нем чувствовалась и скорбь отца и всепрощающее милосердие. Чело сияло, а уста улыбались. Он был не только велик, ной добр".
"Постойте, постойте, Стефана!"
Я поспешно спер набросок и за какие-нибудь четверть часа нарисовал у нее на глазах другой лик Христа.
"Верно я понял вас, Стефана?"
"О да, да! — воскликнула она со слезами на глазах. — Точно таким являлся мне Спаситель в минуту отчаяния. Я сразу же узнала Его величественное и благостное лицо. И я советую вам, Бенвенуто: прежде, чем браться за работу, подумайте над тем, что вы собираетесь создать. Вы овладели мастерством — добивайтесь выразительности. У вас есть материал — одухотворяйте его. Пусть ваши руки выполняют веления вашего разума".
Вот какие советы давала мне эта шестнадцатилетняя девушка, наделенная свыше тонким художественным вкусом.
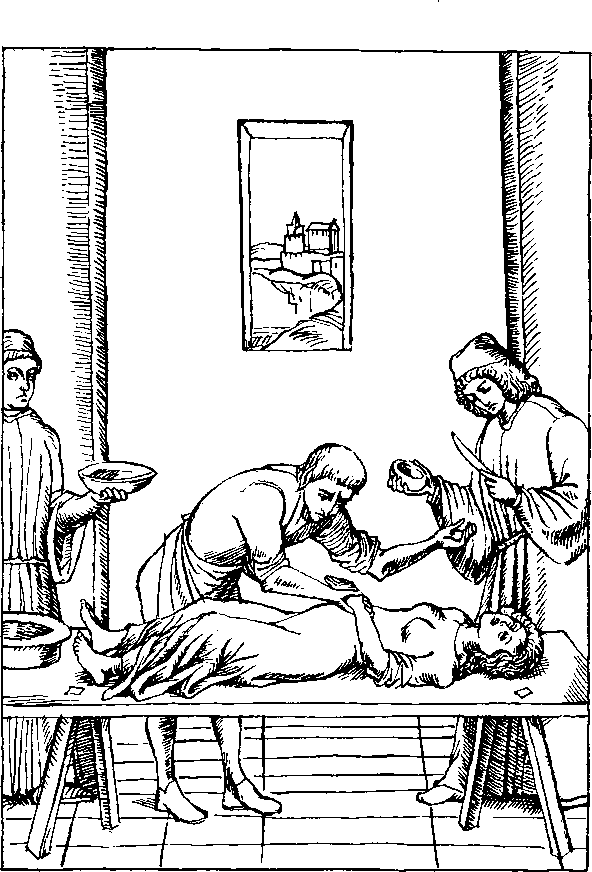
В одиночестве я часто размышлял над ее словами и понимал, что она права. Так Стефана просвещала и направляла меня. Овладев формой, я пытался вдохнуть в нее мысль, чтобы дух и материя выходили из моих рук, слитые воедино, как Минерва из головы Юпитера.
Господи! Как живучи воспоминания юности и как много в них очарования!.. Коломба, Асканио! Этот чудесный вечер живо напоминает мне вечера, проведенные наедине со Стефаной, на скамье возле дома ее отца. Она смотрела на звезды, я же смотрел только на нее. С тех пор прошло двадцать лет, а мне кажется, будто это было только вчера. Вот и сейчас у меня такое чувство, будто я сжимаю ее руки, но это ваши руки, дети мои! Да, что ни делает Господь, все благо.
Стоило мне увидеть ее бледное личико и белое платье, как душа моя преисполнялась дивным покоем. Бывало, сидя рядом, мы за целый вечер не произносили ни слова; но этот безмолвный разговор рождал во мне высокие мысли и чувства, делал меня чище и лучше.
Всему, однако, приходит конец; кончилось и наше счастье.
Рафаэль дель Моро вконец разорился. Он задолжал своему доброму соседу две тысячи дукатов и не знал, как вернуть этот долг. Бедняга был просто в отчаянии. Он хотел, по крайней мере, спасти свою дочь, выдав ее за меня, и поделился этой мыслью с одним из подмастерьев, очевидно, для того, чтобы тот поговорил со мной. Это был негодяй, которого я проучил однажды, когда он вздумал грубо подшучивать над моей братской любовью к Стефане.
"Откажитесь от этой мысли, маэстро дель Моро, — прервал он учителя, даже не дав ему договорить. — Ручаюсь, у вас ничего не выйдет".
Рафаэль дель Моро был горд и, решив, что я презираю его за бедность, не сказал мне ни слова.
Вскоре Джизмондо Гадди потребовал взятые у него в долг деньги. Рафаэль стал упрашивать его немного повременить. Тогда Гадди сказал:
"Послушайте, отдайте за меня свою дочь! Она умна и бережлива, и мы с вами будем квиты".
Дель Моро несказанно обрадовался. Гадди слыл за человека грубого и ревнивого, но был богат, а именно за богатство больше всего ценят и уважают человека бедняки.
Когда Рафаэль сказал дочери об этом предложении, она не промолвила ни слова; только вечером, собираясь вернуться домой после нашего свидания, девушка сказала просто:
"Бенвенуто, Джизмондо Гадди просил моей руки, и отец дал свое согласие".
Не прибавив больше ни слова, она ушла. Я, как ужаленный, вскочил со скамьи, в сильнейшем волнении выбежал из города и стал бродить по полям.
Всю ночь я то метался как одержимый, то, рыдая, лежал на мокрой траве, и тысячи самых отчаянных, безумных, диких мыслей проносились в моем воспаленном мозгу. "Стефана будет женой Джизмондо! — говорил я себе, пытаясь овладеть собой. — И если я содрогаюсь от ужаса при мысли об этом, то каково же ей, бедняжке! Стефана, разумеется, предпочла бы выйти за меня. Она ничего не говорит, но молча взывает к моей дружбе, старается пробудить во мне ревность. О да! Я ревную! Я бешено ревную! Но имею ли я право ревновать? Гадди, конечно, угрюм и груб, но будем беспристрастны: могу ли я дать счастье женщине? Ведь я жесток, своенравен, нетерпим, всегда готов драться на дуэли, волочиться за первой встречной! Сумею ли я переломить себя? Нет, никогда! Покуда кровь кипит в моих жилах, рука моя не выпустит шпаги, а ноги сами понесут меня из дома.
Бедная Стефана! Сколько ей пришлось бы страдать и плакать! Она зачахла бы у меня на глазах, была бы для меня вечным укором, и я возненавидел бы ее и себя. В конце концов она умерла бы с горя, и я был бы ее убийцей. Увы, я не создан для чистых и мирных радостей домашнего очага. Мне нужны простор, свобода, бури — все что угодно, только не однообразный покой семейного счастья. Своими грубыми руками я надломил бы этот нежный и хрупкий цветок. Я измучил бы своим беспутством это бесконечно дорогое мне существо, эту чуткую любящую душу и себя истерзал бы нескончаемыми угрызениями совести. Да, но лучше ли ей будет с Джизмондо Гадди? И зачем ей, собственно, выходить за него? Ведь нам было так хорошо вдвоем! Стефана прекрасно понимает, что дух и судьбу художника нельзя сковать никакими цепями, подчинить мещанскому укладу семейной жизни. Мне пришлось бы навеки проститься с мечтами о славе, похоронить свое будущее, отказаться от искусства, которое не может существовать без свободы, без самостоятельности. Виданое ли дело — великий творец, гений, сидящий в углу за очагом? О бессмертный Данте Алигьери! И вы, мой учитель Микеланджело! Как бы вы смеялись, видя, что ваш последователь баюкает детишек и трепещет перед своей супругой! Нет, только не это! Мужайся, Бенвенуто, и пощади Стефану. Оставайся одиноким и верным своей мечте".
Как видите, дети, я не стремлюсь приукрасить свой безрассудный поступок. Принятое мною решение было несколько себялюбиво; однако я руководствовался самой искренней и глубокой любовью к Стефане, и потому оно казалось мне правильным.
На следующий день я вернулся в мастерскую довольно спокойным. Стефана тоже выглядела спокойной и была только чуть бледнее обычного.
Прошел месяц. И вот однажды вечером, расставаясь со мной, она сказала:
"Бенвенуто, через неделю я стану женой Джизмондо Гадди".
Но на этот раз она медлила уйти, и мне навсегда запомнился тот ее образ: девушка стояла передо мной грустная и безмолвная, прижав руку к сердцу и согнувшись под бременем страдания. И милая, приветливая улыбка ее была так печальна, что, глядя на нее, хотелось плакать. Она смотрела на меня скорбно, но без упрека. Казалось, мой тихий ангел навеки прощается со мной, покидая землю. Постояв минуту в полном молчании, она вошла в дом, и мне больше не суждено было ее видеть.
И опять я выбежал из города, но уже ни в этот день, ни на следующий я не вернулся обратно, а шел все дальше и дальше, не чувствуя усталости, пока не оказался в Риме.
Там я прожил пять лет, стал известным, удостоился благосклонности папы, дрался на дуэлях, преуспевал в своем ремесле, но счастлив не был, мне все время чего-то недоставало, и, кружась в водовороте жизни, я каждый день вспоминал Флоренцию. И каждую ночь я видел во сне Стефану; бледная, она стояла на пороге отчего дома и печально глядела на меня.
Через пять лет я получил из Флоренции письмо с траурной печатью. Я столько раз читал и перечитывал его, что запомнил наизусть. Вот оно:
"Бенвенуто, я скоро умру. Бенвенуто, я любила Вас. И вот о чем я мечтала: я знала Вас как самое себя, я предугадала скрытый в Вашей душе талант и была уверена, что Вы станете великим человеком. Ваше высокое чело, пламенный взгляд, неукротимая энергия — все говорило о гении, налагающем тяжкие испытания на женщину, которая стала бы Вашей женой. Я готова была на все. Счастье для меня заключалось бы в величии выпавшего на мою долю предназначения. Я была бы не только Вашей женой, но матерью, другом, сестрой. Я понимала — Ваша благородная жизнь принадлежит миру, и удовольствовалась бы тем, что развлекала бы Вас в минуты горести и утешала бы в несчастье. Вы всегда и во всем оставались бы свободны. Увы, я так давно привыкла к мучительному одиночеству, к неровностям Вашего пылкого характера, к прихотям Вашей бурной натуры. У незаурядных людей — незаурядные стремления. Чем выше парит в небесах могучий орел, тем дольше он вынужден отдыхать на земле. Пробудившись от своих лихорадочных и возвышенных грез, Вы снова принадлежали бы мне одной, мой великий Бенвенуто, мой прекрасный возлюбленный! Я никогда не упрекнула бы Вас за долгие часы забвения — ведь в них не было бы для меня ничего оскорбительного. Что же касается меня, то, сама зная, что Вы ревнивы, как все благородные сердца, как был ревнив сам бог поэтов, я держалась бы без Вас подальше от людских глаз и ожидала бы Вас в одиночестве, молясь за Вас Богу. Вот какой представляла я свою жизнь. Но когда Вы меня покинули, я подчинилась воле Провидения и Вашей воле и, отказавшись от счастья, поступила так, как велел мне дочерний долг. Отец желал, чтобы я спасла его от бесчестья, выйдя замуж за его заимодавца; я повиновалась. Муж мой оказался черствым, безжалостным и жестоким человеком. Он не довольствовался моей покорностью и требовал, чтобы я любила его; но это было свыше моих сил. Видя мою невольную грусть, он грубо обращался со мной. Я смирилась. Надеюсь, я была ему верной и достойной женой, хоть и всегда такой печальной, Бенвенуто!
Бог наградил меня за страдания — он послал мне сына. В течение четырех лет нежные ласки ребенка позволяли мне забывать об оскорблениях, побоях, а под конец и о нищете. Потому что в погоне за наживой мой муж разорился и месяц назад умер от истощения и горя. Да простит ему Бог все грехи, как прощаю их я! Теперь и я умираю. Сегодня же меня не станет. Я завещаю Вам, Бенвенуто, своего сына. Быть может, все к лучшему. Как знать, сумела бы я, слабая женщина, до конца исполнить трудную роль, о которой мечтала… Мой сын Асканио (он похож на меня) будет Вам более достойным и покорным спутником жизни, он сумеет любить Вас если не сильней, то, по крайней мере, лучше меня. И я не ревную его к Вам. Бенвенуто, будьте моему сыну тем, чем я хотела быть для Вас, — будьте ему другом! Прощайте, Бенвенуто! Да, я любила и люблю Вас и не стыжусь признаться в этом, стоя у врат вечности. Это святая любовь. Прощайте! Будьте великим художником, а я наконец обрету вечный покой и счастье. Смотрите хоть изредка на небо, чтобы я могла видеть Вас оттуда.
Ваша Стефана".
— Ну как, верите вы мне теперь, Коломба и Асканио?
Согласны ли вы слушаться моих советов?
— Да! — в один голос воскликнули влюбленные.
V
ОБЫСК
На другое утро после того, как в парке Малого Нельского замка при слабом мерцании звезд была рассказана эта история, мастерская Бенвенуто имела свой обычный вид: сам мастер работал над солонкой, золото для которой он так храбро защищал накануне от четырех наемников, посягавших на благородный металл, а заодно и на его жизнь; Асканио чеканил лилию для герцогини д’Этамп; Жак Обри, лениво развалясь в кресле, засыпал Челлини вопросами и тут же сам на них отвечал, потому что Бенвенуто не открывал рта; Паголо украдкой посматривал на Катрин, занятую каким-то рукоделием; Герман и остальные подмастерья шлифовали, паяли, пилили, чеканили, и этот мирный труд оживляла веселая песенка Скоццоне.
Далеко не так спокойно было в Малом Нельском замке: исчезла Коломба. Суматоха поднялась ужасная. Девушку искали, звали. Перрина испускала душераздирающие вопли, а прево тщетно пытался добиться от дуэньи хотя бы одного вразумительного слова, чтобы напасть на след похищенной, а может быть, и сбежавшей дочери.
— Итак, госпожа Перрина, — спрашивал он, — вы сказали, что видели ее последний раз вчера вечером, вскоре после моего ухода?
— Увы, сударь, так оно и было!.. Господи Иисусе! Вот напасть-то! Бедняжечка выглядела немного печальной. Она сняла с себя роскошный наряд и драгоценности, в которых ездила ко двору, и надела простенькое белое платье… Силы Небесные, сжальтесь над нами!.. Потом она сказала мне: "Госпожа Перрина, сегодня такой теплый вечер, я пройдусь немного по моей любимой аллее". Было часов семь, сударь, и вот эта дама… — Перрина указала на Пульчери, которую недавно дали ей в помощницы, а вернее, в начальницы, — эта дама уже вернулась к себе в комнату и, видно, по своему обыкновению, занялась нарядами, которые она так искусно мастерит, сударь! А я села в зале нижнего этажа и стала шить. Уж не знаю, сколько времени просидела я за работой… возможно, мои усталые глаза закрылись сами собой, и я на минутку забылась.
— Ну да, как обычно, — съязвила Пульчери.
— Около десяти часов я пошла в сад поглядеть, не замечталась ли там Коломба, — продолжала Перрина, не удостоив ответом неприятельницу. — Я громко позвала ее, но Коломба не откликнулась. Тогда я подумала, что она вернулась и легла спать, а меня будить пожалела. Она часто так делала, моя голубушка!.. Милосердный Бог! Ну кто бы мог подумать!.. Ах, мессир прево, чем угодно ручаюсь, что ее похитили, нашу бедняжечку!
— Ну, а сегодня утром? — нетерпеливо прервал прево. — Утром, утром-то что?
— Сегодня утром, когда я увидела, что она долго не выходит… Спаси и помилуй нас, Пресвятая Дева Мария!
— Да прекратите ли вы наконец свои идиотские причитания?! — заорал мессир д’Эстурвиль. — Рассказывайте по порядку все, как было! Итак, сегодня утром?..
— Ах, сударь! Я не перестану плакать, пока не отыщется наша голубка, и вы не можете запретить мне проливать по ней горькие слезы. Сегодня утром я встревожилась, что ее так долго нет: ведь Коломба — ранняя пташка, и пошла ее будить. Я постучала в дверь — Коломба не отзывалась; тогда я вошла в ее комнату. Никого! Даже постель не смята. И тут я принялась кричать, звать на помощь! Я совсем голову потеряла! А вы еще хотите, сударь, чтобы я не плакала.
— Пускали вы кого-нибудь сюда в мое отсутствие, госпожа Перрина? — строго спросил прево.
— Я? В ваше отсутствие? А кого бы, например, я могла пустить сюда, господин прево? — с явным возмущением воскликнула достойная дуэнья, совесть которой была не совсем чиста. — Разве вы не запретили мне это? Случалось ли хоть раз, чтобы я ослушалась вас, сударь? Пускать сюда кого-нибудь? Вот еще!
— Ну, например, этого Бенвенуто, который осмелился сказать, что моя дочь красавица. Он не пытался вас подкупить?
— Бенвенуто? Поглядела бы я на него! Да ему легче было бы на луну забраться! Я славно приняла бы его, уж поверьте!
— Значит, у вас тут никогда не бывало мужчин, молодых людей?
— Молодых людей? Спросили бы лучше, месье, не заходил ли сюда сам сатана!
— Кто же тогда этот миловидный юноша, который раз десять стучался к нам, с тех пор как я здесь служу? — спросила Пульчери. — И я всякий раз захлопывала дверь перед самым его носом.
— Миловидный юноша? Ошибаетесь, милочка, это был, вероятно, граф д’Орбек. Ах да, понимаю, вы, видно, говорите про Асканио. Помните Асканио, ваша милость? Тот мальчик, который спас вам жизнь. Да, в самом деле! Я отдавала ему чинить серебряные пряжки от своих башмаков. Так это вы его считаете молодым человеком, этого мальчишку подмастерье? Опомнитесь, моя милая! Даже стены дома и каменные плиты двора могут засвидетельствовать, что его ноги тут никогда не бывало!
— Довольно! — строго прервал прево. — Но знайте, госпожа Перрина, если вы обманули мое доверие, вам несдобровать. А теперь пойду к Бенвенуто. Как-то еще встретит меня этот грубиян, но идти надо.
Вопреки всем ожиданиям, Бенвенуто Челлини встретил д’Эстурвиля с распростертыми объятиями. Художник был так спокоен и непринужденно обходителен, что старик не решился высказать ему своих подозрений. Он только заявил, что Коломба вчера вечером чего-то испугалась и убежала из дому. Вот он и думает, не спряталась ли она — разумеется, без ведома Челлини — в Большом Нельском замке, а может быть, проходя мимо него, даже упала в обморок и теперь лежит где-нибудь без чувств. Словом, д’Эстур-виль врал самым немилосердным образом.
Но Челлини выслушал старика с таким видом, будто поверил всем его басням. Более того, он посочувствовал гостю, сказав, что был бы счастлив вернуть дочь такому любящему отцу, окружившему свое дитя самой трогательной заботой и вниманием. И прибавил, что беглянка совершила величайшую ошибку, и она скоро поймет это и не замедлит вернуться под родительский кров — свое единственное и надежное прибежище. Наконец, в доказательство своего искреннего участия к мессиру д’Эстурвилю Бенвенуто предложил сопровождать его во время поисков дочери не только по Большому Нельскому замку, но повсюду, где угодно.
Прево, почти поверивший Бенвенуто и тем более польщенный его похвалами, что в глубине души чувствовал, насколько они незаслуженны, принялся тщательнейшим образом обследовать свои бывшие владения, где знал все тайники и закоулки. Он входил в каждую дверь, открывал каждый шкаф, заглядывал как бы невзначай в каждый сундук. Осмотрев замок, он обошел парк, заглянул в арсенал, в литейную мастерскую, в конюшню и в подвал, обследовав все самым внимательным образом. Бенвенуто, верный своему обещанию, изо всех сил старался ему помочь: предлагал ключи от той или иной двери, напоминал, что мессир забыл осмотреть такой-то коридор или чулан. Наконец, он посоветовал прево всюду расставить часовых, чтобы Коломба, если она здесь, не могла незаметно проскользнуть из одного помещения в другое.
После напрасных двухчасовых поисков мессир д’Эстур-виль уверился, что дочери нигде нет, и покинул Большой Нельский замок, смущенный любезностью хозяина, которого он то благодарил, то просил извинить за причиненное беспокойство.
— Когда бы вам ни вздумалось возобновить поиски, мой дом в вашем распоряжении, — отвечал художник. — Можете приходить в любое время дня и ночи, как к себе домой. К тому же это ваше право, мессир прево! Ведь мы с вами подписали договор, в котором обязались жить как добрые соседи.
Прево еще раз поблагодарил его и, желая отплатить любезностью за любезность, принялся расхваливать исполинскую статую Марса, над которой, как мы знаем, скульптор в то время трудился. Бенвенуто обвел гостя вокруг статуи, с удовольствием отмечая ее удивительные размеры. В самом деле, она имела более шестидесяти футов в высоту, и надо было сделать двадцать шагов, чтобы обойти ее у основания.
Мессир д’Эстурвиль ушел в полном отчаянии. Не найдя дочери в Большом Нельском замке, он решил, что она скрывается где-нибудь в городе. Париж уже в те времена был достаточно велик, чтобы поиски исчезнувшей девушки затруднили даже начальника полиции. Да и как знать: похитили Коломбу или она сбежала сама? Явилась ли она жертвой насилия или действовала по собственному побуждению? Полная неизвестность, и неоткуда ждать помощи! Прево ничего не оставалось делать, как надеяться, что в первом случае дочь ускользнет от похитителей, а во втором — сама вернется в отчий дом. Итак, он терпеливо ждал, все же по двадцати раз в день допрашивая Перрину, которая Богом клялась и призывала в свидетели всех святых, утверждая, что не пускала в замок никого, кроме Асканио; а его Перрина подозревала не больше, чем сам мессир д’Эстурвиль.
Прошло два дня. Коломба не появлялась. Тогда прево решил прибегнуть к услугам своих агентов. До сих пор он этого не делал, боясь огласки, которая могла повредить его доброму имени. Да и сейчас он дал им только приметы разыскиваемой особы, не называя ее, и велел начать поиски под совершенно иным, далеким от истины предлогом.
Но все оказалось тщетным. Правда, господин д’Эстурвиль никогда не был любящим, нежным отцом и не особенно тревожился о дочери, но тут оказалась задетой его честь, и он переживал муки уязвленной гордости. Он с негодованием думал о том, какую блестящую партию, скорее всего, уже упустила дурочка, и приходил в бешенство при мысли о шутках и насмешках, которыми будет встречена при дворе весть о его несчастье.
Но жениху все же пришлось сказать правду. Графа это известие огорчило, однако, не больше, чем купца — весть о порче товара. Он был философом, наш милейший граф, и потому обещал своему достойному другу, что, если дело не получит особой огласки, свадьба непременно состоится; и тут же, как человек, умеющий пользоваться обстоятельствами, намекнул о видах на Коломбу герцогини д’Этамп.
Злосчастный прево был просто ослеплен честью, которая могла выпасть на его долю; терзания его усилились, он проклинал в душе неблагодарную дочь, по собственной вине упустившую столь высокое положение.
Избавим читателя от разговора двух стариков придворных, последовавшего за сообщением графа д’Орбека. Заметим лишь, что скорбь и надежда проявлялись у них самым трогательным образом. Известно, что несчастья сближают людей, поэтому будущие родственники расстались закадычными друзьями, не собирающимися отказываться от мелькнувшей перед ними блестящей перспективы.
Было решено никому не говорить о случившемся, кроме герцогини д’Этамп; герцогиня была их другом и верной сообщницей, и ее следовало посвятить в тайну.
Решение оказалось правильным. Герцогиня д’Этамп приняла все случившееся ближе к сердцу, чем отец и жених беглянки, и сделала для розысков гораздо больше, чем все полицейские, вместе взятые.
В самом деле, она знала о любви Асканио к Коломбе, и по ее настоянию юноша присутствовал при сцене заговора. "Быть может, поняв опасность, грозящую чести любимой, — думала герцогиня, — Асканио решился на этот дерзкий шаг? Но ведь он сам говорил мне, что Коломба его не любит. А если так, девушка вряд ли согласилась бы бежать с ним". Герцогиня д’Этамп хорошо знала Асканио и не допускала мысли, чтобы он мог насильно похитить женщину. И все же, вопреки этим доводам и, казалось бы, явной невиновности Асканио, женская ревность подсказывала ей, что искать Коломбу надо в Нельском замке и что сначала необходимо взять под стражу Асканио.
Но герцогиня не могла, разумеется, объяснить друзьям причину зародившихся у нее подозрений — ведь тогда ей пришлось бы признаться в своей любви к Асканио и сказать, что, ослепленная страстью, она открыла юноше свои намерения относительно Коломбы. Поэтому герцогиня внушила им, что главный виновник похищения — Бенвенуто, его сообщник — Асканио, а убежищем беглянки служит Большой Йельский замок. И сколько прево ни спорил, уверяя, что обшарил все углы и закоулки, герцогиня д’Этамп не сдавалась: у нее были на то свои причины. В конце концов ей все же удалось заронить сомнение в душу д’Эстурвиля.
— Впрочем, — заметила герцогиня, — я позову Асканио и хорошенько сама его допрошу, будьте покойны!
— О мадам, вы так добры! — воскликнул прево.
— А вы слишком глупы, — процедила сквозь зубы герцогиня.
И, выпроводив обоих придворных, она стала размышлять, под каким бы предлогом вызвать юношу. Герцогиня еще не успела ничего придумать, как ей доложили о приходе Асканио. Итак, он сам шел навстречу ее желаниям.
Герцогиня д’Этамп посмотрела на юношу таким испытующим взглядом, словно хотела проникнуть в сокровенные тайники его души. Но Асканио, по-видимому, ничего не заметил — он был спокоен и холоден.
— Госпожа герцогиня, — сказал он с поклоном, — я принес вам лилию; она почти готова; недостает лишь капельки росы, но для нее нужен бриллиант в двести тысяч экю, который вы обещали мне дать.
— Ну, а как твоя Коломба? — вместо ответа спросила герцогиня.
— Если вы изволите говорить о мадмуазель д’Эстурвиль, сударыня, я готов на коленях умолять вас: не произносите больше при мне этого имени! — мрачно ответил Асканио. — Заклинаю вас всем святым — не будем никогда говорить о ней!
— Что это? Вы, кажется, раздосадованы? — воскликнула герцогиня, не спуская с Асканио своего проницательного взора.
— Каковы бы ни были мои чувства, сударыня, я отказываюсь беседовать с вами об этом даже под угрозой вашей немилости. Я поклялся самому себе, что все воспоминания об этой особе навеки останутся погребенными в моей душе.
"Неужели я ошиблась и Асканио непричастен к этой истории? — подумала герцогиня. — Неужели девчонка сбежала с кем-то другим — неважно, по своему желанию она это сделала или нет, — и, расстроив мои честолюбивые замыслы, невольно послужила моей любви?"
Вслух же герцогиня прибавила:
— Хорошо, Асканио, вы просите меня не говорить о Коломбе, но о себе-то, по крайней мере, я могу говорить? Вы видите, я соглашаюсь на вашу просьбу, но, может быть, разговор обо мне окажется для вас еще более неприятным. Быть может…
— Простите, что я прерываю вас, госпожа герцогиня, — сказал Асканио, — но доброта, с какой вы согласились выполнить мою первую просьбу, дает мне смелость обратиться к вам со второй. Видите ли, хотя мои родители и благородные люди, но свое одинокое и безрадостное детство я провел в скромной мастерской золотых дел мастера. Из этого уединения я неожиданно попал в блестящее придворное общество, оказался замешанным в заговоре людей, вершащих судьбы королевства, нажил себе врагов среди сильных мира сего и стал соперником самого короля, да еще какого короля! Короля Франциска Первого, могущественнейшего из правителей всего христианского мира! Я сразу очутился в кругу знатнейших людей Франции. Я полюбил без надежды на взаимность милую девушку и пробудил к себе любовь знатной дамы, на которую не могу ответить. И кто же полюбил меня? Подумать только! Прекраснейшая, благороднейшая женщина в мире! Все это внесло смятение в мою душу, спутало мои представления о мире, подавило, ошеломило, уничтожило меня… Я борюсь, словно карлик, пробудившийся в царстве титанов. Мысли и чувства мои мешаются, я ничего не понимаю и брожу как потерянный, страшась окружающей меня жестокой ненависти, беспощадной любви, высокомерного тщеславия. О сударыня, умоляю вас, пощадите! Дайте мне собраться с духом, позвольте утопающему перевести дыхание, больному — прийти в себя после тяжкого потрясения. Надеюсь, время исцелит мою душу, внесет успокоение в мою жизнь. Время, только время! Умоляю вас, подождите и смотрите на меня сейчас просто как на художника, который пришел спросить, угодил ли он вам своей работой.
Герцогиня удивленно и недоверчиво глядела на Асканио. Она никак не ожидала, что этот юноша, почти ребенок, мог так возвышенно и вместе с тем так серьезно и ясно выражать свои мысли. Ей пришлось повиноваться; она заговорила о лилии, похвалила Асканио, дала ему кое-какие советы и обещала в скором времени прислать крупный бриллиант. Юноша поблагодарил герцогиню и откланялся, всячески стараясь выказать свою признательность и почтение.
"Неужели это Асканио? — думала герцогиня, глядя ему вслед. — Он кажется постаревшим лет на десять. Откуда у него эта серьезность, чуть ли не значительность? Страдания тому причиной или счастье? Искренен ли он или его подучил этот проклятый Бенвенуто? Играет ли он хорошо заученную роль или действует по велению сердца?"
И Анна д’Этамп не выдержала. Несмотря на весь свой ум, герцогиня не совладала с тем лихорадочным волнением, какое овладевало всеми, кому приходилось бороться с Бенвенуто Челлини. Она приставила к Асканио шпионов, которые должны были следить за каждым его шагом, но это ни к чему не привело. Тогда она посоветовала графу д’Орбеку и прево еще раз нагрянуть с обыском в Нельский замок.
Они повиновались. Однако Бенвенуто, хотя ему и помешали работать, принял их еще радушнее, чем в первый раз господина д’Эстурвиля. Видя, как учтиво и уверенно он держится, можно было подумать, что в этом обыске для него нет ничего оскорбительного. Он дружелюбно рассказал графу д’Орбеку о засаде, в которую он попал несколько дней назад, когда возвращался от него с золотом; именно в тот день, почеркнул художник, и исчезла мадмуазель д’Эстурвиль. Он снова предложил посетителям сопровождать их по замку и, таким образом, помочь д’Эстурвилю восстановить его отеческие права, которые Бенвенуто свято чтил. Радушный хозяин был очень рад, что гости застали его дома и что он может достойно их принять. Приди они часа на два позже, он уже уехал бы в Роморантен, куда благосклонно был приглашен Франциском I, чтобы вместе с другими художниками отправиться навстречу Карлу V.
В самом деле, политические события развертывались так же быстро, как наша скромная история.
Успокоенный официальным обещанием своего соперника и тайным советом герцогини д’Этамп, Карл V находился уже в нескольких днях пути от Парижа. Для его встречи была назначена депутация, и, придя в Нельский замок, прево и д’Орбек действительно застали Бенвенуто в дорожном платье.
— Раз он едет вместе с эскортом, то, очевидно, Коломбу похитил не он и нам тут делать нечего, — тихо сказал д’Орбек.
— Я вам говорил это еще по дороге сюда, — ответил прево.
И все-таки, желая раз и навсегда покончить с этим делом, они занялись самым тщательным осмотром замка. Сначала Бенвенуто сопровождал их, но, видя, что обыск затягивается, попросил разрешения удалиться: дело в том, что через полчаса он должен ехать, а перед отъездом нужно отдать кое-какие распоряжения подмастерьям, чтобы к его возвращению все было готово для отливки Юпитера.
Действительно, Бенвенуто отправился в мастерскую, раздал подмастерьям работу и попросил их во всем слушаться Асканио, потом он шепнул Асканио что-то по-итальянски, простился со всеми и собрался выйти во двор и сесть на коня, которого держал под уздцы Жан-Малыш.
Но тут к художнику подбежала Скоццоне и, отведя его в сторону, серьезно сказала:
— Послушайте, сударь, ваш отъезд ставит меня в очень тяжелое положение!
— Каким образом, дитя мое?
— Паголо влюбляется в меня все сильней и сильней…
— В самом деле?
— Он без конца твердит мне о своих чувствах.
— Ну, а ты?
— Я делаю, как вы мне велели: отвечаю, что надо подождать, все еще может уладиться.
— Вот и отлично!
— Как — отлично? Да разве вы не понимаете, что он принимает мои слова всерьез и это невольно связывает меня с вами! Вот уже две недели, как вы приказали мне вести себя таким образом, не правда ли?
— Да… как будто… не помню точно.
— Зато я прекрасно помню! Первые пять дней я мягко уговаривала Паголо разлюбить меня; следующие пять дней я молча слушала его. Однако, по сути, это был уже ответ, и довольно ясный; но вы мне так приказали, и я повиновалась; и, наконец, в течение последних пяти дней я вынуждена была говорить ему о своих обязанностях по отношению к вам; вчера, сударь, я попросила его быть снисходительным к моей слабости, а он тут же попросил меня стать его женой.
— Ах, так? Ну, это меняет дело!
— Наконец-то! — вырвалось у Скоццоне.
— Да. А теперь, милочка, слушай меня внимательно. В течение трех первых дней после моего отъезда ты дашь понять Паголо, что любишь его, а в последующие три дня признаешься ему в любви.
— Что?! И это говорите мне вы, Бенвенуто! — воскликнула Скоццоне, уязвленная чрезмерным доверием своего повелителя.
— Успокойся, Скоццоне. Тебе не в чем будет упрекнуть себя — ведь я сам позволяю тебе все это.
— Разумеется, не в чем, — сказала Скоццоне. — Я понимаю. И все же, обиженная вашим равнодушием, я могу ответить на любовь Паголо, могу, наконец, полюбить его по-настоящему.
— Это за шесть-то дней! И у тебя не хватит выдержки устоять перед соблазном каких-нибудь шесть дней?
— Ну ладно, шесть дней обещаю, но только смотрите не задерживайтесь на седьмой!
— Будь покойна, детка, я вернусь вовремя. Прощай, Скоццоне!
— Прощайте, учитель, — ответила Катрин, сердясь, улыбаясь и плача одновременно.
В эту минуту появились прево и граф д’Орбек.
После ухода Челлини они без всякого стеснения рьяно принялись за поиски: обшарили все чердаки, погреба, простукали все стены, перевернули все вверх дном и повсюду расставили своих слуг, неумолимых, как кредиторы, и нетерпеливых, как охотники. Они сотни раз возвращались на одно и то же место, сотни раз обследовали одно и то же помещение — и все это с неистовым усердием судебных исполнителей, явившихся арестовать преступника. И вот теперь, закончив обыск, но так ничего и не обнаружив, красные от возбуждения, они вышли во двор замка.
— Что ж, господа, — сказал, увидя их, Челлини, садившийся на коня, — так ничего и не нашли? Жаль! Очень жаль! Я понимаю, насколько это тяжело, ведь у вас обоих такая нежная, чувствительная душа. Однако, несмотря на все свое сочувствие и желание вам помочь, я вынужден ехать. Разрешите проститься с вами, господа. И, если вам понадобится в мое отсутствие еще раз осмотреть замок, будьте здесь как дома, не стесняйтесь. Я распорядился, чтобы двери были всегда открыты для вас. Поверьте, единственное, что меня утешает в вашей неудаче, — это надежда услышать по возвращении, что вы, господин прево, нашли свою милую дочь, а вы, господин д’Орбек, — свою очаровательную невесту. Прощайте, господа. — Затем, обернувшись к собравшимся на крыльце подмастерьям — там были все, кроме Асканио, который, по-видимому, не хотел встречаться со своим соперником, — Бенвенуто прибавил: — До свидания, дети мои! Если господин прево пожелает осмотреть замок в третий раз, не забудьте принять его как бывшего хозяина этого дома.
С этими словами он дал шпоры коню и выехал за ворота.
— Ну, теперь-то, милейший, вы убедились, какие мы с вами олухи? — спросил, обращаясь к прево, граф д’Ор-бек. — Если человек похитил девицу, он не поедет с королевским двором в Роморантен!
Назад: XV О ТОМ, КАК РАДОСТЬ ОБОРАЧИВАЕТСЯ ГОРЕМ
Дальше: VI КАРЛ V В ФОНТЕНБЛО

