Книга: Дюма. Том 47. Паж герцога Савойского
Назад: Александр Дюма Паж герцога Савойского
Дальше: VIII ОРУЖЕНОСЕЦ И ПАЖ
Часть первая
I
ЧТО СМОГ БЫ УВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕК, ВЗОБРАВШИЙСЯ НА САМУЮ ВЫСОКУЮ БАШНЮ ЭДЕН-ФЕРТА ОКОЛО ДВУХ ЧАСОВ ПОПОЛУДНИ 5 МАЯ 1555 ГОДА
Пусть читатель, не побоявшийся совершить это путешествие, без всяких предисловий и предварительных объяснений перенесется с нами сразу на три века в прошлое и окажется в присутствии людей, с которыми мы хотим его познакомить, и в гуще событий, свидетелем которых мы хотим его сделать.
Итак, 5 мая года 1555-го.
Генрих II правит Францией;
Мария Тюдор — Англией;
Карл V — Испанией, Германией, Фландрией, Италией и обеими Индиями, то есть одной шестой частью мира.
Занавес поднимается: мы видим окрестности маленького городка Эден-Ферт, уже почти отстроенного Эммануилом Филибертом, принцем Пьемонтским, на месте Эдена-ле-Вьё, взятого штурмом и разрушенного им в предыдущем году. Значит, мы с вами путешествуем по той части старой Франции, что тогда называли Артуа, а теперь — департаментом Па-де-Кале.
Мы говорим «старой Франции», потому что на короткое время Артуа было присоединено к королевским владениям Филиппом Августом, победителем при Сен-Жан-д’Акре и при Бувине; но, став в 1180 году достоянием французского королевского дома, оно в 1237 году Людовиком Святым было отдано его младшему брату Роберту, после чего переходило последовательно из рук в руки трех женщин — Маго, Жанны I и Жанны II, — доставаясь трем разным фамилиям. Потом, в качестве приданого Маргариты, сестры Жанны II и дочери Жанны I, оно отошло графу Людовику Мальскому, чья дочь присоединила его вместе с графствами Фландрия и Ниверне к владениям герцогов Бургундских. В конце концов, когда Карл Смелый умер, его дочь Мария Бургундская, единственная наследница выдающегося имени и огромного состояния отца, выйдя замуж за Максимилиана, сына императора Фридриха III, все свои земли и богатства отдала австрийскому королевскому дому, где они и растворились, как река в океане.
Это было большой потерей для Франции, ибо Артуа было прекрасной и богатой провинцией. Вот почему в течение трех лет с различной степенью удачи и изменчивыми шансами Генрих II и Карл V сражались друг с другом врукопашную, лицом к лицу, шаг за шагом: Карл V — чтобы ее сохранить, а Генрих II — чтобы ее возвратить.
В ходе этой ожесточенной войны, в которой сын унаследовал врага своего отца, и, как у отца, у него были свое Мариньяно и своя Павия, каждый имел свои удачи и неудачи, победы и поражения. Французы видели, как армия Карла V снимает осаду с Меца и в беспорядке отступает, и сумели овладеть Мариенбургом, Бувином и Динаном; имперские войска штурмом взяли Теруан и Эден и, в отместку за поражение у Меца, сожгли один и разрушили до основания другой.
Сравнивая Мец с Мариньяно, мы не преувеличиваем. Армия, состоявшая из пятидесяти тысяч пехоты и четырнадцати тысяч кавалерии, потерявшая из-за холода, болезней — и надо прямо признать, благодаря мужеству герцога Франсуа де Гиза и французского гарнизона, — огромную свою часть, растаяла как туман, исчезла как дым, оставив в качестве следов своего существования десять тысяч убитых, две тысячи палаток и сто двадцать пушек!
Причем отступавшие были настолько деморализованы, что даже не пытались защищаться. Шарль де Бурбон преследовал испанский кавалерийский корпус; командир корпуса остановился и, подойдя прямо к военачальнику противника, заявил:
— Кто бы ты ни был, принц, герцог или простой дворянин, если ты сражаешься ради славы, поищи другого случая, потому что сегодня ты убьешь людей слишком слабых: они не могут не только защищаться, но и бежать.
Шарль де Бурбон вложил шпагу в ножны, приказал своим людям сделать то же самое, и испанский отряд продолжал отступать, причем его никто больше не беспокоил.
Карл V был далек от подобного великодушия. Когда был взят Теруан, он приказал, чтобы город был отдан на разграбление и снесен до основания, чтобы были разрушены не только мирские строения, но и церкви, монастыри и больницы, а чтобы от стен не сохранилось и следа, угрожая не оставить там камня на камне, потребовал от обитателей Фландрии и Артуа разобрать все обломки.
Призыв к разрушению был услышан. Население Артуа и Фландрии, которому гарнизон Теруана причинял большой ущерб, сбежалось, вооружившись кирками, лопатами, молотами и кольями, и город исчез, как Сагунт, растоптанный Ганнибалом, как Карфаген, обращенный в пыль Сципионом.
С Эденом все вышло точно так же, как и с Теруаном.
Но к этому времени Эммануил Филиберт был назначен главнокомандующим имперскими войсками в Нидерландах, и если он не сумел спасти Теруан, то, по крайней мере, ему удалось добиться того, чтобы Эден был отстроен заново.
Эти огромные работы были завершены им за несколько месяцев, и в четверти льё от старого города как по волшебству был воздвигнут новый. Расположенный посреди Менильских болот на реке Канш, он был так хорошо укреплен, что даже спустя сто пятьдесят лет вызвал восхищение Вобана, хотя за эти сто пятьдесят лет система фортификаций полностью изменилась.
Основатель назвал его Эден-Ферт, то есть добавил к его названию четыре буквы: F, Е, R, Т, — чтобы новый город помнил свое происхождение. Эти буквы, начертанные на белом кресте, который пожаловал германский император Амедею Великому, тринадцатому герцогу Савойскому, после осады Родоса, означали: «Fortitudo ejus Rhodum tenuit», то есть: «Его храбрость спасла Родос».
Но это было не единственное чудо, обеспечившее успешную карьеру молодого генерала, которому Карл V доверил командование своей армией. Благодаря строжайшей дисциплине, установленной им, несчастная страна, уже четыре года служившая театром военных действий, наконец, немного вздохнула; он принял самые строгие меры против грабежей и даже мародерства: каждый командир, нарушивший соответствующий приказ, должен был отдать оружие и отбыть более или менее длительный арест на виду у всей армии в своей палатке, а солдат, застигнутых на месте преступления, вешали.
В результате, поскольку зимой 1554–1555 годов обе стороны практически прекратили военные действия, то по сравнению с тремя годами, протекшими со времени осады Меца до восстановления Эдена, четыре или пять зимних месяцев жителям Артуа показались просто настоящим образцом золотого века.
Конечно, время от времени или французы, удерживавшие Абвиль, Дуллан и Монтрёй-сюр-Мер и делавшие вылазки на вражескую территорию, или неисправимые грабители — рейтары, ландскнехты и цыгане, тянувшиеся вслед за имперской армией, то здесь то там сжигали какой-нибудь замок, грабили ферму, обворовывали дом, но Эммануил Филиберт так удачно охотился на французов и так жестоко карал имперцев, что случаи эти становились все более редкими.
Вот как обстояли дела с провинцией Артуа, а точнее, в окрестностях Эден-Ферта, в тот день, с которого начинается наш рассказ, то есть 5 мая 1555 года.
Но, обрисовав читателю моральное и политическое состояние края, нам для полноты картины следует также познакомить его с экономическим положением провинции, ибо в связи с развитием промышленности и прогрессом культуры оно с тех пор полностью изменилось.
Чтобы нам было легче выполнить эту отнюдь не легкую задачу и воспроизвести прошлое, исчезнувшее почти без следа, расскажем, что увидел бы человек, поднявшийся в два часа пополудни на самую высокую башню Эдена и вставший спиной к морю. Перед его глазами простерся бы горизонт, ограниченный на севере невысокой цепью холмов, скрывающей Бетюн, а на юге — отрогами той же цепи, у подножия которых находится Дуллан.
Прямо перед собой он увидел бы густой и темный лес Сен-Поль-сюр-Тернуаз, выступом спускающийся до самого берега реки Канш; лес одевал холмы зеленым ковром и на противоположном склоне доходил до истоков реки Скарп, которая служит для Шельды тем же, чем Сона — для Роны, а Мозель — для Рейна.
Направо от леса и, следовательно, налево от наблюдателя, помещенного нами на самую высокую башню Эден-Ферта, на равнине, под прикрытием тех самых холмов, что виднелись на горизонте, раскинулись селения Эшен и Фрюж, различимые в основном по голубоватым дымкам очагов; этот дым окутывал их полупрозрачной вуалью и давал знать, что, хотя и наступили уже первые дни весны, теплолюбивые обитатели северных провинций еще не совсем распрощались с огнем — веселым и верным другом зимних дней.
Немного не доходя до этих деревень находилось маленькое славное поселение — не то ферма, не то замок под названием Парк; оно было похоже на часового, решившего выглянуть из леса, но из страха не покинувшего спасительную поляну.
От дверей фермы желтой лентой по зеленому наряду равнины, раздваиваясь, змеилась дорога: одна ветвь вела к Эдену, а другая огибала лес, свидетельствуя о том, что обитатели Парка общались с жителями деревень Фреван, Оси-ле-Шато и Нувьон-ан-Понтьё.
Равнина, простиравшаяся от этих трех селений до Эдена, являла собой местность, противоположную только что описанной, то есть расположенную налево от леса Сен-Моль и, следовательно, направо от воображаемого наблюдателя, который служит нам проводником, или, вернее, осью, вокруг которой мы поворачиваемся.
Это была самая замечательная часть пейзажа, и не столько из-за природных особенностей местности, сколько из-за событий, разворачивавшихся на ней в это время.
И в самом деле, если одна равнина представляла собой зеленеющие нивы, то другая почти целиком была занята лагерем Карла V.
Лагерь, окруженный рвами и огороженный палисадами, представлял собой целый город, но только не с домами, а с палатками.
В центре этих палаток императорский шатер Карла V возвышался, как собор Парижской Богоматери в Сите, как папский дворец посреди Авиньона, как трехпалубное судно на пенистых волнах океана; по четырем его углам реяли четыре штандарта — каждого из них хватило бы, чтобы удовлетворить обычное человеческое честолюбие; то были штандарт Империи, штандарт Испании, штандарт Рима и штандарт Ломбардии, поскольку Карл V, доблестный и победоносный завоеватель, как его называли, был коронован четырежды: в Толедо — алмазной короной как король Испании и обеих Индий; в Ахене — серебряной короной как император Германии; наконец, в Болонье — золотой короной как король римлян и железной короной как король лангобардов. Когда хотели воспрепятствовать его желанию короноваться в Болонье, а не ехать, по обычаю, в Рим и Милан и приводили в качестве доводов бреве папы Стефана, не разрешавшего золотой короне покидать Ватикан, и указ Карла Великого, запрещавший вывозить железную корону из Монцы, то победитель Франциска I, Сулеймана и Лютера высокомерно ответил, что он привык не к тому, чтобы бегать за коронами, а к тому, чтобы короны бегали за ним.
Следует также заметить, что над этими штандартами возвышался его собственный, личный, на котором были изображены Геркулесовы столбы, но они означали не границы старого мира, а ворота в новый, и гордо реял на ветру честолюбивый девиз, ставший еще величественнее от его искажения: «Plus ultra!»
В пятидесяти шагах от императорского шатра стояла палатка главнокомандующего Эммануила Филиберта; ее ничто не отличало от палаток других военачальников, кроме двух штандартов: одного с гербом Савойи — серебряный крест на красном поле с четырьмя буквами F.E.R.T., смысл которых мы уже объяснили, и другого, его личного, на котором была изображена рука, вздымающая к небу трофей из копий, мечей и пистолетов, и значился девиз: «Spoliatis arma supersunt», то есть «Лишенным всего остается оружие».
Лагерь, над которым возвышались эти две палатки, делился на четыре части; по нему змеилась речка, а через нее были перекинуты три моста.
Первую четверть лагеря занимали немцы, вторую — испанцы, третью — англичане.
На четвертой части размещался артиллерийский парк, полностью обновленный со времени поражения под Мецем; вместе с теми орудиями, что были захвачены у французов под Теруаном и Эденом, здесь было сто двадцать пушек и пятнадцать бомбард.
На казенной части каждого орудия, взятого у французов, император приказал выгравировать свой любимый девиз: «Plus ultra!»
Позади бомбард и пушек в три ряда стояли зарядные ящики и повозки с боеприпасами; часовые с обнаженными шпагами, но без аркебуз и пистолетов, внимательно следили за тем, чтобы никто не подходил к этому складу, ибо малейшая искра могла превратить его в пылающий вулкан.
Снаружи, перед огражденным пространством, также были выставлены часовые.
В проходах лагеря, подобных улицам в городе, тысячи людей сновали туда-сюда с чисто военной энергией, умеряемой, однако, немецкой важностью, испанской гордостью и английским спокойствием.
Солнце блестело на оружии, и оно вспыхивало тысячами бликов; ветер играл штандартами, стягами, флажками, и под его дыханием они шумели шелком и сверкали всеми красками.
Все это движение и шум, обычно присущий поверхности океана и человеческим толпам, создавали разительный контраст с тишиной и безлюдьем другой равнины, где солнце освещало только волнующиеся поля хлебов, созревших и несозревших, и где ветер клонил полевые цветы, из которых девушки так любят плести красные и синие венки, украшая себя ими по воскресеньям.
Теперь, когда первую главу нашей книги мы посвятили рассказу о том, что смог бы увидеть наблюдатель с самой высокой башни Эден-Ферта днем 5 мая 1555 года, посвятим вторую главу рассказу о том, чего он бы не увидел, каким бы зорким ни был его взгляд.
II
РЫЦАРИ УДАЧИ
От взгляда наблюдателя, каким бы зорким он ни был, ускользнуло бы то, что происходило в самой густой, а следовательно, и самой темной части леса Сен-Поль-сюр-Тернуаз, в глубине пещеры, скрытой тенью деревьев и разросшимся плющом; для еще большей безопасности те, кто занимал пещеру, выставили часового; он лежал на животе в густых зарослях совершенно неподвижно, как ствол дерева, и следил за тем, чтобы ни один чужак не помешал важному совещанию, на котором наш читатель сейчас будет присутствовать, ибо в качестве романиста, то есть волшебника, отпирающего все двери, мы его туда введем.
Воспользуемся же кратким мгновением, пока часовой, обнаруженный нами и не заметивший нас, привлеченный шумом, что производит, прыгая в папоротниках, испуганная козочка, смотрит в ее сторону, и проскользнем в пещеру, чтобы, спрятавшись за выступом скалы и не упуская ни малейшей подробности, следить за тем, что там происходит.
В пещере находятся восемь человек; лица их, характеры и одежда совершенно различны, хотя по оружию, которое они носят или которое лежит у них под рукой, видно, что все они избрали одно и то же ремесло.
Один из них, с тонким и хитрым лицом, с пальцами, испачканными чернилами, окуная перо — с его кончика он время от времени снимает волоски, всегда усеивающие плохую бумагу, — так вот, окуная перо в роговую чернильницу, которую обычно носят на поясе судейские, писцы и секретари, склонился над каменной плитой, положенной на два массивных камня; второй стоит неподвижно, как металлический подсвечник, и терпеливо держит в руке пылающий еловый сук, освещающий писца, стол и бумагу; блики света выхватывают из темноты его собственное лицо и фигуры шести его товарищей, расположившихся кто поближе, а кто подальше.
Речь идет, без сомнения, о написании документа, в котором заинтересовано все это общество, во всяком случае судя по тому, насколько горячее участие принимает каждый в его составлении.
Однако трое из присутствующих, кажется, меньше, чем другие, поглощены этим занятием.
Первый — это красивый молодой человек лет двадцати четырех-двадцати пяти, элегантно одетый в нечто вроде кирасы из буйволовой кожи, предохраняющей если не от пули, то от удара шпагой или датой; полукафтан из светло-коричневого бархата (по правде сказать, несколько повыцветший, но еще вполне приличный, позволявший видеть, благодаря открытым плечам, рукава с прорезями на испанский лад, то есть по самой последней моде) на четыре пальца выходил из-под кирасы и многочисленными складками спадал на зеленые суконные штаны, тоже с прорезями, засунутые в сапоги, достаточно высокие, чтобы не натереть ляжки, когда едешь верхом, и достаточно мягкие, чтобы их можно было отогнуть до колен, когда идешь пешком.
Он напевал рондо на слова Клемана Маро, одной рукой подкручивая тонкие черные усики, а другой причесывая волосы, которые были немного длиннее, чем того требовала мода, несомненно для того, чтобы показать их природную мягкую волнистость.
Второму не больше тридцати шести лет, но лицо его так иссечено шрамами во всех направлениях, что даже нельзя понять, какого он возраста. Одна рука и часть груди у него обнажены, и эта часть тела, предстающая нашему взору, не меньше украшена рубцами, чем лицо. Он как раз перевязывает рану — у него содрана вся кожа с бицепса на левой руке, к счастью не на правой, и, следовательно, неудобств она причиняет гораздо меньше. Один конец полотняного бинта он держит в зубах и пытается им закрепить на ране кусок материи, смоченной в некоем бальзаме, рецепт которого он получил от одного цыгана и который, по его уверениям, на него превосходно действует. Впрочем, ни одной жалобы не вырывается из его уст и он настолько нечувствителен к боли, что, кажется, будто его раненая рука сделана из дуба или ели.
Третий — человек лет сорока, высокий, худой, бледный, аскетической внешности. Он стоит на коленях в уголке и, перебирая четки, скороговоркой, характерной только для него, бормочет дюжину «Pater» и дюжину «Ave». Время от времени он выпускает четки из правой руки и с такой силой бьет себя в грудь, что она гудит, как пустая бочка под колотушкой бондаря; произнеся громко два или три раза «Меа culpa!», он снова хватается за свои четки, и они вращаются в его руках так же быстро, как розарий в руках монаха или как конболойов руках дервиша.
Еще трое, кого нам осталось описать, имеют — благодарение Богу! — не менее ярко выраженные характеры, чем первые пятеро, которых мы имели честь представить читателю.
Один из них опирается обеими руками на стол, где пишет его товарищ; внимательно, не отрывая глаз, он следит за всеми движениями пера; именно он делает больше всего замечаний к составленному документу, и, нужно сказать, эти замечания, хоть и сильно окрашенные себялюбием, почти всегда тонки и — странно, поскольку это кажется несовместимым, — полны здравого смысла. Этому человеку сорок пять лет, глаза у него маленькие, острые, глубоко сидящие под большими светлыми бровями.
Второй лежит на земле; он нашел кусок песчаника, на котором очень удобно точить шпаги и править кинжалы, и воспользовался им, чтобы с помощью этого камня и собственной слюны заточить зазубренное острие своей даги. Он даже прикусил язык зубами, высунув изо рта его кончик, что свидетельствует о полнейшем внимании и, мы бы даже сказали, о полнейшем интересе, проявляемом им к своей работе. Однако он не настолько ею поглощен, чтобы не прислушиваться к обсуждению. Если формулировка его устраивает — он одобрительно кивает; если, напротив, она оскорбляет его моральное чувство или нарушает его планы — он поднимается, подходит к писцу, тычет острием даги в бумагу и говорит: «Простите… вы сказали?..» И дагу он убирает только тогда, когда объяснение его полностью удовлетворяет; после этого он обильно смачивает слюной камень и ожесточенно трет об него дагу, так ожесточенно, что, очевидно, любимое оружие скоро приобретет свою первоначальную остроту.
Последний (и мы прежде всего должны признать свою вину в том, что отнесли его сначала к той части его товарищей, которая занята в эту минуту обсуждением материальных проблем) стоит прислонившись к стене пещеры, свесив руки и подняв глаза к небу, а точнее — к сырому и темному своду, где, как блуждающие огоньки, играют блики смоляного факела, — итак, последний, повторяем, кажется мечтателем и поэтом. Что он ищет сейчас? Ответ к какой-нибудь задаче, подобной тем, которые недавно разрешили Христофор Колумб и Галилей? Форму терцины, которыми писал Данте, или октавы, которыми пел Тассо? Только один демон, владеющий им, мог бы нам это сказать, демон, настолько мало интересующийся материей — ибо он, по-видимому, полностью поглощен созерцанием вещей абстрактных, — что оставляет в лохмотьях всю одежду достойного поэта, кроме меди, стали и железа.
Вот наброски портретов этих восьмерых; поставим под каждым имя.
Того, кто пишет, зовут Прокоп; по рождению он нормандец, по образованию — почти юрист, свою речь он уснащает аксиомами, извлеченными из римского права, и афоризмами, заимствованными из капитуляриев Карла Великого. Коль скоро вы вступили с ним в письменное соглашение, готовьтесь к процессу. Правда, если он дал слово, то слово его золото, хотя манера держать его не всегда согласна у него с моралью, как ее понимают обычные люди. Приведем только один пример: это был именно тот случай, что сделал его рыцарем удачи, каковым мы его и видим. Некий знатный вельможа, придворный Франциска I, однажды предложил ему и трем его приятелям одно дело; этот благородный дворянин знал, что в тот самый вечер королевский казначей должен принести из Арсенала в Лувр тысячу золотых экю; дело заключалось в том, чтобы остановить этого казначея на углу улицы Сен-Поль, забрать у него эту тысячу и разделить ее следующим образом: пятьсот экю знатному вельможе, который будет ждать на Королевской площади, когда все будет сделано, и как знатный вельможа претендует на половину суммы, а вторую половину — Прокопу и трем его товарищам (они, таким образом, получали по сто двадцать пять экю каждый). Обе стороны дали слово, и все было сделано согласно уговору; однако, после того как казначея как следует обчистили, убили и бросили в реку, трое товарищей Прокопа осмелились выдвинуть предложение бежать к собору Парижской Богоматери, а не идти на Королевскую площадь и, вместо того чтобы отдать пятьсот золотых экю знатному вельможе, оставить всю тысячу себе. Но Прокоп помнил о данном им слове.
— Господа, — строго произнес он, — вы забываете, что это значило бы нарушить договор, ограбить клиента!.. Прежде всего — честность. Мы вручим герцогу (знатный вельможа был герцог) причитающиеся ему пятьсот золотых экю до последней монеты. Но, — продолжал он, заметив, что его предложение вызвало некоторый ропот, — distinguimus: когда он положит их в карман и признает, что мы поступили как порядочные люди, нам ничто не мешает пойти и устроить засаду у кладбища Сен-Жан, где, я уверен, он должен будет пройти; это место пустынное, и оно очень подходит для засады. Мы сделаем с герцогом то же, что и с казначеем, и, поскольку кладбище Сен-Жан находится не слишком далеко от Сены, их, вероятно, завтра обоих выловят сетями около Сен-Клу. Таким образом, вместо ста двадцати пяти экю, мы получим по двести пятьдесят и сможем ими распорядиться без всяких угрызений совести, так как слово, данное доброму герцогу, мы сдержали!
Предложение было радостно принято — как было сказано, так и было сделано. К несчастью, торопясь выбросить герцога в реку, четверо сообщников не заметили, что он еще дышит; холодная вода вернула ему силы, и, вместо того чтобы оказаться в Сен-Клу, как надеялся Прокоп, он вышел на берег на набережной Жевр, дошел до Шатле и дал прево Парижа (в то время им был г-н д’Эстурвиль) точное описание четырех бандитов, так что те на следующее же утро сочли за благо покинуть Париж из страха оказаться под судом, поскольку тогда, сколь ни хорошо Прокоп разбирался в праве, каждый из них мог оставить то, чем, как ни философствуй, всегда так или иначе дорожишь, — а именно, жизнь.
Итак, четверо молодцев, покинув Париж, направились на все четыре стороны света. Прокопу выпал север. Вот поэтому нам и посчастливилось видеть, как он в пещере леса Сен-Поль-сюр-Тернуаз составляет по поручению новых приятелей, отметивших его заслуги, важный документ, которым нам предстоит вскоре заняться.
Того, кто светит Прокопу, зовут Генрих Шарфенштайн. Это достойный последователь Лютера; дурное обращение Карла V с протестантами толкнуло его в ряды французской армии вместе с племянником Францем Шарфенштайном — тот в настоящую минуту стоит снаружи на часах. Это два колосса, о которых говорят, что у них одна душа и один ум на двоих. По мнению многих, одного ума на два тела по шесть футов каждое маловато, но они с этим не согласны и считают, что все хорошо так, как оно есть. В обычной жизни для достижения поставленной цели они редко снисходят до того, чтобы прибегнуть к помощи человека, орудия или машины. Если им нужно передвинуть нечто массивное, они, в отличие от современных ученых, пытающихся понять, каким образом Клеопатра перетащила свои суда из Средиземного моря в Красное и с помощью каких механизмов Тит поднял гигантские блоки цирка Флавиев, просто обнимают предмет, который нужно переместить, накрепко сплетают стальные пальцы мощных рук, одновременно делают усилие и размеренно — что вообще отличает все их движения — перемещают упомянутый предмет с того места, где он находится, на то место, где он должен быть. Если же нужно взобраться на стену или влезть в окно, то, вместо того чтобы, как делают их товарищи, тащить тяжелую лестницу, что затруднит движение в случае удачи или станет вещественным доказательством в случае провала, они идут на дело с пустыми руками. Один из них, псе равно кто, становится спиной к стене, другой поднимается ему на плечи, а иногда, если нужно, на ладони его поднятых над головой рук. Вытянув собственные руки, он достигает высоты восемнадцати — двадцати футов, что почти всегда вполне достаточно, чтобы зацепиться за гребень стены или за решетчатые перила окна. В бою действует та же система физического единства: они идут бок о бок одинаковым шагом, только один бьет, а другой грабит; когда тот, кто бьет, устает, он передает меч, палицу или топор другому, произнеся только: «Твоя очередь!» И тогда роли меняются: тот, кто бил, — грабит, а тот, кто грабил, — бьет. Впрочем, их удар хорошо известен и высоко ценится; но, как мы уже сказали, их руки ценятся обычно много выше, чем их мозги, а их сила — больше, чем их умственные способности. Поэтому одному из них поручили роль часового снаружи, а другому — роль канделябра внутри.
Что же до молодого человека с черными усиками и вьющимися волосами, подкручивающего усы и расчесывающего кудри, то его имя — Ивонне; по рождению он парижанин, а сердцем — француз. К тем физическим достоинствам его, что мы уже назвали, нужно добавить женские ручки и ножки. В мирное время он беспрестанно жалуется. Как античного сибарита, его ранит морщинка на лепестке розы; если нужно идти — ему лень; если нужно подняться — у него кружится голова; если нужно подумать — у него на лбу проступает испарина. Он впечатлителен и нервен, как юная девушка; его чувствительность требует, чтобы о нем как можно больше заботились. Днем он боится пауков, шарахается от жаб, а при виде мыши ему становится просто плохо. Чтобы он вышел из дому в темноту, а он ее недолюбливает, нужно, чтобы его на это толкнула большая страсть. Впрочем, отдадим ему должное, он всегда одержим какой-нибудь большой страстью; но почти всегда, если его возлюбленная назначает ему свидание ночью, он приходит к ней, дрожа от ужаса, и ей приходится, дабы привести его в чувство, затрачивать столько успокаивающих слов, нежных забот и пламенных ласк, сколько приходилось их тратить Геро, когда к ней в башню, переплыв Дарданеллы, входил еще мокрый Леандр! Правда, как только он слышит звук трубы, как только он чувствует запах пороха, как только мимо него проносят стяги — Ивонне становится совершенно другим человеком, он полностью меняется: ни лени, ни головокружений, ни испарин! Юная девица превращается в свирепого воина, разящего налево и направо, сущего льва с железными когтями и стальными клыками. Он, боявшийся подняться в спальню хорошенькой женщины, лезет по приставной лестнице, цепляется за веревку, висит на волоске, чтобы первым взобраться на стену. Но как только бой кончается, он тщательно моет лицо и руки, меняет белье и одежду и постепенно становится тем молодым человеком, которого мы видим сейчас перед собой: он подкручивает усы, расчесывает кудри и отряхивает кончиками пальцев с одежды дерзкие пылинки.
Того, кто перевязывает рану на бицепсе левой руки, зовут Мальмор. Это человек мрачный и меланхоличный; у него есть только одна страсть, одна любовь, одна радость — война! Страсть несчастная, любовь неразделенная, наслаждение краткое и гибельное, потому что, стоит ему только ощутить на кончиках губ вкус кровавой резни, как из-за своей слепой ярости и той малой заботы, какую он проявляет, чтобы не получать ударов, нанося их, он падает, сраженный страшным ударом пики или чудовищным ружейным залпом, и жалобно стонет, но не от боли, а от того, что ему приходится видеть, как праздник продолжается уже без него. К счастью, на нем легко затягиваются раны и кости его легко вправляются. В ту минуту, о которой идет речь, на нем двадцать пять ран — на три больше, чем на Цезаре! И он надеется, если война будет продолжаться, получить еще двадцать пять, прежде чем последняя неминуемо положит конец этой славной и мучительной карьере.
Худого человека, что молится в углу, стоя на коленях и перебирая четки, зовут Лактанс. Это ревностный католик, и он с трудом переносит близость Шарфенштайнов, боясь, что их ересь испачкает его. Для него, вынужденного ремеслом, которым он занимается, сражаться против своих братьев во Христе и убивать их в возможно большем числе, нет такой епитимьи, какую бы он на себя не наложил, чтобы как-то уравновесить эту суровую необходимость. Суконный кафтан, надетый им сейчас прямо на голое тело, без рубашки и жилета, подбит кольчугой, если только это не сукно служит подкладкой к кольчуге. Как бы то ни было, в бою он носит свое платье кольчугой наружу, и она служит панцирем, а когда бой окончен — кольчугой внутрь, и она становится власяницей. Впрочем, быть убитым им — это тоже своего рода удача: погибший от руки этого святого человека, по крайней мере, не отправится на тот свет без соответствующих молитв. В последней стычке он убил двух испанцев и одного англичанина, и, поскольку ему пришлось с ними подзадержаться, особенно из-за еретика-англичанина, чью душу нельзя успокоить одним обычным «De profundis», он сейчас бормочет бесчисленные «Ave» и «Pater», предоставив своим товарищам заниматься делами земными, которые обсуждаются в настоящий момент. Уладив свои дела с Небом и спустившись на землю, он выскажет свои замечания Прокопу и напишет Примечания" и "При вычеркнутых словах недействительно"", тем самым сделав необходимым свое запоздалое участие в подготовке составляемой бумаги.
Человека, опирающегося обеими руками на стол и, в противоположность Лактансу, следящего с неослабным вниманием за каждым движением пера Прокопа, зовут Мальдан. Родился он в Нуайоне, отец его был из Мена, а мать из Пикардии. Молодость он провел бурно и расточительно; войдя в лета, он возжелал вернуть потерянное время и тщательно ведет свои дела. Он пережил множество приключений и рассказывает о них с не лишенным очарования простодушием; но, надо признать, что всякое простодушие слетает с него, когда он принимается спорить с Прокопом о каком-нибудь вопросе права. В их спорах оживает легенда о двух Гаспарах, а может быть, они и есть се герои — один из Мена, другой из Нормандии. Впрочем, Мальдан недурно дерется на шпагах, и хотя ему далеко до силы Генриха и Франца Шарфенштайнов, храбрости И войне, неудержимости Мальмора, он товарищ, на кого в нужде можно положиться, да и в беде он друга не оставит.
Того, кто точит дагу и пробует ногтем ее острие, зовут Пильтрус. Это настоящий наемник. Он служил поочередно у англичан и у испанцев. Но англичане уж слишком торгуются, а испанцы плохо платят, и он решил работать сам на себя. Пильтрус рыщет по большим дорогам; ночью гам полно грабителей всех национальностей: Пильтрус грабит грабителей, но французов, почти что своих соотечественников, он щадит; Пильтрус — провансалец, у него даже доброе сердце: если французы бедны, он им помогает, если слабы — защищает их, если больны — ухаживает за ними; но, случись ему встретить настоящего соотечественника, то есть человека, родившегося между горой Визо и устьем Роны, между Конта и Фрежюсом, этот человек может располагать душой и телом Пильтруса, его кровью, деньгами, и — черт возьми! — Пильтрус еще будет считать себя ему обязанным.
Наконец, девятого и последнего, кто стоит, прислонившись к стене, свесив руки и подняв глаза к небу, зовут Фракассо. Это, как мы уже сказали, поэт и мечтатель; в отличие от Ивонне, который боится темноты, он любит темные ночи, освещенные только звездами, скалистые берега рек, шорох волн на морском побережье. К несчастью, вынужденный следовать за французской армией повсюду, куда она направляется, потому что, хотя Фракассо и итальянец, он посвятил свою шпагу делу Генриха II и не волен бродить где хочет; но какая разница — поэту все дает вдохновение, мечтателю все дарит мечты; только поэтам и мечтателям свойственна рассеянность, а рассеянность в ремесле, избранном Фракассо, нередко бывает гибельна. Так, часто посреди схватки Фракассо внезапно останавливается, чтобы послушать звук рожка, посмотреть на плывущее облако или восхититься бранным подвигом. Тогда находящийся перед ним противник пользуется его рассеянностью, чтобы нанести ему ужасный удар, который мгновенно отрывает мечтателя от его мечтаний и нарушает вдохновение поэта. И горе противнику, если он плохо воспользовался предоставившейся ему возможностью и не оглушил Фракассо одним ударом! Фракассо отыграется, и не для того, чтобы отомстить за полученный удар, но чтобы наказать наглеца, заставившего его опуститься с седьмого неба, куда занесли его цветистые крылья воображения и вымысла.
Теперь, когда мы, подражая божественному слепцу, закончили перечисление наших рыцарей удачи (некоторые из них должны быть знакомы тем из наших друзей, кто прочел "Асканио" и "Две Дианы"), расскажем, что объединило их в этой пещере и какой таинственный документ они так усердно составляют.
III
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНО ЗНАКОМИТСЯ С ТОЛЬКО ЧТО ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ ГЕРОЯМИ
Утром того самого дня, 5 мая 1555 года, маленький отряд, состоявший из четырех человек и, по-видимому, входивший в состав гарнизона Дуллана, вышел из Аррасских ворот города, как только они даже не открылись, а чуть-чуть приоткрылись.
Эти четверо, закутанные в большие плащи, которые могли служить как для того, чтобы прятать оружие, так и для того, чтобы защищать от утреннего холодного ветра, шли со всяческими предосторожностями берегом небольшой реки Оти, до самого ее истока. Здесь они достигли цепи холмов, о которых мы уже упоминали, с теми же предосторожностями прошли по их западным склонам и через д на часа ходьбы оказались на опушке леса Сен-Поль-сюр-Торнуаз. Там один из них, вероятно лучше знавший местность, чем другие, встал во главе отряда и, ориентируясь то но дереву с самой густой листвой или с самыми редкими ветвями, то по скале или озерку, довольно уверенно привел их ко входу в ту же пещеру, куда мы привели читателя в начале предыдущей главы.
Там он сделал своим товарищам знак остановиться и с некоторым беспокойством осмотрел места, где трава показалась ему свежепримятой, а ветки свежесломанными; потом лег ничком и, извиваясь как уж, исчез в пещере.
Вскоре оставшиеся снаружи услышали его голос, в звуках которого не ощущалось никакого беспокойства. Он трижды громко прокричал что-то в глубину пещеры, однако та ответила полным молчанием, и только эхо трижды вторило ему, а потому он появился у входа и сделал своим товарищам знак следовать за ним.
Те повиновались и, легко преодолев несколько препятствий, оказались в пещере.
— О, — с радостным вздохом прошептал тот, кто так удачно выполнил роль проводника, — tandem ad terminum eamus!
— А что это значит?… — с сильным пикардийским акцентом спросил один из рыцарей удачи.
— Это значит, дорогой Мальдан, что мы приближаемся или, точнее, приблизились к концу нашего похода.
— Бростить, коспотин Брогоб, — сказал другой наемник, — но я нишеко не понял. А ты, Генрих?
— И я тоше нишеко не понял.
— А на кой черт вам понимать? — ответил Прокоп (читатель, вероятно, понял, что со своим немецким акцентом Франц Шарфенштайн именует уже знакомого нам законника "Брогоб"). — Лишь бы я и Мальдан понимали — это все, что нужно!
— Ja, — философски ответили оба Шарфенштайна, — это фсе, што нужно.
— Значит, — сказал Прокоп, — сядем, съедим кусочек, выпьем глоточек, время и пройдет, а пока мы едим-пьем, я вам изложу свой план.
— Ja, ja! — сказал Франц Шарфенштайн. — Зъетим гузочег, фыбьем клодочек, а он нам ислошит звой блан.
Наемники осмотрелись и, когда глаза их привыкли к темноте, менее густой, впрочем, у входа, чем в глубине, увидели три камня; они придвинули их поближе друг к другу, чтобы можно было откровенно побеседовать.
Четвертого камня не нашлось, и Генрих Шарфенштайн учтиво уступил свой камень Прокопу, который остался без сиденья, но тот с не меньшей вежливостью поблагодарил его, расстелил на земле свой плащ и улегся на нем.
Потом из котомок, которые несли два великана, извлекли хлеб, холодное мясо и вино, разложили все в сегменте (дугу его образовывали трое товарищей, а хордой служил лежащий Прокоп), и каждый набросился на еду с таким аппетитом, что стало ясно, какое действие оказала на сотрапезников утренняя прогулка.
Минут десять, если не больше, слышался только хруст челюстей, с размеренностью механизма жевавших хлеб, мясо и даже кости птиц, позаимствованных на соседних фермах и составлявших лучшую часть завтрака.
Мальдан первым обрел способность говорить.
— Ты говорил, дорогой Прокоп, что за завтраком посвятишь нас в свой план. Завтрак уже больше чем наполовину съеден — мой по крайней мере. Так давай излагай. Я слушаю.
— Ja! — подтвердил Франц с полным ртом. — Мы злюшаем.
— Ну, так что?
— А вот что… Ессе res judicanda, как говорят в суде…
— Тихо вы там, Шарфенштайны! — цыкнул Мальдан.
— Я ни злофа не броизнез, — ответил Франц.
— И я тоше, — промолвил Генрих.
— А мне послышалось…
— И мне тоже, — сказал Прокоп.
— Ладно! Это, наверное, мы лисицу в норе вспугнули… Давай, Прокоп, давай!
— Так вот, я повторяю: в четверти льё отсюда есть миленькая небольшая ферма…
— Ты обещал нам замок, — заметил Мальдан.
— Ох, Боже мой, ну ты и придира! — воскликнул Прокоп. — Хорошо, поправляюсь: в четверти льё отсюда есть миленький небольшой замок.
— Верма или самог, — сказал Генрих Шарфенштайн, — невашно, лишь пы пыло чем божифидься!
— Браво, Генрих! Отлично сказано! А этот чертов Мальдан придирается, как прокурор… Я продолжаю.
— Та, бротолшайте, — сказал Франц.
— Итак, в четверти льё отсюда есть очаровательный сельский дом, а в нем живут только его владелица, мужчина-слуга и женщина-служанка… Правда, в окрестности живут еще фермер и его люди.
— И зколько их фсего? — спросил Генрих.
— Человек десять наберется, — ответил Прокоп.
— Мы перем на сепя твоих тесять шеловек, я и Франц. Дак, блемянник?
— Ja, тятюшка, — ответил Франц с лаконизмом спартанца.
— Хорошо, — продолжал Прокоп, — вот как складывается дело. Мы ждем здесь темноты, закусывая, выпивая и болтая…
— Осопенно сагусыфая и фыбифая, — сказал Франц.
— Потом, когда стемнеет, — продолжал Прокоп, — мы выходим отсюда потихоньку, как пришли, доходим до опушки леса, а оттуда по одной тайной тропинке, которую я знаю, добираемся до стены. Когда мы туда добираемся, Франц становится на плечи своего дядюшки или Генрих — на плечи племянника; тот, кто сверху, перелезает через стену и открывает нам дверь. Открыв дверь — ты понимаешь, Мальдан? — открыв дверь — вы поняли, Шарфенштайны? — открыв дверь, мы входим.
— Не без нас, надеюсь? — столь отчетливо послышалось в двух шагах позади наших знакомых, что вздрогнул не только Прокоп, не только Мальдан, но и оба великана.
— Измена! — вскакивая на ноги, воскликнул Прокоп и отступил назад.
— Измена! — закричал Мальдан, стараясь разглядеть что-нибудь в темноте, но не сходя с места.
— Йемена! — в один голос воскликнули Шарфенштайиы, вытаскивая шпаги и делая шаг вперед.
— Ах бой? — произнес тот же голос. — Вы хотите бой? Пусть так! Ко мне, Лактанс, ко мне, Фракассо, ко мне, Мальмор!
В глубине пещеры раздалось рычание трех глоток, свидетельствовавшее о том, что те, кому был обращен призыв, готовы на него откликнуться.
— Минуточку, минуточку, Пильтрус! — воскликнул Прокоп, узнавший по голосу четвертого наемника. — Какого черта! Мы же не турки и не цыгане какие-нибудь, чтобы резаться в темноте, не попытавшись сперва понять друг друга!
Зажжем сначала факелы, каждый со своей стороны; поглядим друг другу в глаза, чтобы знать, с кем имеем дело; договоримся, если возможно… ну, а если уж не сможем договориться, тогда — к бою!
— Сначала бой, — произнес мрачный голос, прозвучавший из глубины пещеры, как из преисподней.
— Тише, Мальмор! — осадил его Пильтрус. — Мне кажется, что Прокоп внес вполне приемлемое предложение. Что ты на это скажешь, Лактанс? А ты, Фракассо?
— Я скажу, — ответил Лактанс, — что, если это предложение может спасти жизнь одному из наших братьев, я его принимаю.
— А это было бы, однако, очень поэтично, сразиться в пещере, которая послужила бы могилой павших; но, поскольку не следует подчинять материальные интересы поэзии, — продолжал меланхолично Фракассо, — я присоединяюсь к мнению Пильтруса и Лактанса.
— А я желаю биться! — прорычал Мальмор.
— Давай перевязывай руку и оставь нас в покое, — сказал Пильтрус, — нас трое против тебя одного, и Прокоп — он ведь у нас законник — скажет тебе, что трое всегда выигрывают у одного.
Мальмор издал тяжелый вздох сожаления, увидев, что упустил прекрасную возможность получить новую рану, но, следуя совету Пильтруса, если и не присоединился к мнению большинства, то, во всяком случае, уступил ему.
В это время Лактанс на своей стороне, а Мальдан — на своей высекли огонь: поскольку каждый отряд предвидел, что может понадобиться свет, одновременно вспыхнули два смоляных факела и пещера вместе с обитателями ярко осветилась.
Пещеру мы обследовали, с людьми познакомились, поэтому нам остается только описать расположение действующих лиц на сцене.
В глубине пещеры стояли Пильтрус, Мальмор, Лактанс и Фракассо.
У входа — Шарфенштайны, Мальдан и Прокоп.
Пильтрус стоял несколько впереди; позади него Мальмор кусал пальцы от ярости; рядом с Мальмором расположился Лактанс, держа в руке факел и стараясь успокоить своего воинственного товарища; Фракассо, стоя на коленях, как Агис с надгробия Леонида, закреплял, как и тот, ремешки от сандалий, чтобы, призывая к миру, быть готовым к войне.
С другой стороны авангард возглавляли, как мы уже говорили, Шарфенштайны, позади них на шаг стоял Мальдан, а еще на шаг позади — Прокоп.
Пламя факелов выхватывало четкий круг из темноты. Неосвещенной оставалась ниша у двери, где лежала охапка сухих папоротников, несомненно предназначенная стать постелью будущему отшельнику, если найдется желающий жить в полутьме.
В отверстие, служившее входом в пещеру, проникал луч дневного света, казавшегося тусклым по сравнению с кровавым светом факелов.
Все вместе это могло служить мизансценой какой-нибудь мрачной и воинственной современной драмы.
Наши герои почти все были знакомы друг с другом и видели каждого в деле, но тогда они боролись против общего врага, а не собирались перерезать друг другу глотки.
Как ни мало были подвержены страху их сердца, каждый из них про себя здраво оценивал положение.
Но точнее всех определил количество ударов, какими придется обменяться, — причем определил совершенно беспристрастно, — законник Прокоп.
Поэтому он выступил вперед, навстречу противникам, не переходя, однако, линию, условно обозначенную позицией Шарфенштайнов.
— Господа! — сказал он. — Мы все хотели увидеть друг друга и увидели… Это уже кое-что значит, поскольку, когда видишь противника, трезво подсчитываешь свои шансы. Нас четверо против четверых; но с нашей стороны вот эти двое — тут он показал на Франца и Генриха Шарфенштайнов, — а потому можно сказать, что нас восемь против четырех.
При этой наглой похвальбе Мальмор, Пильтрус, Лактанс и Фракассо не только тотчас испустили воинственный клич, но и вытащили одновременно клинки из ножен.
Прокоп заметил, что его обычная хитрость ему изменила и он пошел неверным путем.
И он попытался вернуться на исходные позиции.
— Господа, — сказал он, — я не утверждаю, что исход боя несомненен, даже если бьются восемь против четырех, коль скоро эти четверо зовутся Пильтрус, Мальмор, Лактанс и Фракассо…
Этот прием постскриптума, казалось, немного охладил страсти; только Мальмор продолжал глухо ворчать.
— Покороче, к делу! — воскликнул Пильтрус.
— Да, — ответил Прокоп, — ad eventum festina… Итак, я говорил, господа, что, не полагаясь на переменчивое счастье битвы, мы должны прийти к соглашению. Итак, между нами возникла некая тяжба, jacens sub judice lis est, как же мы ее разрешим? Прежде всего нужно четко и определенно изложить ситуацию, из чего станут ясны наши права.
Кому пришла в голову мысль завладеть этой ночью маленькой фермой или небольшим замком Парк, как вам угодно его называть? Мне и этим господам. Кто сегодня утром покинул Дуллан с целью привести замысел в исполнение? Я и эти господа. Кто пришел в пещеру, чтобы занять позиции для ночных действий? Опять-таки я и эти господа. И наконец, кто выносил эту мысль, изложил ее вам и, таким образом, вызвал у вас желание присоединиться к этому походу? Опять я и эти господа. Ответьте на все эти вопросы, Пильтрус, и признайте, что руководство предприятием бесспорно и беспрепятственно принадлежит тем, кто его первый задумал и исполнил… Dixi!
Пильтрус рассмеялся, Фракассо пожал плечами, Лактанс потряс факелом, а Мальмор произнес: "К бою!"
— Что вы находите тут смешного, Пильтрус? — серьезно спросил Прокоп, не удостаивая своим вниманием никого другого и соглашаясь на обсуждение вопроса только с тем, кто в настоящую минуту, по-видимому, считал себя командиром отрада.
— Смешной я нахожу, дорогой Прокоп, — ответил наемник, к которому был обращен вопрос, — глубокую убежденность, прозвучавшую в изложении ваших прав, хотя, если вы приняли ваши собственные допущения, для вас сразу станет очевидным, что вы и ваши товарищи вообще не имеют отношения к делу… Да, я согласен с вами, что руководство предприятием бесспорно и беспрепятственно принадлежит тем, кто его первым задумал и исполнил…
— Ага! — с торжествующим видом произнес Прокоп.
— Да, но я добавлю: мысль овладеть фермой, или замком Парк, как вам угодно его называть, вам пришла вчера, так ведь? Ну, а нам она пришла позавчера. Вы сегодня утром вышли из Дуллана, чтобы привести ее в исполнение? А мы с той же целью вышли накануне вечером из Монтрёй-сюр-Мера. Вы час назад вошли в пещеру? А мы тут уже к тому времени провели четыре часа. Вы развили и изложили в нашем присутствии этот план? Но мы его составили до вас. Вы рассчитывали попасть на ферму ночью? А мы — сегодня вечером! Значит, первенство в замысле и исполнении принадлежит нам, а следовательно, нам бесспорно и беспрепятственно принадлежит право руководить нашим предприятием.
И, передразнивая классическую манеру Прокопа, он окончил речь с не меньшей самоуверенностью и выразительностью, чем законник, произнеся:
— Dixi!
— Но, — спросил Прокоп, которого доводы Пильтруса несколько смутили, — кто мне подтвердит, что вы говорите правду?
— Слово дворянина! — сказал Пильтрус.
— Предпочел бы другое поручительство.
— Тогда слово ландскнехта!
— Гм-гм, — опрометчиво произнес Прокоп.
Обстановка накалилась, недоверие Прокопа к слову Пильтруса привело товарищей последнего в крайнее раздражение.
— Ну, тогда к бою! — одновременно воскликнули Фракассо и Лактанс.
— Да, к бою, к бою! — прорычал Мальмор.
— Ну что же — к бою, раз вы хотите, — сказал Прокоп.
— К бою, раз нет способа договориться, — сказал Мальдан.
— К пою! — повторили Франц и Генрих Шарфенштайны, готовясь сражаться.
Поскольку мнение было общим, каждый вытащил шпагу или дагу, схватил топор или палицу, выбрал глазами противника и, изрыгая угрозы, с искаженным лицом был уже готов обрушиться на него со смертельной яростью.
Но вдруг куча папоротника в нише у входа зашевелилась, оттуда появился изысканно одетый молодой человек и, выйдя из темноты в круг света и протягивая руки, как Герсилия на картине "Сабинянки", закричал:
— Ну же, друзья, сложите оружие, я берусь уладить это ко всеобщему удовлетворению!
Все взоры устремились на нового героя, так внезапно и неожиданно появившегося на сцене, и все разом воскликнули:
— Ивонне!
— Но, черт возьми, откуда ты явился? — одновременно спросили Прокоп и Пильтрус.
— Сейчас узнаете, — ответил Ивонне, — но прежде — шпаги и даги в ножны… Вид всех этих обнаженных клинков ужасно действует мне на нервы.
Все повиновались, кроме Мальмора.
— Ну-ну, — сказал, обращаясь к нему, Ивонне, — а это что еще, приятель?
— Ах, — простонал Мальмор с глубоким вздохом, — я вижу, что мне так и не удастся хоть немножко спокойно подраться.
И он вложил свой клинок в ножны жестом, полным досады и разочарования.
IV
УСТАВ СООБЩЕСТВА
Ивонне оглядел всех и увидел, что если гнев и не покинул сердца, то шпаги и даги, по крайней мере, вернулись в ножны. Потом он повернулся по очереди к Пильтрусу и Прокопу, которые, как мы помним, имели честь задать ему один и тот же вопрос.
— Откуда я взялся? — переспросил он. — Черт возьми! Хорошенький вопрос! Я вылез из этой кучи папоротника, куда забрался, увидев сначала Пильтруса, Лактанса, Мальмора и Фракассо, и тем более счел ненужным вылезать, когда за ними следом явились Прокоп, Мальдан и оба Шарфенштайна.
— Но что ты делал в пещере ночью? Мы ведь пришли сюда еще до рассвета.
— Ах, это мой секрет, — ответил Ивонне, — и я вам его сейчас открою, если вы будете себя разумно вести, но сначала перейдем к самому неотложному.
И он обратился к Пильтрусу:
— Итак, дорогой Пильтрус, вы явились сюда с намерением нанести короткий визит на ферму, или, иначе, в замок Парк, как вам угодно его называть.
— Да, — сказал Пильтрус.
— И вы тоже? — спросил Ивонне Прокопа.
— И мы тоже, — ответил Прокоп.
— И вы решили сражаться, чтобы выяснить, кому принадлежит право первенства?
— Да, мы собирались биться, — одновременно ответили Пильтрус и Прокоп.
— Фи, — сказал Ивонне, — вы же товарищи, французы или уж, по крайней мере, люди, служащие делу Франции.
— Черт! Пришлось решиться на бой, потому что эти господа не хотели нам уступить, — заявил Прокоп.
— Мы не могли вести себя иначе, потому что эти господа не хотели очистить нам место, — сказал Пильтрус.
— Пришлось решиться! Не могли вести себя иначе! — передразнил их обоих Ивонне. — Нужно было поубивать друг друга, да? Иначе как перерезать друг другу глотки никак нельзя? И вы, Лактанс, видели эти приготовления к резне и ваша душа христианина не содрогнулась?
— Да, содрогнулась, и сильно!
— И это все, на что подвигла вас ваша святая религия: содрогнуться душой!
— После битвы, — запротестовал Лактанс, несколько задетый упреками Ивонне, справедливость которых он чувствовал, — после битвы я помолился бы за убитых.
— Вы только подумайте!
— А что, по-вашему, я должен был сделать, дорогой господин Ивонне?
— Черт побери, да то, что делаю я, а ведь я не богомолец, не святой и не святоша. Что бы я хотел? Чтобы вы оросились между мечами и шпагами, inter gladios et ernes, как сказал бы наш законник Прокоп, и чтобы вы с покаянным видом, который вам так идет, сказали своим заблудшим братьям то, что сейчас скажу им я: "Друзья, где хватит четверым, хватит и восьмерым; если первое дело не даст нам столько, сколько мы ожидаем, подготовим еще одно. Люди рождены, чтобы поддерживать друг друга на тернистых земных путях, а не усеивать эти пути, и без того I рудные, камнями. Чем разделяться, лучше объединимся: То, чего четверо не могут сделать без огромного риска, восьмером мы осуществим почти играя. Оставим для наших врагов нашу ненависть, наши даги и наши шпаги и будем добры и вежливы друг с другом. Бог, хранящий Францию, когда у него нет более неотложных дел, улыбнется нашему братству и вознаградит его!" Вот, что вы должны были бы сказать, дорогой Лактанс, и чего вы не сказали.
— Это правда, — ответил Лактанс и начал бить себя в грудь: Меа culpa! Меа culpa! Меа maxima culpa!
И, загасив факел, пылавший, подобно ему, Лактанс стал па колени и начал горячо молиться.
— Ну, тогда я скажу это вместо вас, — продолжал Ивонне, — и добавлю: божественное откровение, о котором должен был бы вам возвестить Лактанс, возвещу вам я, друзья.
— Ты, Ивонне? — с некоторым сомнением переспросил Прокоп.
— Да, да… я… у меня возникла та же мысль, что и у вас, по возникла она раньше, чем у вас.
— Как, — спросил Пильтрус, — и у тебя родилась мысль проникнуть в замок, на который мы позарились?
— И не только родилась, — ответил Ивонне, — но я ее еще и стал осуществлять.
— Неужели?! — воскликнули все присутствующие и с удвоенным вниманием стали его слушать.
— Да, мне кое с кем удалось договориться, — продолжат Ивонне. — Это очаровательная служаночка по имени Гертруда. — Тут он подкрутил усы и продолжал: — И она ради меня предаст отца и мать, хозяина и хозяйку… я погубил ее душу.
Лактанс испустил тяжкий вздох.
— Ты говоришь, что входил в замок?
— Я вышел оттуда прошлой ночью; но вы же знаете, что прогулки в темноте внушают мне крайнее отвращение, особенно, когда я совершаю их один. Не желая идти три льё до Дуллана, либо шесть до Абвиля или Монтрёй-сюр-Мера, я прошел всего четверть льё и очутился в этой пещере, которую я знал еще со времени своих первых свиданий с моей богиней. Я ощупью отыскал ложе из папоротников, потому что знал, где оно, и уже начал засыпать, дав себе слово поутру переговорить об этом деле с тем из вас, кого встречу первым, как явился Пильтрус со своей компанией, а вслед за ним и Прокоп со своей. Все явились по одному и тому же делу; стремление к одной и той же цели повлекло за собой известный вам спор, и он, без сомнения, кончился бы трагически, если бы я не решил, что пришло время мне вмешаться, и я вмешался. Теперь я говорю: чем сражаться, не лучше ли объединиться? Чем врываться силой, не лучше ли проникнуть хитростью? Чем выламывать ворота, не лучше ли, чтобы их вам открыли? Чем искать наудачу золото, драгоценности, посуду, серебро, не лучше ли, чтобы вас к ним подвели? Тогда по рукам, я тот человек, кто вам нужен! И чтобы показать вам пример бескорыстия и братства, несмотря на услугу, которую я вам оказываю, я прошу себе всего лишь такую же долю, как и другим. Если у кого-нибудь есть сказать что-либо получше, пусть говорит… Я уступаю ему слово и слушаю.
Шепот восхищения пробежал по собранию. Лактанс, прервав молитву, приблизился к Ивонне и смиренно поцеловал полу его плаща. Прокоп, Пильтрус, Мальдан и Фракассо пожали ему руку. Шарфенштайны чуть не задушили его в объятиях. Один Мальмор прошептал из угла:
— Вот видите, мне не удастся даже ни с кем обменяться жалким ударом шпаги!.. Просто проклятие какое-то!
— Ну что же, — сказал Ивонне, который уже давно мечтал об этом союзе и, видя, что удача сама плывет ему в руки, не хотел ее упустить, — не будем терять ни минуты! Нас собралось здесь девять человек, не боящихся ни Бога, ни черта…
— Нет, — прервал его Лактанс, крестясь, — Бога мы боимся!
— Конечно, конечно; это просто так говорится, Лактанс… Я говорил, что нас здесь девять человек, которых свел случай…
— Провидение, Ивонне! — сказал Лактанс.
— Пусть Провидение… К счастью, среди нас есть законник Прокоп; у него, к счастью, у пояса есть чернила и перо, и я уверен, что в кармане у него есть гербовая бумага нашего доброго короля Генриха Второго…
— Слово чести, да, — подтвердил Прокоп, — и как сказал Ивонне, это к счастью.
— Тогда поспешим… Соорудим стол и составим устав сообщества, а один из нас будет часовым в лесу, поблизости от входа в пещеру, и проследит, чтобы нас не беспокоили.
— Я стану на страже, — заявил Мальмор, — и, сколько бы испанцев, англичан или немцев не бродило по лесу, все они будут убиты.
— Вот это как раз то, что не нужно, дорогой Мальмор, — сказал Ивонне. — При нашем расположении, то есть в двухстах шагах от лагеря его величества императора Карла Пятого, причем когда командующий — человек с таким тонким слухом и опытным глазом, как монсеньер Эммануил Филиберт Савойский, убивать надо только в I ом случае, когда этого не избежать, тем более что, какую верную руку ни имей, убиваешь не всегда, а когда не убиваешь, то ранишь; раненые же пронзительно вопят; на крики раненых сбегаются люди, а если лес заполнят войска, то один Бог знает, что станется с нами! Нет, дорогой Мальмор, вы останетесь здесь, а на страже будет стоять один из Шарфенштайнов. Они немцы, и если нашего часового обнаружат, он выдаст себя за ландскнехта герцога Дренберга или рейтара графа Вальдека.
— Уж лючше крава Фальтека, — заметил Генрих Шарфенштайн.
— Этот великан все прекрасно понимает, — сказал Ивонне. — Да, дружище, лючше крава Фальтека, потому что граф Вальдек грабитель. Ты ведь это имел в виду?
— Ja, я это хотел зкасать.
— И потому нет ничего удивительного в том, что грабитель прячется в лесу?
— Nein… нишего утифительного!
— И все же пусть тот Шарфенштайн, что будет стоять на страже, поостережется, чтобы в качестве грабителя не попасть в руки монсеньера герцога Савойского… Он с мародерами шутить не будет!
— Та, — сказал Генрих, — фчера он обять твух зольдат пофесил!
— Дрех! — поправил Франц.
— Ну хорошо, кто из вас станет на часах?
— Я, — ответили одновременно дядя и племянник.
— Друзья мои, — сказал Ивонне, — ваша готовность оценена нами по заслугам, но одного достаточно. Киньте жребий соломинками… Тому, кто останется здесь, уготован почетный пост.
Шарфенштайны минуту посовещались.
— У Франца корошие класа и корошие уши… Он пудет нашим чазофым, — объявил Генрих.
— Хорошо, — согласился Ивонне, — тогда пусть Франц займет свой пост.
Франц с обычным своим спокойствием направился к выходу.
— Ты понял, Франц? — спросил Ивонне. — Если тебя другие накроют, это пустяки, но если это будет герцог Савойский, он тебя повесит!
— Меня никто не нагроет, путьте збогойны, — ответил Франц.
И он вышел из пещеры, чтобы занять свой пост.
— А где бочетный бост? — спросил Генрих.
Ивонне взял факел из рук Мальдана и, подавая его Генриху, сказал:
— Держи, встанешь здесь… свети Прокопу и не двигайся!
— Я не путу тфикаться! — сказал Генрих.
Прокоп сел, вынул из кармана бумагу и снял с пояса письменные принадлежности.
За этой работой мы его и застали, когда проникли в пещеру в лесу Сен-Поль-сюр-Тернуаз, обычно необитаемую и, по странному стечению обстоятельств, такую людную в этот день.
Мы уже заметили, что дело, за которое взялся Прокоп и которым он занимался с одиннадцати часов утра до трех часов пополудни знаменательного дня 5 мая 1555 года, было отнюдь не простым, потому что результат должен был удовлетворять всех.
Поэтому, как выражаются, когда обсуждают проект закона в палате современного парламента, каждый внес в документ поправки и поправки к поправкам согласно своим интересам и познаниям.
Упомянутые поправки и поправки к поправкам были приняты большинством голосов, и, к чести наших героев, нужно сказать, что голосовали они справедливо, спокойно и беспристрастно.
Есть некоторые извращенные умы, нагло клевещущие на законодателей, судей и правосудие и утверждающие, будто бы свод законов, составленный ворами, был бы более полон и, главное, более справедлив, чем кодекс, составленный честными людьми.
Мы сожалеем об ослеплении, в каком пребывают эти несчастные, как сожалеем о заблуждениях кальвинистов и лютеран, и молим Господа простить их — как одних, так и других.
Наконец, когда часы Ивонне показывали четверть четвертого — как ни редки были подобные драгоценные вещицы в то время, отметим, что молодой щёголь добыл себе часы, — словом, в четверть четвертого Прокоп поднял голову, положил перо, взял в руки бумагу и, с удовлетворенным видом поглядев на нее, радостно воскликнул:
— О, думаю, я окончил, и неплохо!.. Exegi monumentum.
Услышав эти слова, Генрих Шарфенштайн, который уже три часа двадцать минут держал факел, разогнул руку, начавшую уставать. Ивонне перестал напевать, но продолжал подкручивать усы; Мальмор кончил перевязывать левую руку и закрепил повязку булавкой; Лактанс дочитал последнее "Ave"; Мальдан, опиравшийся обеими руками на стол, выпрямился; Пильтрус вложил в ножны наточенный как следует кинжал, а Фракассо вышел из поэтической задумчивости, довольный тем, что закончил сонет, который он сочинял уже больше месяца.
Все подошли к столу, кроме Франца, полностью полагавшегося на дядю в части соблюдения их общих интересов и продолжавшего стоять, а точнее, как мы уже говорили, лежать на посту в двадцати шагах от входа в пещеру с твердым намерением не только хорошо охранять своих товарищей, но и не попадаться никому в руки, особенно беспощадному судье Эммануилу Филиберту Савойскому.
— Господа, — сказал Прокоп, с удовлетворением озирая товарищей, которые стояли вокруг него еще более правильным кругом, чем солдаты вокруг офицера, приказывающего им построиться, — господа, все в сборе?
— Да! — ответили наемники хором.
— Все ли вы, — продолжал Прокоп, — готовы выслушать чтение восемнадцати статей совместно составленного нами документа, который можно назвать уставом сообщества? Ведь это действительно некое сообщество, которое мы основываем, учреждаем и узакониваем!
Все ответили положительно, а Генрих Шарфенштайн, разумеется, ответил за себя и за племянника.
— Итак, слушайте, — провозгласил Прокоп.
Прокашлявшись и сплюнув, он начал:
"Между нижеподписавшимися…"
— Простите, — прервал его Лактанс, — но я не умею подписываться.
— Черт возьми, — ответит Прокоп, — большое дело! Поставишь крестик.
— О, — прошептал Лактанс, — мои обязательства от этого станут только еще более священными… Продолжайте, брат мой.
Прокоп возобновил чтение:
"Между нижеподписавшимися: Жаном Кризостомом Прокопом…
— Ты не очень-то стесняешься, — прервал его Ивонне, — себя ставишь первым!
— С кого-то надо же начинать! — невинно возразил Прокоп.
— Хорошо, хорошо, — сказал Мальдан, — продолжай. Прокоп вновь стал читать:
"… Жаном Кризостомом Прокопом, бывшим прокурором при адвокатской коллегии в Кане и внештатным прокурором при адвокатской коллегии в Руане, Шербуре, Валоне…"
— Черт побери! — воскликнул Пильтрус. — Меня не удивляет, что ты составлял эту бумагу три с половиной часа, если ты перечислил титулы и звания каждого из нас, как свои… меня, наоборот, удивляет, что ты уже кончил!
— Нет, — ответил Прокоп, — вас я всех объединил под одним названием и каждому из вас придал всего одно определение; но я счел, что в отношении меня, составителя этого документа, перечисление моих титулов и званий не только уместно, но и совершенно необходимо.
— В час добрый! — заключил Пильтрус.
— Давай читай! — прорычал Мальмор. — Мы так никогда не кончим, если его будут прерывать на каждом слове… Мне лично не терпится сражаться.
— Дьявольщина, — сказал Прокоп, — не я же сам себя прерываю, кажется!
И он принялся читать заново:
"Между нижеподписавшимися: Жаном Кризостомом Прокопом и т. д., Оноре Жозефом Малъданом, Виктором Феликсом Ивонне, Сириллом Непомюсеном Лактансом, Сезаром Аннибалем Мальмором, Мартеном Пильтрусом, Витторио Альбани Фракассо и Генрихом и Францем Шарфенштайнами — капитанами на службе короля Генриха II…"
Тут чтение Прокопа было прервано восхищенным шепотом, и уже никто не думал спорить о титулах и званиях, которые он сам себе присвоил, потому что каждый прилаживал себе какой-нибудь символ — будь-то шарф, салфетку, платок или просто лоскут, — свидетельствующий о высоком звании капитана на французской службе, которым был только что осчастливлен.
Прокоп дал утихнуть одобрительному шуму и продолжал:
"… было установлено следующее…"
— Прости, — сказал Мальдан, — но документ недействителен.
— Как недействителен? — переспросил Прокоп.
— Ты забыл в своем документе одну вещь.
— Какую?
— Дату.
— Она в конце.
— А, — сказал Мальдан, — тогда другое дело… Но все же лучше, чтобы она была в начале.
— В начале ли, в конце ли, какая разница? — возразил Прокоп. — "Институции" Юстиниана ясно говорят: "Опте actum quo tempore scriptum sit, indicato; seu initio, seu line, ut paciscentibus libuerit". Это означает: "В каждом соглашении должна обязательно быть указана его дата; но стороны вольны обозначить дату в конце или в начале вышеназванного соглашения".
— До чего же отвратителен этот язык прокуроров! — воскликнул Фракассо. — И сколь далеко этой латыни до латыни Вергилия и Горация!
И он с восторгом продекламировал строки третьей эклоги Вергилия:
Malo me Galatea petit, lasciva puella:
Ef fugit ad salices, et se cupit ante videri…
— Помолчи, Фракассо! — сказал Прокоп.
— Помолчу, помолчу сколько хочешь, — ответил Фракассо, — но от этого я не перестану предпочитать Юстиниану Первому, сколь бы велик он ни был, Гомера Второго и хотел бы лучше сочинить "Буколики", "Эклоги" и даже "Энеиду", чем "Дигесты", "Пандекты", "Институции" и весь "Corpus juris civilis"!
Между Фракассо и Прокопом чуть было уже не начался спор об этом важном предмете, и Бог знает, куда бы он их завел, как вдруг внимание всех присутствующих привлек приглушенный крик, раздавшийся у входа в пещеру.
Лучи дневного светила, просачивавшиеся в пещеру, внезапно исчезли; у входа возникло какое-то непрозрачное тело, и сразу стала видна разница между искусственным и преходящим светом факела и божественным и неугасимым светом солнца. Наконец некое существо, плохо различимое в полутьме, двинулось к центру круга, который невольно раскрылся перед ним.
И только тут в свете факела стало возможным различить Франца Шарфенштайна, держащего в руках женщину и вместо затычки зажавшего ей рот ладонью.
Каждый ждал разъяснений.
— Дофарищи, — сказал великан, — фот маленькая шенщина, которая протила у фхота в пещеру, и я фам ее бринес. Что с ней стелать?
— Черт возьми, — ответил Пильтрус, — отпусти ее… Может, она и не съест нас всех, девятерых!
— О, я не поялся, что она нас фсех тефятерых зъест, — сказал Франц, громко смеясь, — згорее я отин ее зъем!.. Jawohl!
И он, как и предложил ему Пильтрус, быстро поставил женщину на ноги и отошел назад.
Женщина была молода, красива и, судя по ее наряду, принадлежала к почтенному классу кухарок из хорошего дома; она испуганно огляделась, пытаясь понять, куда она попала, и это общество с первого взгляда показалось ей несколько разнородным.
Но не успел ее взгляд обежать всех, стоявших вокруг нее, как он остановился на самом молодом и элегантном из наемников.
— О господин Ивонне, — воскликнула она, — во имя Неба, защитите, спасите меня!
И она, вся дрожа, подбежала к молодому человеку и обняла его за шею.
— Надо же, — сказал Ивонне, — это мадемуазель Гертруда! >
Он прижал девушку к груди, чтобы ее успокоить, и сказал:
— Черт возьми, господа, сейчас мы получим самые свежие новости из замка Парк, потому что это прелестное дитя пришло оттуда.
И поскольку новости, которые, по словам Ивонне, должна была рассказать мадемуазель Гертруда, интересовали всех в самой высшей степени, наши герои прервали, по крайней мере на время, чтение устава сообщества и стали с нетерпением ждать, чтобы девушка пришла в себя и смогла говорить.
V
ГРАФ ВАЛЬДЕК
Несколько минут царило молчание, а потом мадемуазель Гертруда, успокоенная уговорами, что ей нашептывал на ухо Ивонне, начала свой рассказ.
Но, поскольку этот рассказ, часто прерываемый то из-за волнения Гертруды, то из-за вопросов присутствующих, не может достаточно ясно осветить происшедшее нашим читателям, мы, с их позволения, заменим его своим и, взяв дело в свои руки, опишем со всей доступной нам точностью трагические события, заставившие девушку покинуть замок Парк и очутиться среди наших героев.
Спустя два часа после ухода Ивонне, как раз в ту минуту, когда мадемуазель Гертруда, наверное несколько утомленная ночной беседой с прекрасным парижанином, решилась наконец вылезть из постели и спуститься к хозяйке, присылавшей за ней уже трижды, в комнату госпожи вбежал испуганный сын фермера, юноша лет шестнадцати-семнадцати по имени Филиппен, и сообщил, что на дороге появился отряд из сорока-пятидесяти человек, принадлежащих, судя по их желто-черным перевязям, к армии императора Карла V; эти люди захватили его отца, работающего в поле, и движутся по направлению к замку.
Сам Филиппен, трудившийся в нескольких сотнях метров от отца, видел главаря отряда, схватившего его, и по жестам солдат и пленника понял, что они разговаривали о замке. Тогда он ползком добрался до дороги, проходившей в низине, и, воспользовавшись тем, что рельеф скрывал его от их глаз, кинулся со всех ног сообщить своей госпоже о происходящем, чтобы у нее осталось время принять решение.
Хозяйка замка поднялась, подошла к окну и в самом деле увидела шагах в ста от замка отряд; он состоял из пятидесяти человек, как и говорил Филиппен, и им, как казалось, командовали три человека. Рядом с лошадью одного из командиров шел со связанными руками за спиной фермер; офицер, около которого он шагал, держал в руках конец веревки, несомненно для того, чтобы несчастный даже не пытался убежать или, если такая попытка случится, немедленно ее пресечь.
Зрелище было неутешительное. И все же, принимая во внимание, что всадники, намеревавшиеся посетить замок, носили имперские перевязи; что шлемы командиров несли на своих гребнях короны, а на их кирасах красовались гербы; что приказы герцога Эммануила Филиберта относительно грабежей и мародерства были совершенно определенными и что, наконец, не было никакого способа бежать, особенно женщине, владелица замка решилась принять прибывших как можно лучше. А потому, чтобы оказать им честь, она спустилась по лестнице и вышла встретить их на нижнюю ступеньку крыльца.
Что же до мадемуазель Гертруды, то при виде этих людей она испугалась так, что, вместо того чтобы следовать за хозяйкой, как ей, быть может, велел долг, она уцепилась за Филиппена, умоляя показать ей какое-нибудь надежное убежище, где она могла бы спрятаться на все то время, пока солдаты будут в замке, и куда он, Филиппен, мог бы время от времени приходить и сообщать ей новости о делах ее госпожи, по-видимому принимавших совсем скверный оборот.
И хотя последнее время мадемуазель Гертруда несколько грубовато обращалась с Филиппеном и он, напрасно пытаясь найти причину такой перемены отношения к нему, пообещал себе отплатить ей тем же, если она обратится к нему за чем-нибудь, теперь она в своем страхе была столь хороша и столь соблазнительна, когда его умоляла, что он позволил уговорить себя и потайной лестницей вывел ее во двор, а со двора в сад; там он спрятал ее в закоулке водосборной цистерны, где они с отцом обычно складывали садовые инструменты.
Было маловероятно, что солдаты, в чьи намерения входило, скорее всего, занять замок, службы и погреба, явились бы в то место, где, как шутливо заметил Филиппен, и пить-то, кроме воды, было нечего.
Мадемуазель Гертруда хотела бы, чтобы Филиппен остался с ней, и, может быть, со своей стороны Филиппен и не желал бы ничего лучшего, как остаться с мадемуазель Гертрудой, но красавица была любопытна еще больше, чем пуглива, и потому желание узнать о происходящем оказалось в ней сильнее страха.
Для большей уверенности Филиппен положил ключ от цистерны в карман, что сначала несколько обеспокоило мадемуазель Гертруду, но по размышлении показалось ей, наоборот, более надежно.
Мадемуазель Гертруда задержала дыхание и прислушалась: сначала она услышала топот лошадей и звон оружия, голоса людей и конское ржание, но, казалось, все это доносилось, как и предвидел Филиппен, из замка и его дворов.
Пленница дрожала от нетерпения и сгорала от любопытства. Несколько раз она подходила к двери и пыталась ее открыть. Если бы можно было ее отпереть, то с риском больших неприятностей для себя она бы пошла послушать и посмотреть, что происходит, в щелку двери или через стену.
Наконец послышались легкие шаги, похожие на шаги ночного хищника, что бродит вокруг курятника или овчарни; затем они приблизились; ключ, осторожно вставленный в скважину, тихонько скрипнул, дверь медленно отворилась и тут же затворилась, впустив Филиппена.
— Ну, что там? — спросила Гертруда, не дав ему еще войти.
— Так вот, мадемуазель, — ответил Филиппен, — кажется, это, как и сказала госпожа баронесса, и в самом деле дворяне, но какие дворяне, Господь милосердный! Если бы вы слышали, как они ругаются и богохульствуют, вы бы их приняли за настоящих язычников!
— Боже мой, что вы говорите, господин Филиппен! — воскликнула в ужасе девушка.
— Правду, истинную правду, Богом клянусь, мадемуазель Гертруда! Вот господин капеллан хотел им сделать замечание, а они ответили, что, если он не замолчит, они его заставят отслужить висячую обедню, то есть повесят его за ноги вниз головой на веревке колокола, а их капеллан, какой-то негодяй с бородой и усами, будет следить по своему требнику, чтобы не было пропущено ни одного ответа п ни одного вопроса.
— Но, значит, — спросила мадемуазель Гертруда, — это не настоящие дворяне?
— Самые настоящие, черт возьми! И даже одни из самых знатных в Германии! Они и имена свои назвать не постеснялись! А это, если посмотреть на их поведение, большая наглость. Старшего — ему лет пятьдесят — зовут Граф Вальдек; он командует четырьмя тысячами рейтаров в армии его величества Карла Пятого. Двое других — одному года двадцать четыре-двадцать пять, а другому лет девятнадцать-двадцать, его сыновья — законный и незаконный. И судя по тому, что я видел, незаконного он любит больше, чем законного, это часто бывает. Законный сын — красивый молодой человек, бледный, с большими карими глазами, с черными волосами и черными усами, и мне кажется, что этого можно уговорить. Но о тором, о незаконном, рыжем, я этого сказать не могу: у него глаза, как у совы… Этого, мадемуазель Гертруда, пусть вас Бог убережет встретить, он настоящий демон!.. А как он смотрел на госпожу баронессу — прямо в дрожь бросает!
— Правда? — спросила мадемуазель Гертруда, которой явно было интересно узнать, что это за взгляд, от которого бросает в дрожь.
— Ох, Бог мой, да, — сказал Филиппен в качестве заключения, — вот в каком положении я их оставил… Теперь я пойду за новостями и, как только они у меня будут, вернусь к вам.
— Да, да, — сказала Гертруда, — идите, возвращайтесь побыстрее и постарайтесь, чтобы с вами ничего не случилось.
— О, будьте спокойны, мадемуазель, — ответил Филиппен, — я показываюсь им на глаза только держа по бутылке в каждой руке, и, поскольку я знаю, где лежит хорошее вино, разбойники ко мне почтительны.
Филиппен вышел и запер мадемуазель Гертруду, а она попыталась представить себе глаза, от взгляда которых бросает в дрожь.
Она еще недостаточно представила себе это явление, хотя размышляла на эту тему почти час, как в замке снова повернулся ключ и явился вестник.
Но это вовсе не был вестник мира, и он был далек от того, чтобы держать в руке оливковую ветвь.
Граф Вальдек и его сыновья угрозами и даже дурным обращением заставили баронессу отдать им драгоценности, столовое серебро и все золото, что было в замке. Но этого им оказалось мало, и, отдав первую часть выкупа, бедная женщина, полагавшая, что она уже откупилась от этих знатных бандитов, попросивших у нее гостеприимство, была схвачена, привязана к ножке кровати и заперта в спальне, причем ей пригрозили, что, если через два часа она не найдет в своем кошельке или в кошельках своих друзей двести экю с розой, замок будет сожжен.
Мадемуазель Гертруда попричитала для приличия над участью своей хозяйки; но, так как у нее не было двухсот экю, чтобы одолжить их баронессе и тем выручить ее из затруднительного положения, в каком та оказалась, она постаралась переключиться на другое и спросила Филиппена, что делает этот ужасный бастард Вальдек с рыжими волосами и страшным взглядом.
Филиппен ответил, что бастард Вальдек потихоньку напивается, и отец усердно помогает ему в этом занятии. Один лишь виконт Вальдек сохраняет хладнокровие, насколько это возможно посреди грабежа и оргии.
Мадемуазель Гертруда страстно желала увидеть своими глазами, что такое оргия. Что такое грабеж, она знала, поскольку видела разграбление Теруана, но об оргии не имела ни малейшего представления.
Филиппен объяснил ей, что это собрание мужчин, пьющих, жрущих, произносящих непристойные речи и совершающих разного рода оскорбительные действия по отношению к женщинам, которые им попадаются под руку.
Когда мадемуазель Гертруда услышала это разъяснение, любопытство ее удвоилось, хотя такая картина заставила hi,I дрожать менее храброе сердце, чем у нее. Она стала просить Филиппена выпустить ее хоть на десять минут, но I от несколько раз и очень резко ответил ей, что, выйдя, она рискует жизнью, и девушка решила остаться в тайнике и ждать третьей вылазки Филиппена, а потом уже принять окончательное решение.
Однако еще до возвращения Филиппена она решилась но что бы то ни стало выйти, добежать до замка, а там, пробираясь секретными переходами и потайными лестницами, своими глазами увидеть происходящее, потому что самый красноречивый рассказ всегда хуже зрелища, которое он живописует.
А потому, как только она услышала в третий раз, что ключ поворачивается в замке, она приготовилась выскочить из цистерны, будет согласен с этим Филиппен или нет, но, увидев юношу, она в ужасе отшатнулась.
Филиппен был бледен как смерть; он бормотал какие-то неосмысленные слова, а взгляд у него был растерянный и осуждающий, как у человека, только что ставшего свидетелем какого-то тяжелого и страшного зрелища.
Гертруда хотела было расспросить Филиппена, но, увидев охвативший его ужас, почувствовала, что она леденеет; бледность со щек юноши как бы перешла на ее лицо, и его пугающая немота заставила ее тоже онеметь.
Юноша, ничего не говоря, схватил ее за запястье и с силой, какую придает страх и какой невозможно сопротивляться, потащил ее к садовой калитке, выходившей в поле; при этом он бормотал:
— Мертва… убита… заколота…
Гертруда покорно шла за ним; Филиппен на секунду отпустил ее руку, чтобы запереть за ними калитку — то была напрасная предосторожность, потому что никто их не преследовал.
Но потрясение оказалось слишком сильным для Филиппе па, и он продолжал двигаться лишь по инерции, пока у пего не подкосились ноги. Шагов через пятьсот силы его оставили; задыхаясь, он упал, шепча хриплым, как в агонии, голосом ужасные слова — единственные, впрочем, какие он произнес:
— Мертва… убита… заколота…
Гертруда огляделась: они были в двухстах шагах от опушки леса; она знала лес, она знала пещеру — вдвойне надежное убежище. И может быть, в лесу ей удастся найти Ивонне.
Она чувствовала угрызения совести, оттого что оставляла Филиппена одного, лежащим без чувств у оврага, но тут увидела, как по полю скачут четверо или пятеро всадников.)то были, возможно, рейтары из отряда графа Вальдека;
нельзя было терять ни секунды, чтобы успеть от них ускользнуть. Она обезумела и, не оборачиваясь, бросилась бежать; волосы ее растрепались, она задыхалась, но остановилась уже в лесу и, прислонившись к дереву, чтобы не упасть, взглянула на поле.
Всадники подъехали к тому месту, где она оставила Филиппена лежащим без сознания. Они его подняли, поставили на ноги, но увидев, что он не может сделать ни шагу, один из них перекинул его поперек седла и в сопровождении товарищей поскакал к лагерю.
Впрочем, у этих людей, казалось, были добрые намерения, и Гертруда даже подумала, что это самый лучший выход для Филиппена — попасть в столь жалостливые, по-видимому, руки.
Тогда, успокоившись относительно судьбы своего спутника и немного переведя дыхание, Гертруда снова бросилась бежать, как ей казалось — в сторону пещеры; но она была в такой растерянности, что не могла узнать примет, по каким обычно находила дорогу. Таким образом она заблудилась и только через час, по чистой случайности или скорее инстинктивно, оказалась около пещеры в пределах досягаемости рук Франца Шарфенштайна.
Об остальном можно догадаться: Франц протянул руку, схватил Гертруду за талию, зажал ей рот другой рукой, поднял девушку как перышко, втащил ее в пещеру и поставил ее, дрожащую от страха, на землю посреди своих товарищей; подбадриваемая И войне, она рассказала им то, что мы уже знаем, и ее повествование было встречено общим криком возмущения.
Но пусть читатель не заблуждается, причина этого возмущения была чисто эгоистической. Наемники возмутились не тем, что грабители вели себя столь безнравственно по отношению к обитателям замка Парк. Нет, они были возмущены тем, что граф Вальдек и его сыновья утром разграбили замок, который они сами собирались разграбить вечером.
За негодованием и криком последовало единогласно принятое решение пойти на разведку, чтобы посмотреть, что происходит в лагере, куда унесли Филиппена, и в замке, где разыгрались трагические события, которые были описаны Гертрудой с красноречием и выразительностью, вызванными ужасом.
Ноу наших героев негодование не исключало осторожности; было решено, что сначала один доброволец обследует лес и, вернувшись, расскажет всем, что происходит; согласно полученным сведениям и будут предприняты дальнейшие действия.
Ивонне предложил себя, чтобы обследовать лес. Это был самый подходящий для такого дела человек: он знал все дороги и тропинки в лесу, был быстр, как лань, и хитер, как лиса.
Гертруда стала громко протестовать и попробовала воспротивиться тому, чтобы ее возлюбленный брался за столь опасное дело, но ей в двух словах дали понять, что она выбрала неудачный момент для подобных любовных тонкостей и что это может быть плохо принято здравомыслящим обществом, в котором она оказалась. Впрочем, по сути, она была девушкой благоразумной и, увидев, что ее крики и слезы не только не оказывают желаемого действия, но и могут плохо для нее кончиться, сразу успокоилась. Да и Ивонне объяснил ей вполголоса, что возлюбленная наемного солдата не должна проявлять чувствительность и нервность принцессы из романа, и, поручив ее своему другу Фракассо и доверив ее охрану обоим Шарфенштайнам, вышел из пещеры, чтобы выполнить только что возложенное на себя важное поручение.
Спустя десять минут он вернулся.
Лес был пустынен; никакая опасность, им, по-видимому, не угрожала.
Поскольку любопытство наших героев было почти так же возбуждено рассказом мадемуазель Гертруды в пещере, как ее любопытство — рассказом Филиппена в цистерне, и поскольку у этих бывалых людей не было причин для страха, какие, естественно, были у красивой и робкой девицы, они тут же вышли из подземелья, доверив духам земли охранять устав сообщества, составленный Прокопом, поставили Ивонне во главе своего отряда и, ведомые им, направились к опушке леса; однако предварительно каждый убедился, что его шпага или дага легко выходит из ножен.
VI
ВЕРШИТЕЛЬ ПРАВОСУДИЯ
По мере того как наши герои приближались к той части леса, что не доходила до Эдена всего на четверть льё и, как наконечник копья, разделяла равнину, уже известную нашему читателю, на две части, строевой лес сменился густым подлеском, а переплетенные ветви деревьев обеспечили еще большую безопасность тем, кто скрылся под их сенью. Впрочем, маленький отряд дошел до опушки леса, не встретив ни одного живого существа.
Они остановились шагах в пятнадцати от оврага, отделявшего лес от равнины; овраг огибала дорога, соединявшая замок Парк, императорский лагерь и соседние деревни (мы уже говорили о ней читателю в первой главе).
Место наемники выбрали прекрасное: они остановились под дубом-великаном, высившимся с несколькими огромными деревьями той же породы на опушке как свидетельство тех времен, когда по этим лесам еще не гулял топор дровосека. Над ними шелестела листьями огромная крона, а отойдя на несколько шагов, они могли, сами оставаясь невидимыми, рассмотреть всю равнину.
Все одновременно подняли глаза к вершине векового дуба. Ивонне понял, чего от него ждут: он кивнул в знак согласия, одолжил у Фракассо записную книжку, в которой оставался один чистый листок (поэт показал его Ивонне, наказав не трогать остальные, ибо на них были запечатлены его стихотворные мечтания); попросил одного из Шарфенштайнов прислониться к корявому стволу, который нельзя было обхватить обеими руками; встал на скрещенные руки великана, оттуда забрался ему на плечи, уцепился за нижние ветки и вскоре уже удобно сидел верхом на толстом суку, устроившись столь же непринужденно и безопасно, как матрос на рее фок-мачты или на бушприте.
Гертруда обеспокоенным взглядом следила за подъемом, но она уже научилась скрывать страхи и сдерживать крики. Впрочем, видя, как спокойно он сидит на ветви и с какой легкостью поворачивается из стороны в сторону, она поняла, что если только не произойдет один из тех приступов головокружения, каким он был подвержен, когда его никто не видел, то ее возлюбленному не угрожает никакая опасность.
Ивонне же, прикрыв глаза рукой от солнца, смотрел то на север, то на юг, уделяя внимание поочередно двум явно интересным зрелищам.
Эти бесконечные повороты головы вызвали сильнейшее любопытство его товарищей, ибо, стоя в густом подлеске, они не могли видеть того, что наблюдал Ивонне с той высоты, где он обосновался.
Поэтому Ивонне понял, что их снедает любопытство, которое они выказывали, задирая вверх головы, обращая к нему недоумевающие взгляды и даже осмеливаясь вполголоса спрашивать: "Да что там такое?"
И надо сказать, что среди вопрошающих жестами и словами мадемуазель Гертруда занимала далеко не последнее место.
Ивонне сделал своим товарищам знак, обещающий, что скоро они будут знать столько же, сколько он. Он открыл записную книжку Фракассо, вырвал оттуда последний чистый листок, написал на нем карандашом несколько строк, скатал его, чтобы его не унесло ветром, и бросил вниз.
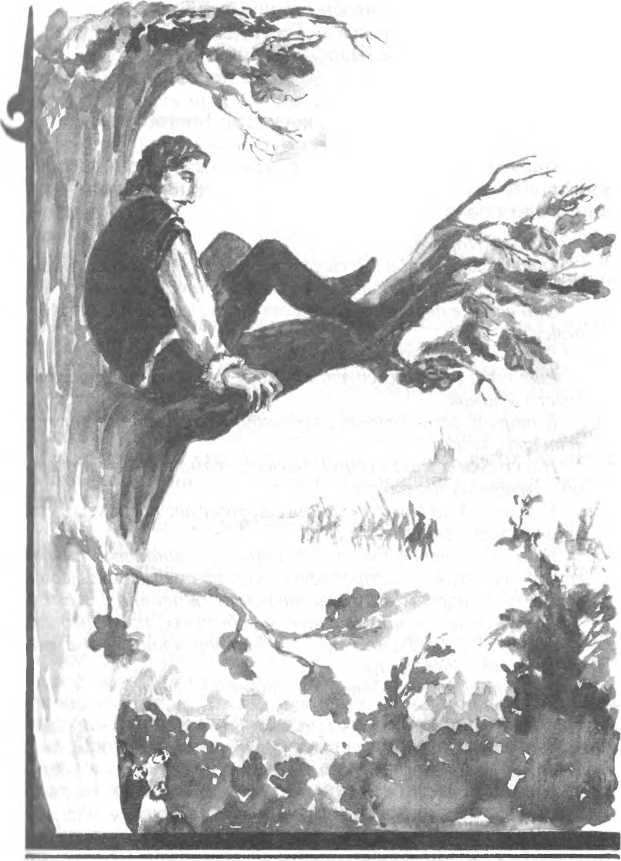
Все руки поднялись, чтобы его поймать, даже маленькие беленькие ручки мадемуазель Гертруды, но листок упал в широкие лапы Франца Шарфенштайна.
Великан посмеялся своей удаче и, передав листок соседу, сказал:
— Усдубаю фам эду честь, коспотин Брогоб, я по-вран-цузски не читаю.
Прокоп, которому не меньше, чем другим, не терпелось узнать, что происходит, развернул листок и при всеобщем внимании прочел следующее:
"Замок Парк горит.
Граф Вальдек, оба его сына и сорок рейтаров выступили в поход и следуют по дороге из замка Парк в лагерь.
Они всего в двухстах шагах от того места, где мы прячемся.
Это — справа от меня.
Еще один отряд следует с другой стороны по дороге из лагеря в замок.
В отряде семь человек: командир, оруженосец, паж и четверо солдат.
Насколько я могу судить отсюда, командир — это герцог Эммануил Филиберт.
Его отряд на таком же расстоянии от нас слева, как отряд графа Вальдека справа.
Если оба отряда будут двигаться с одинаковой скоростью, они должны встретиться как раз у выступа леса и окажутся лицом к лицу совершенно неожиданно для них.
Если герцог Эммануил знает о событиях, происшедших в замке, от г-на Филиппена — а это вероятно, — мы увидим нечто любопытное.
Внимание у друзья! Это действительно герцог!"
На этом записка Ивонне кончалась, но трудно было сказать больше, употребив еще меньше слов, и пообещать с большей простотой зрелище, которое должно было стать одним из самых любопытных, если только Ивонне правильно опознал личности и угадал их намерения.
Поэтому каждый из наших героев осторожно подошел к опушке как можно ближе, чтобы со всеми удобствами, но в безопасности наблюдать за спектаклем, который обещал Ивонне, благодаря случаю получивший самое лучшее зрительское место.
Если читатель хочет последовать их примеру, то оставим пока в покое графа Вальдека и его сыновей: о них мы noлучили достаточное представление из рассказа мадемуазель Гертруды, и тоже проскользнем на опушку леса, налево, чтобы встретиться с человеком, о чьем появлении сообщил Ивонне, потому что человек этот есть не кто иной, как герой всей нашей истории.
Ивонне не ошибся. Человек, ехавший между своим пажом и оруженосцем во главе отряда из четырех человек, как будто речь шла о простом дневном дозоре, был действительно герцог Эммануил Филиберт, верховный главнокомандующий войск императора Карла V в Нидерландах.
Узнать его было очень легко, потому что свой шлем он носил не на голове, а притороченным слева к седлу, причем почти постоянно, в дождь и в солнцепек, а иногда и во время битвы, отчего солдаты, видя его нечувствительность к жаре, к холоду и даже к ударам, прозвали его "Железная голова".
В то время, когда мы с ним знакомимся, это был красивый молодой человек двадцати семи лет, среднего роста, но очень крепкий, с коротко остриженными волосами, открывавшими высокий лоб; под хорошо очерченными бровями живо и проницательно смотрели голубые глаза; нос у пего был прямой, усы густые, борода подстрижена клином, а шея немного уходила в плечи, как это часто бывает с потомками воинских родов, из поколения в поколение носивших шлем.
Голос у него был одновременно необычайно мягкий и поразительно твердый. И странное дело! Он мог выражать угрозу, поднимаясь всего на один-два тона: возрастание его гнева прорывалось лишь в едва уловимых изменениях его интонации.
И только близкие к нему люди догадывались, какой опасности подвергались те, кто возбуждал его гнев и неосторожно противостоял ему; гнев этот был настолько скрыт внутри, что всю силу и мощь его можно было оцепить только в то мгновение, когда из глаз герцога вырывалась молния, а затем разражался гром, разбивая наглецов в прах; но, как после грома и молний гроза постепенно стихает и небо светлеет, так и лицо герцога сразу после взрыва гнева принимало свое обычное спокойное и ясное выражение, взгляд снова отражал миролюбие и силу, а на губах появлялась царственная и благожелательная улыбка.
По правую руку от него ехал оруженосец; забрало его шлема было поднято, и было видно, что это белокурый молодой человек одних лет с герцогом и точно такого же роста. Светло-голубые глаза его, светившиеся гордостью и мощью; усы и борода, более теплого оттенка, чем волосы; нос с расширенными, как у льва, ноздрями; губы, яркость и полноту которых не могли скрыть усы; смуглое лицо со здоровым румянцем — все это свидетельствовало об огромной физической силе. Устрашающий двуручный меч — три таких Франциск I сломал в битве при Мариньяно, — висел у него не на боку, а за спиной, поскольку этот меч был настолько длинный, что его можно было вытаскивать только из-за плеча; к луке седла был приторочен боевой топор с лезвием с одной стороны, булавой — с другой, а сверху — с трехгранным острием, так что одним этим оружием можно было в зависимости от обстоятельств рубить как топором, наносить удары как молотом и колоть как кинжалом.
Слева от герцога ехал паж. Это был красивый юноша лет шестнадцати — восемнадцати, с иссиня-черными волосами, постриженными по немецкой моде, как у кавалеров Гольбейна или у ангелов Рафаэля. Глаза его, затененные длинными бархатистыми ресницами, были темного цвета, неуловимо переходящего от карего к фиолетовому, что обычно встречается только у арабов или сицилийцев. Кожа лица была матовая, той особой матовости, какая бывает у жителей северных областей Итальянского полуострова: казалось, это каррарский мрамор, напоенный и позолоченный римским солнцем. Его маленькие руки, белые, удлиненной формы, удивительно умело управляли тунисской лошадкой, на которой вместо седла была шкура леопарда с эмалевыми глазами и золотыми зубами и когтями, а вместо поводьев — легкий шелковый шнур. Одет он был просто, но элегантно: на нем был черный бархатный камзол, а из-под него выглядывала облегающая тело вишневая рубашка с белыми атласными прорезями; пояс был перехвачен золотым плетеным шнуром, на котором висела дага с рукояткой из цельного агата. Изящные ноги были обуты в высокие сафьяновые сапоги, а в них были заправлены бархатные штаны того же цвета, что и камзол. На голове он носил току из той же материи и того же цвета, что и верхняя одежда; к токе алмазным аграфом было прикреплено надо лбом вишневого цвета перо, конец которого грациозно падал на спину и развевался при малейшем дуновении ветра.
Введя на сцену новых персонажей, вернемся к тому действию, описание которого мы прервали на минуту; отныне оно будет разворачиваться энергичнее и решительнее, чем прежде.
Пока мы делали это описание, герцог Эммануил Филиберт, двое его спутников и четверо солдат продолжали продвигаться вперед, не ускоряя и не замедляя аллюр лошадей. И по мере того как они приближались к выступу леса, герцог становился все мрачнее, будто он заранее готовился к страшному зрелищу разорения, что должно было представиться его взору сразу за этим выступом. Но вдруг, как и предвидел Ивонне, оба отряда, оказавшись одновременно против этого выступа, столкнулись лицом к лицу, и — странное дело! — остановился более многочисленный, словно удивление, явно с примесью страха, пригвоздило его к месту.
Напротив, Эммануил Филиберт, не выказывая никаких чувств, которые его обуревали, ни дрожью в теле, ни жестом руки, ни изменением в лице, ехал прямо на графа Вальдека, ожидавшего его между своими сыновьями.
Не доезжая до них шагов на десять, Эммануил сделал знак оруженосцу, пажу и четверым солдатам, и те, по-военному четко повинуясь, остановились, а он продолжал двигаться вперед.
Когда он был уже на расстоянии вытянутой руки от виконта Вальдека, стоявшего как преграда между ним и графом, герцог остановился.
Трое дворян в знак приветствия поднесли руки к шлемам, однако бастард, чтобы быть готовым к любым неожиданностям, опустил при этом забрало.
На это тройное приветствие герцог ответил наклоном непокрытой головы.
Потом он обратился к виконту Вальдеку своим приятным голосом, гармонировавшим с его речью.
— Господин виконт Вальдек, — сказал он, — вы достойный и храбрый дворянин; я таких люблю, и таких любит мой августейший повелитель император Карл Пятый. Я уже давно хотел что-нибудь сделать для вас; четверть часа назад мне представился к этому удобный случай, и я за него ухватился. Я только что получил известие, что отряд в сто двадцать копий, который я именем его величества императора приказал набрать на левом берегу Рейна, уже размещен в Шпейере, и назначил вас командиром этого отряда.
— Монсеньер… — удивленно прошептал молодой человек, краснея от радости.
— Вот ваш патент, подписанный мной и скрепленный имперской печатью, — продолжал герцог, вытаскивая пергамент и подавая его виконту, — возьмите его и немедленно отправляйтесь, не задерживаясь ни на минуту… Вероятно, скоро опять начнутся военные действия, и вы и ваши люди мне понадобятся. Ступайте, господин виконт Вальдек, и докажите, что вы достойны чести, оказанной вам, и да хранит вас Бог!
Это была действительно большая честь, поэтому молодой человек без всяких возражений повиновался данному ему приказу отбыть немедленно, тут же простился с отцом и братом и, повернувшись к Эммануилу, сказал:
— Монсеньер, вы и в самом деле вершитель правосудия, как вас называют, и воздаете за добро и зло, доброму и злому… Вы доверяете мне, и я это доверие оправдаю. Прощайте, монсеньер.
И, взяв с места в галоп, молодой человек скрылся за выступом леса.
Эммануил Филиберт следил за ним взглядом, пока тот не скрылся.
Потом он повернулся к графу Вальдеку и строго посмотрел на него.
— Теперь перейдем к вам, господин граф! — сказал он.
— Монсеньер, — перебит его граф, — позвольте сначала поблагодарить ваше высочество за милость, которую вы только что даровали моему сыну.
— Милость, которую я даровал виконту Вальдеку, — холодно ответил Эммануил, — не стоит благодарности, потому что он ее заслужил… Но вы слышали, что он сказал: я вершитель правосудия и воздаю за добро и зло, доброму и злому. Отдайте мне вашу шпагу, господин граф!
Граф вздрогнул и тоном, ясно дававшим понять, что его не очень-то легко будет заставить подчиниться такому приказу, спросил:
— Я должен отдать вам свою шпагу? И за что же?
— Вы знаете мой приказ, запрещающий грабежи и мародерство под страхом палок или виселицы — солдатам и ареста или тюрьмы — командирам. Вы нарушили его, силой проникнув, несмотря на возражения вашего старшего сына, в замок Парк, и украли там золото, драгоценности и столовое серебро владелицы замка, обитавшей в нем… Вы мародер и грабитель. Отдайте мне вашу шпагу, господин граф!
Герцог произнес эти слова так, что изменение тона его голоса не было заметно никому, кроме оруженосца и пажа: они начали понимать, о чем идет речь, и обеспокоенно переглянулись.
Граф Вальдек побледнел, но, как мы уже сказали, чужому человеку было трудно догадаться по тону Эммануила Филиберта, до какой угрожающей степени дошли его гнев и жажда мщения.
— Шпагу, монсеньер? — переспросил Вальдек. — О, должно быть, за мной есть еще какой-то проступок!… Дворянин не отдает шпагу из-за таких мелочей!
И он постарался изобразить презрительный смех.
— Да, сударь, — ответил Эммануил, — вы совершили не только это, но, ради чести дворянства Германии, я промолчал о том, что вы сделали… Вы хотите, чтобы я сказал это? Хорошо, слушайте же. Когда вы украли золото, столовое серебро и драгоценности, вам этого показалось мало; вы привязали хозяйку к ножке кровати в ее спальне и сказали ей: "Если через два часа вы нам не вручите сумму в двести экю с розой, я сожгу ваш замок". Вы так сказали, и через два часа, поскольку несчастная женщина отдала вам все до последнего пистоля и не могла вам вручить требуемые двести экю, вы, несмотря на мольбы вашего старшего сына, подожгли ферму, чтобы у вашей жертвы осталось время подумать, прежде чем огонь перекинется на замок… Да посмотрите, вы не можете этого отрицать: пламя и дым видны отсюда. Вы поджигатель. Отдайте вашу шпагу, господин граф!
Граф скрипнул зубами; он начал понимать, насколько решительно настроен герцог, несмотря на спокойный, но твердый тон.
— Раз вам так хорошо известно начало, монсеньер, вы, конечно, знаете и конец? — спросил он.
— Вы правы, сударь, я знаю все, но я хотел избавить вас от петли, которую вы заслуживаете.
— Монсеньер! — угрожающе воскликнул Вальдек.
— Молчите, сударь, — сказал Эммануил Филиберт, — имейте уважение к вашему обвинителю и трепещите перед вашим судьей!… Конец? Сейчас я его расскажу. Увидев пламя, разгоравшееся все выше, ваш незаконный сын, у которого был ключ от комнаты, где находилась связанная пленница, вошел туда. Несчастная не кричала, видя, что огонь подбирается к ней: это была всего лишь смерть… Но когда к ней подошел ваш сын и схватил ее, она закричала, потому что это был позор! Виконт Вальдек услышал ее крик и прибежал. Он потребовал у брата вернуть свободу оскорбленной женщине. Но брат, вместо того чтобы внять призывам чести, бросил связанную пленницу на кровать и обнажил шпагу. Виконт Вальдек тоже вынул шпагу из ножен, решив с риском для жизни спасти женщину. Оба брага яростно бросились друг на друга, потому что между ними давно уже существовала взаимная ненависть. Тут в спальню вошли вы и, полагая, что ваши сыновья сражаются за обладание этой женщиной, сказали: "Самая красивая женщина в мире не стоит и капли пролитой солдатом крови. Долой оружие, дети! Я вас сейчас примирю". Услышав эти слова, братья опустили шпаги; вы прошли между ними; они следили за вами взглядом, не понимая, что вы хотите сделать. Вы подошли к кровати, где лежала связанная женщина, и, прежде чем кто-либо из них успел помешать вам, вытащили из ножен кинжал и вонзили ей в грудь… Не говорите мне, что это произошло не так, не говорите мне, что это неправда: ваш кинжал еще не высох и на руках у вас кровь. Вы убийца. Отдайте мне вашу шпагу, граф Вальдек!
— Сказать просто, монсеньер, — ответил граф, — но ни один Вальдек не отдаст вам свою шпагу, будь то коронованному государю или лишенному короны, как вы, даже и будь он один против семерых; тем более он не сделает этого, когда по правую руку от него — его сын, а за спиной — сорок солдат.
— Тогда, — сказал, чуть повысив голос Эммануил, — раз вы не хотите отдать мне ее по доброй воле, мне придется ее взять самому силой.
Ударом шпор он заставил лошадь сделать скачок и оказался рядом с графом Вальдеком.
Он настолько прижал графа, что тот не смог вытащить шпагу из ножен, а потому потянулся к кобуре, но не успел он ее расстегнуть, как Эммануил Филиберт опустил руку в свою кобуру, расстегнутую им заранее, и вытащил оттуда заряженный пистолет.
Он сделал это так молниеносно, что ни бастард, ни оруженосец, ни паж, ни сам граф Вальдек не сумели его остановить. Рука Эммануила Филиберта была спокойна и тверда, как рука правосудия; он выстрелил в упор, и порох обжег графу лицо, а пуля снесла ему череп.
Граф едва успел вскрикнуть; он выпустил из рук поводья, медленно опрокинулся на круп лошади, как атлет, которого невидимый борец тянул назад, потерял левое стремя, потом правое и тяжело упал на землю.
Судья свершил правосудие — граф был убит на месте.
Во время этой сцены бастард Вальдек, закованный в броню с головы до ног, стоял неподвижно, как конная статуя, но когда он услышал выстрел, когда он увидел, как падает его отец, из-под забрала его шлема раздался крик ярости.
Он обернулся к рейтарам, застывшим от ужаса.
— Ко мне, товарищи! — воскликнул он по-немецки. — Это не наш человек!.. Смерть ему! Смерть герцогу Эммануилу!
Но рейтары, ничего не отвечая, отрицательно качали головой.
— Ах, вот как! — закричал молодой человек, все больше и больше вскипая гневом. — Вы мне не повинуетесь! Вы отказываетесь отомстить за того, кто любил вас как своих детей, кто осыпал вас золотом, завалил вас по горло поживой!.. Ну что ж, раз вы неблагодарные трусы, я сам за него отомщу!
И он вытащил шпагу, чтобы броситься на герцога, но двое рейтаров подскочили к его лошади спереди и с двух сторон повисли на уздцах, а третий обхватил руками его самого.
Молодой человек яростно сопротивлялся, проклиная тех, кто его держал.
Герцог не без жалости наблюдал за этой сценой: он понимал отчаяние сына, видевшего, как отец мертвым свалился к его ногам.
— Ваше высочество, — обратились к нему рейтары, — что вы прикажете в отношении этого человека и что с ним делать?
— Оставьте его на свободе, — ответил герцог. — Он мне угрожал, и, если я его арестую, он может подумать, что я боюсь.
Рейтары отняли у бастарда шпагу и отпустили его.
Молодой человек пришпорил лошадь и одним скачком преодолел расстояние, отделявшее его от Эммануила Филиберта.
Тот ждал его, положив руку на рукоять второго пистолета.
— Эммануил Филиберт, герцог Савойский и принц Пьемонтский, — воскликнул бастард Вальдек, простирая к нему руку в знак угрозы, — ты, надеюсь, понимаешь, что с нынешнего дня нас разделяет смертельная вражда?.. Эммануил Филиберт, ты убил моего отца! (Он опустил забрало своего шлема.) Посмотри хорошенько мне в лицо, и каждый раз, когда ты снова его увидишь — ночью ли, днем ли, на празднике или на поле битвы, горе тебе, горе тебе, Эммануил Филиберт!
И, повернув лошадь, он ускакал галопом, потрясая рукой, как бы посылая проклятия герцогу и крича: "Горе тебе!"
— Негодяй! — воскликнул оруженосец Эммануила и пришпорил коня, чтобы броситься в погоню.
— Ни шагу дальше, Шанка-Ферро, — воскликнул герцог, сделав повелительный жест, — я запрещаю тебе!
Потом он повернулся к пажу, бледному как смерть и, казалось, готовому упасть с коня.
— Что с вами, Леоне? — сказал он, подъезжая и протягивая ему руку. — Вы так побледнели и дрожите, что вас можно принять за женщину!
— О, любимый мой повелитель, — прошептал паж, — скажите мне, что вы не ранены, или я умру…
— Дитя, — ответил герцог, — разве не хранит меня Господня десница?
После этого, повернувшись к рейтарам и показывая на труп графа Вальдека, он сказал:
— Друзья мои, похороните этого человека по-христиански, и пусть правосудие, которое я над ним свершил, покажет вам, что в моих глазах, как в глазах Господа, нет ни великих, ни малых.
И движением головы сделав знак Шанка-Ферро и Леоне, он вместе с ними поскакал к лагерю; на его лице не осталось даже следа волнения от ужасного происшествия, только привычная морщина чуть глубже, чем всегда, пролегла между бровями.
VII
ИСТОРИЯ И РОМАН
Пока наемники, невидимые свидетели сцены, о которой мы только что рассказали, бросая опечаленные взгляды на дымящиеся развалины замка Парк, возвращались в пещеру, где они собирались окончательно отредактировать устав сообщества: потеряв всякий смысл в настоящем, он мог, тем не менее, в будущем принести чудесные плоды зарождающемуся товариществу; пока рейтары, повинуясь приказу, а точнее, предложению по-христиански похоронить своего бывшего командира, рыли в одном из углов Эденского кладбища могилу тому, кто, получив на земле воздаяние за свои преступления, теперь уповал на Божье милосердие; пока, наконец, Эммануил Филиберт скакал между оруженосцем Шанка-Ферро и пажом Леоне к своему шатру, мы оставим все то, что было лишь прологом, мизансценой, оставим второстепенных героев нашей драмы во имя настоящего действия и главных героев, которые появились, наконец, на сцене, и, чтобы дать читателю как можно более полное представление об их характерах, а также их моральном и политическом состоянии, отважимся на экскурс (исторический для одних и романический для других) в область прошлого — великолепное царство поэта и историка, которое у них не может отнять ни одна революция.
Третий сын Карла III, прозванного Добрым, и Беатрисы Португальской, Эммануил Филиберт родился в замке Шамбери 8 июля 1528 года.
Он получил двойное имя Эммануил Филиберт; Эммануил — поскольку так звали его деда по материнской линии, короля Португалии, а Филиберт — потому что его отец принес обет святому Филиберту в Турню.
Он родился в четыре часа пополудни и появился таким слабым у врат своей жизни, что дыхание младенцу пришлось поддерживать, вдувая ему воздух в легкие, — это делала одна из служанок его матери; до трех лет головка ребенка клонилась на грудь, а ножки его не держали. Поэтому, когда гороскоп (а их в то время составляли любому ребенку из владетельной семьи) возвестил, что он будет великим воином и покроет Савойский дом большей славой, чем это сделал Петр, по прозвищу Малый Карл Великий, или Амедей V Великий, или Амедей VI, называемый обычно Зеленым Графом, мать не смогла удержать слез, а отец, благочестивый и смиренный государь, сказал с некоторым сомнением звездочету, сделавшему это предсказание:
— Да услышит вас Бог, мой друг!
Через свою мать, Беатрису Португальскую, самую красивую и исполненную совершенств принцессу того времени, Эммануил Филиберт был племянником Карла V, а через свою тетку, Луизу Савойскую, под подушкой которой коннетабль де Бурбон, по его утверждению, оставил ленту ордена Святого Духа, востребованную у него Франциском I, приходился кузеном этому королю.
Ему приходилась теткой и одухотворенная Маргарита Австрийская, которая оставила рукописный сборник песен, и поныне хранящийся в Национальной библиотеке Франции, та самая Маргарита, которая отправилась в Испанию, чтобы выйти замуж за инфанта, сына Фердинанда и Изабеллы, после того как она уже была помолвлена с французским дофином и английским королем, и, будучи застигнута бурей и думая, что она сейчас погибнет, сочинила прелюбопытную эпитафию самой себе:
Три раза Маргарита обручена была,
Увы, амуры, плачьте, — девицей умерла.
Что же до самого Эммануила Филиберта, то его неполноценность была настолько очевидна, что, невзирая на предсказания астролога, пророчившего ему блестящую военную карьеру, отец решил посвятить его Церкви. Поэтому в возрасте трех лет он был послан в Болонью, чтобы припасть к стопам папы Климента VII, только что короновавшего там дядю Эммануила, императора Карла V, по чьему представительству папа и обещал юному принцу кардинальскую шапку. Отсюда и прозвище Кардинальчик, которое он получил в детстве и ненавидел до бешенства.
Почему это прозвище так бесило его? Мы вскоре об этом скажем.
Читатель, вероятно, помнит ту служанку, а точнее, подругу матери герцога Савойского, которая находилась при ней в момент родов и своим дыханием поддерживала чуть было не остановившееся дыхание крошечного Эммануила Филиберта. За полгода до того она тоже родила сына, но тот появился на свет столь же сильным и здоровым, сколь слабым и хилым был ребенок герцогини. И тогда, видя, как эта женщина спасла ее сына, герцогиня сказала ей:
— Дорогая Лукреция, это теперь и твой ребенок, и мой, и я отдаю его тебе; возьми его, питай его своим молоком, как ты питала его своим дыханием, и я буду тебе обязана еще больше, чем он, ибо он будет тебе обязан только своей жизнью, а я — своим ребенком.
Лукреция приняла ребенка, чьей матерью ее сделали, как доверенную ей святыню. Казалось, то, что наследник герцога Савойского набирался здоровья и сил, должно было пойти в ущерб маленькому Ринальдо — таково было имя ее собственного сына, — поскольку доля молока, которую требовал маленький Эммануил, соответственно уменьшала долю его молочного брата.
Но Ринальдо в полгода был сильнее, чем бывает иной ребенок и в год. У природы свои чудеса: оба ребенка питались одними сосцами, но молоко не иссякало ни на минуту.
Видя эту живую гроздь — чужого ребенка, такого сильного, и своего, такого слабого, — герцогиня улыбалась.
Маленький Ринальдо, казалось, понимал, что его брат очень слаб, и сочувствовал ему. Часто капризное герцогское чадо требовало именно ту грудь, которую сосал другой ребенок, и тот, улыбаясь губами, испачканными молоком, уступал ему свое место.
Так оба ребенка выросли на руках Лукреции. В три года Ринальдо казался пятилетним, а Эммануил, как мы уже сказали, ходил с трудом и с усилием поднимал голову, всегда опущенную на грудь.
Вот тогда его и повезли в Болонью, где Климент VII пообещал ему кардинальскую шапку.
И было похоже, что это обещание принесло ему счастье, а прозвище Кардинальчик — помощь Божью, потому что с трех лет здоровье его стало крепче, а тело — сильнее.
Но кто в этом отношении достиг удивительных успехов, так это Ринальдо. В его руках самые крепкие игрушки разлетались на куски; он не мог коснуться ни одной из них, чтобы не сломать, поэтому кому-то пришла в голову мысль сделать ему их из стали, но он и их сломал, как если бы они были фаянсовые. Потому-то добрый герцог Карл, часто с удовольствием наблюдавший за играми детей, назвал товарища Эммануила Шанка-Ферро, что на пьемонтском наречии означало "Ломай-Железо".
Кличка за ним осталась.
Удивительно, но Шанка-Ферро пользовался своей чудесной силой только тогда, когда нужно было защитить Эммануила, которого он обожал, ничуть не завидуя ему, как это вполне могло бы случиться с другим ребенком.
Юный же Эммануил чрезвычайно завидовал силе своего молочного брата и с удовольствием поменял бы свою кличку Кардинальчик на его кличку Шанка-Ферро.
Тем не менее он, казалось, окреп, постоянно соприкасаясь с силой, превосходящей его собственную. Шанко-Ферро соизмерял свою силу с его, боролся с ним, бегал и, чтобы не лишать его надежды, часто позволял себя обогнать и побороть.
Они всем занимались вместе: верховой ездой, плаванием, фехтованием. Шанко-Ферро сначала превосходил юного принца во всех упражнениях, но было видно, что это явление временное и что если Эммануил пока и отстает, то он еще не сказал своего последнего слова.
Дети никогда не расставались и любили друг друга как братья; оба ревновали друг друга, как любовница ревновала бы своего возлюбленного, и все же настал момент, когда они с такой же любовью приняли третьего товарища, присоединившегося к их играм.
Однажды, когда двор герцога Карла III пребывал в Верчелли, потому что в Милане произошли какие-то беспорядки, молодые люди вместе с учителем верховой езды предприняли на лошадях долгую прогулку по левому берегу Сезии, миновали Новару и рискнули добраться почти до Гичино. Эммануил ехал первым; вдруг бык, пасшийся на огороженном лугу, вышиб и сломал ограду, в которую он был заключен, и напугал лошадь принца; та понеслась по лугам, перескакивая через ручейки, кусты и изгороди. Эммануил превосходно ездил верхом, и потому опасности никакой не было, но все же Шанка-Ферро бросился за ним вдогонку, перескакивая, как и он, через все препятствия, встречавшиеся ему на пути. Учитель же был осторожнее и отправился кругом, в объезд, что должно было привести его в то же место, куда направлялись его ученики.
Через полчаса бешеной скачки Шанка-Ферро, потеряв Эммануила из виду и боясь, что с ним случилось несчастье, стал громко звать его. Два раза ему никто не ответил; потом ему показалось, что со стороны деревни Оледжо доносится голос принца. Он поскакал в ту сторону и, двигаясь на голос Эммануила, нашел его на берегу ручья, впадающего в Тичино.
У ног Эммануила Филиберта лежала мертвая женщина, державшая в руках полумертвого мальчика лет четырех-пяти.
Лошадь, успокоившись, ощипывала молодые побеги, а ее хозяин старался привести ребенка в чувство. Что же касается женщины, то было видно, что тут все заботы напрасны.
Видимо, она умерла от усталости, нищеты и голода. Ребенок, по-видимому разделивший с ней все несчастья и горести, умирал от истощения.
Селение Оледжо было всего в одной миле от этого места. Шанка-Ферро пустил лошадь галопом и скрылся в направлении деревни.
Эммануил поскакал бы туда и сам, вместо того чтобы посылать брата, но ребенок уцепился за него, как бы чувствуя, что ускользающая жизнь вернется ему только из этих рук, и ни за что его не отпускал.
Бедный малыш подтащил его к женщине и с тем раздирающим душу выражением, с каким обычно говорят дети, не осознавшие своего несчастья, повторял:
— Разбуди же маму! Разбуди же маму!
Эммануил плакал. Что он мог сделать, сам еще ребенок, первый раз столкнувшийся со смертью? Только плакать.
Скоро появился Шанка-Ферро: он привез хлеба и фляжку астийского вина.
Попробовали влить несколько капель в рот матери, но напрасно: это был уже только труп.
Ребенок же, продолжая плакать, потому что мать не хотела просыпаться, поел, попил и немного пришел в себя.
В это время явились крестьяне: их предупредил о случившемся Шанка-Ферро. Они встретили учителя верховой езды, совершенно испуганного потерей учеников, и привели его туда, куда указал Шанка-Ферро.
Таким образом крестьяне уже знали, что имеют дело с юным герцогом Савойским, и, поскольку герцог Карл был очень любим поддаными, они тут же предложили сделать для несчастного сироты и его покойной матери все, что угодно Эммануилу.
Эммануил выбрал среди крестьян женщину, показавшуюся ему доброй и жалостливой; он отдал ей деньги, что были с собой у него и у Шанка-Ферро, записал ее имя и попросил ее проследить за похоронами матери и взять на себя неотложные заботы о ребенке.
Потом учитель верховой езды настоял, чтобы его ученики вернулись в Верчелли, поскольку уже темнело. Маленький сирота расплакался, ибо он ни за что не хотел расставаться со своим добрым другом Эммануилом: он уже знал его имя, но не знал титула. Эммануил обещал вернуться, чтобы повидать его; обещание немного успокоило ребенка, но когда его уводили, он продолжал протягивать ручонки к спасителю, которого ему привел случай.
И действительно, если случай, точнее Провидение, погнало бы помощь ребенку всего на два часа позже, его бы нашли мертвым рядом с матерью.
Хотя учитель верховой езды очень спешил, его ученики вернулись в замок Верчелли уже поздним вечером. Там обрело беспокойство и слуги были разосланы на поиски во все стороны. Герцогиня собиралась выбранить мальчиков, но Эммануил своим нежным голосом рассказал происшедшую с ними историю, которая произвела тяжелое и грустное впечатление на его юную душу. Когда рассказ был окончен, речи не могло быть о том, чтобы бранить детей, скорее следовало их хвалить; герцогиня, разделяя интерес своего сына к ребенку, объявила, что послезавтра, то есть как только его мать будет похоронена, она сама поедет его навестить.
И в самом деле, через день они отправились в деревню Оледжо: герцогиня в носилках, а оба мальчика верхом.
Доехав до деревни, Эммануил не сдержался и дал шпоры лошади, чтобы как можно скорее увидеть сироту.
Для несчастного ребенка его приезд был огромной радостью. Малыша с трудом оторвали от тела матери; он не верил, что она умерла и не переставал кричать:
— Не закапывайте ее в землю, не закапывайте ее в землю! Я обещаю, что она проснется!
С той минуты как тело вынесли из дому, его вынуждены были запереть: он хотел бежать к матери.
При виде своего спасителя он немного успокоился. Эммануил сказал, что его мать хочет видеть малыша и сейчас придет.
— О, у тебя тоже есть мама? Я буду молить Бога, чтобы она не уснула навсегда! — вскричал сирота.
Для крестьян прибытие герцогини в их дом, о чем их известил Эммануил, было большим событием. Они побежали навстречу ей и по пути говорили всем, куда идут; вся деревня бросилась за ними следом.
Наконец показался герцогский кортеж; впереди скакал Шанка-Ферро, учтиво служивший герцогине конюшим.
Эммануил представил матери своего подопечного. Герцогиня спросила у ребенка то, о чем Эммануил забыл спросить: как его зовут и кто была его мать.
Ребенок сказал, что его зовут Леоне, а мать его звали Леоной, но никаких подробностей не сообщил, а на все вопросы, что ему задавали, отвечал: "Не знаю".
И тем не менее — странное дело! — чувствовалось, что, отвечая так, он притворяется и под этим кроется какая-то тайна.
Несомненно, его мать, умирая, запретила ему отвечать что-нибудь другое: только последний запрет умирающей мог произвести подобное впечатление на четырехлетнего ребенка.
Тогда герцогиня с чисто женским любопытством принялась изучать сироту. Хотя он был одет в грубую одежду, руки у него были тонкие и белые; по этим рукам было видно, что о ребенке заботилась мать, причем мать эта была женщина утонченная и благовоспитанная. А говорил ребенок так, как говорят в семьях аристократов, и в свои четыре года свободно переходил с итальянского на французский.
Герцогиня попросила показать ей одежду матери — это была одежда крестьянки.
Но крестьяне, которые обряжали ее, сказали, что никогда в жизни не видели кожи белее, ручки — нежнее, а ножки — меньше и изящнее.
Впрочем, еще одна подробность указывала, к какому классу общества, должно быть, принадлежала несчастная женщина: на ней была крестьянская одежда — мольтоновая юбка и корсаж из грубой шерстяной ткани, грубые башмаки, но чулки были шелковые.
Без сомнения, она бежала, переодетая в чужое платье, а из своей прежней одежды оставила только шелковые чулки, и они-то и выдали ее после смерти.
Герцогиня снова обратила свое внимание на маленького Леоне, принялась осторожно расспрашивать его, но он все время отвечал: "Не знаю". Ничего другого герцогиня от него не добилась. Она еще раз, и более настойчиво, чем Эммануил, попросила славных крестьян, у которых он остался жить, позаботиться о мальчике, дала им денег вдвое больше того, что в прошлый раз дал Эммануил, и поручила разузнать в округе о матери и ребенке, обещая за это хорошее вознаграждение.
Маленький Леоне ни за что не хотел расставаться с Эммануилом, да и сам Эммануил чуть не попросил разрешения взять его с собой, потому что ребенок вызывал в нем подлинную жалость. Он пообещал Леоне навестить его как можно скорее, и даже герцогиня собиралась приехать еще раз.
К несчастью, как раз в это время произошли события, заставившие герцогиню нарушить слово.
Франциск I в третий раз объявил войну императору Карлу V из-за герцогства Миланского, наследником которого он себя считал через Валентину Висконти, жену Людовика Орлеанского, брата Карла VI.
В первый раз Франциск I выиграл битву при Мариньяно.
Во второй раз он проиграл битву при Павии.
После Мадридского договора, после тюрьмы в Толедо и и особенности после того, как он дал слово, можно было бы надеяться, что Франциск I отказался от всех притязаний на это злополучное герцогство, которое к тому же, гели бы он его получил, сделало бы его вассалом Империи. Но нет, наоборот, он ждал только предлога, чтобы опять потребовать его, и ухватился за первый же представившийся ему случай.
Это действительно был удачный случай, но будь он и неудачный, Франциск I все равно воспользовался бы им.
Известно, что Франциск I был не очень-то щепетилен и не признавал всяких глупейших тонкостей, что связывают по рукам и ногам недалекую породу, называемую порядочными людьми.
Впрочем, расскажем о представившемся ему случае.
Мария Франческо Сфорца, сын Людовико Моро, правил в Милане, но только под полным опекунством императора, у которого он купил свое герцогство 23 декабря 1529 года, обязавшись выплатить четыреста тысяч дукатов в первый год правления и еще пятьсот тысяч — в течение следующих десяти лет.
Чтобы обеспечить получение этих денег, замки Милана, Комо и Павии остались занятыми имперскими войсками.
Случилось так, что в 1534 году Франциск I сделал своим представителем при дворе герцога Сфорца некоего миланского дворянина, обязанного ему, Франциску I, всем своим состоянием.
Этого дворянина звали Франческо Маравилья.
Разбогатев при французском дворе, Франческо Маравилья был горд и счастлив вернуться в свой родной город со всей пышностью, приличествующей послу.
Он привез с собой жену и трехлетнюю дочь, а в Париже оставил двенадцатилетнего сына Одоардо пажом при Франциске I.
Чем досадил этот посол императору? Почему Карл V предложил герцогу Сфорца отделаться от Маравильи при первом же удобном случае? Об этом никто ничего не знает, а узнать можно было бы только в том случае, если бы нашлась тайная переписка императора с герцогом Миланским, как нашлась его тайная переписка с Козимо Медичи. Известно только, что слуги Маравильи поссорились с местными жителями и, по несчастью, в этой ссоре убили двух подданных герцога Сфорца; в результате тот приказал арестовать Маравилью и препроводить его в миланский замок, занятый, как мы уже говорили, имперским гарнизоном.
Что сталось с Маравильей? Об этом никто никогда так и не узнал ничего определенного. Одни говорили, что он был отравлен; другие — что он оступился и упал в подземную темницу, о существовании которой его не сочли нужным предупредить. И наконец, самый распространенный и заслуживающий доверия слух гласил, что посол был казнен, а точнее — убит в тюрьме. Единственно, что было достоверно: он исчез, и почти в одно время с ним исчезли его жена и дочь.
Все эти события произошли буквально за несколько дней до того, как Эммануил Филиберт нашел ребенка и мертвую женщину на берегу ручья. И эти события оказали роковое влияние на судьбу герцога Карла.
Франциск I не упустил этого случая.
И чашу весов на сторону войны склонили не жалобы мальчика, оставленного при его дворе и умоляющего отплатить за смерть отца, не королевское величие, оскорбленное в лице его посла, и, наконец, не международное право, нарушенное убийством, — нет, все решила жажда отмщения, тлевшая в сердце Франциска I со времени поражения под Павией и плена в Толедо.
Третий итальянский поход стал делом решенным.
Момент был выбран удачно. Карл V воевал в Африке со знаменитым Хайраддином, по прозвищу Рыжебородый.
Но, чтобы осуществить это вторжение, нужно было пройти через Савойю. А Савойей правил Карл Добрый, отец Эммануила Филиберта, дядя Франциска I и свояк Карла V.
Чью сторону он примет? Свояка? Племянника? Это было очень важно знать.
Впрочем, можно было и догадаться: герцог Савойский с гораздо большей вероятностью станет союзником Империи и противником Франции.
И в самом деле: герцог Савойский в залог верности послал своего старшего сына Людовика, принца Пьемонтского, ко двору Карла V; он отказался принять от Франциска I ленту ордена Святого Михаила, регулярный полк и пенсион в двенадцать тысяч экю; занял земли маркизата Салуццо, удела, находящегося в ленной зависимости от Дофине; отказался дать французской короне клятву верности за Фосиньи; выразил свою радость в письмах императору по поводу поражения Франциска I при Павии; и, наконец, одолжил денег коннетаблю де Бурбону, когда тот проезжал через его земли, чтобы принять участие в осаде Рима, где его и убил Бенвенуто Челлини.
И все же нужно было проверить, насколько обоснованы эти догадки.
С этой целью Франциск I послал в Турин Гийома Пуайе, президента Парижского парламента. Ему поручалось передать герцогу Карлу III два требования:
во-первых, обеспечить французской армии проход через Савойю и Пьемонт;
во-вторых, передать французам в качестве опорных пунктов Монмельян, Авильяну, Кивассо и Верчелли.
Взамен герцогу Карлу предлагались земли во Франции и женитьба старшего сына герцога, принца Людовика, старшего брата Эммануила Филиберта, на Маргарите, дочери короля.
Чтобы обсудить все эти дела с Гийомом Пуайе, президентом Парижского парламента, Карл III отправил в Турин Порпорато, президента пьемонтского парламента. Ему было дано указание согласиться на проход французских войск через Савойю и Пьемонт, но, что касается передачи четырех крепостей в руки французов, то решение этого вопроса следовало оттягивать насколько возможно, а затем, если Пуайе будет все же настаивать, решительно отказать.
Между двумя полномочными представителями разгорелась дискуссия, и в конце концов, не зная, что возразить па доводы Порпорато, Пуайе воскликнул:
— Будет так, потому что этого хочет король!
— Прошу прощения, — ответил Порпорато, — но в своде законов Пьемонта этого закона нет.
И, поднявшись, он вышел, предоставив будущее всемогущей воле короля Франции и премудрости Всевышнего.
Переговоры были прерваны, и в феврале 1535 года, когда герцог Карл находился в своем замке Верчелли, пред мим предстал герольд и от имени короля Франциска I объявил ему войну.
Герцог выслушал его спокойно, затем, когда тот дочитал воинственное послание, сказал ровным голосом:
— Друг мой, с моей стороны король Франции получал только услуги, и я думал, что, будучи его союзником, другом, слугой и дядей, заслуживаю совсем другого обращения. Я сделал все возможное, чтобы жить с ним в добром согласии, и ничем не пренебрег, чтобы объяснить ему, что он напрасно на меня гневается. Я хорошо знаю, что мои с илы не идут ни в какое сравнение с его силами; но, поскольку он никак не хочет слушать никаких доводов и, кажется, твердо решил завладеть моими землями, скажите ему, что он найдет меня на их границе и что с помощью друзей и союзников я надеюсь защитить и сохранить свою страну. Впрочем, король, мой племянник, знает мой девиз: "Тот, с кем Бог, не нуждается ни в чем".
И он отослал герольда, подарив ему богатую одежду и пару новых перчаток, набитых золотыми.
После подобного ответа оставалось только готовиться к войне.
Прежде всего Карл решил отправить в безопасное место, в ниццскую крепость, жену и сына.
Отъезд из Верчелли в Ниццу был назначен на самое ближайшее время.
Тогда Эммануил Филиберт рассудил, что настало время обратиться к матери с просьбой, которую он до этого откладывал: то есть забрать Леоне из крестьянского дома (куда его, впрочем, поместили временно, как было решено сразу), чтобы он рос, как и Шанка-Ферро, рядом с юным принцем.
Герцогиня Беатриса, как мы уже говорили, была женщина рассудительная. Все, что она успела разглядеть в сироте: тонкие черты, изящные руки, правильную речь, — заставляло ее думать, что грубая одежда матери и ребенка таит в себе какую-то страшную тайну. Кроме того, герцогиня была глубоко верующей: в нападении быка на Эммануила они увидела руку Провидения, поскольку единственным следствием этого нападения стало то, что юный принц нашел мертвую женщину и полумертвого ребенка. Она подумала, что в дни, когда все отвернулись от ее семьи, когда несчастье приблизилось к ее дому и когда ангел черных дней указал ее мужу, ей и ее сыну неведомый путь изгнания, не время отталкивать сироту, потому что, став взрослым, он, может быть, станет однажды настоящим другом. Она вспомнила, как на пороге отчаявшегося слепого Товита появился Божий посланец, чтобы позже, руками сына, вернуть ему радость и свет, и не только не воспротивилась желанию принца, но, напротив, пошла ему навстречу и, с разрешения герцога, позволила перевезти сироту в Верчелли.
Из Верчелли в Ниццу Леоне должен был ехать вместе с обоими мальчиками.
Эммануил едва дождался следующего утра, чтобы поехать с этой новостью к Леоне. На рассвете он спустился в конюшни, сам оседлал свою берберскую лошадку и умчался в Оледжо, предоставив Шанка-Ферро улаживать все остальное.
Леоне он нашел очень грустным. Бедный сирота слышал, что его богатых и могущественных покровителей постигло несчастье. Говорили, что двор переезжает в Ниццу, а Леоне даже названия такого никогда не слышал, и поэтому, когда прискакал Эммануил, запыхавшийся и радостный, ребенок плакал так, как будто второй раз потерял мать.
Дети обычно видят ангелов сквозь слезы. Мы не преувеличим, если скажем, что Эммануил показался залитому слезами Леоне ангелом.
В нескольких словах все было сказано, объяснено, условлено, и слезы сменились улыбкой. Есть в жизни человека возраст — и он самый счастливый, — когда слезы и улыбка соприкасаются так же, как ночь и рассвет.
Через два часа после Эммануила явился Шанка-Ферро с первым конюшим принца и двумя берейторами; на поводу они вели собственного иноходца герцогини. Крестьянам, у которых Леоне прожил полтора месяца, дали изрядную сумму денег. Мальчик опять заплакал, обнимая их, но это были больше слезы радости, чем горя. Эммануил помог ему сесть на лошадь и, чтобы с его любимцем ничего не случилось, сам повел иноходца в поводу.
Вместо того чтобы ревновать Эммануила к этой новой дружбе, Шанка-Ферро скакал впереди и разведывал путь, как настоящий командир, возвращался и улыбался другу своего друга той детской улыбкой, что обнажает не только зубы, но и душу.
Так они и прибыли в Верчелли. Герцогиня и герцог поцеловали Леоне, и Леоне стал членом семьи.
На следующий день семья уехала в Ниццу, куда и прибыла без приключений.
Назад: Александр Дюма Паж герцога Савойского
Дальше: VIII ОРУЖЕНОСЕЦ И ПАЖ


