Книга: А. Дюма Собрание сочинений. Том 16. Графиня Солсбери. Эдуард III
Назад: Часть первая
Дальше: Часть вторая
IX
На Пасху армия снова пришла в движение. Граф Дерби объединил рыцарей и лучников, чтобы идти на Ла-Реоль, чего Готье де Мони ждал, как мы помним, с большим нетерпением.
Пробыв дня четыре в Бержераке, англичане с тысячью рыцарей и двумя тысячами лучников осадили замок Сен-Базиль на Гаронне.
Защитники замка (его должны были бы оборонять сеньоры Гаскони, плененные графом Дерби) не оказали сопротивления и сдались без боя.
Граф двинулся дальше, на Эгюйон. Но по пути был другой замок, Ларош-Милон, которым англичане хотели овладеть.
К несчастью для них, в Ларош-Милоне находились доблестные солдаты: они не сдались, подобно защитникам Сен-Базиля, и энергично отбили первый приступ. Для этого они поднялись на крепостные стены и стали забрасывать осаждавших камнями, бревнами, железными прутьями, негашеной известью.
Так прошел первый день штурма; к вечеру англичане потеряли много солдат, которые слишком дерзко шли вперед и хотели преодолеть оборону.
Видя все это, граф Дерби велел своему войску отойти, а крестьянам приказал натаскать огромное количество бревен и вязанок хвороста; ими забросали рвы и даже присыпали их землей.
Когда часть рвов засыпали и можно было безопасно подобраться к самому подножию стен, граф послал вперед три сотни лучников и две сотни "разбойников"-пехотинцев, получивших свое прозвище от легких кольчуг, которые тогда назывались "бригандинами". Пока эти "разбойники", вооруженные кольями и мотыгами, проламывали стену, лучники так размеренно и метко стреляли, что никто из осажденных не смел подняться на защиту стен.
Так прошла большая часть дня, а к вечеру "разбойники" пробили в стене брешь, столь большую, чтобы в нее могли фронтом пройти десять человек.
Тогда защитники крепости пришли в ужас и укрылись в церкви. Среди них нашлись и такие, что бежали через задние городские ворота.
Крепость больше не могла держаться. Она была взята и разграблена, а все, кто находился в ней, убиты, кроме людей, спасавшихся в церкви. Но граф Дерби разрешил последним выйти, пообещав сохранить им жизнь.
Граф пополнил гарнизон замка Ларош-Милон свежими силами, назначив капитанами Вилли и Роберта Эскотов; после этого он отправился осаждать замок Мон-Сегюр, который оборонял рыцарь по имени Батфоль; жители замка относились к нему с величайшим доверием, ибо сюда его прислал граф Лилльский, считавший Батфоля одним из самых храбрых командиров.
Поэтому граф Дерби сразу понял, что этот город будет держаться дольше других.
Вследствие этого он расположил армию в виду города и стоял так две недели.
Каждый день англичане шли на приступ, но атаки не давали никакого результата.
Посему пришлось доставить из Бордо и Бержерака осадные орудия, подобные тем, которые применяли гасконцы при штурме Обероша; одно из них стало роковым для гонца Фрэнка Холла и Алена де Финфруада.
После доставки орудий началась более серьезная осада.
Орудия обрушивали на город град камней, уничтожавших стены, крыши, дома.
Но тем не менее граф Дерби каждый день извещал осажденных, что если они сдадутся, то станут его друзьями, а если не покорятся королю Англии, то пусть не надеются ни на милость, ни на пощаду.
Защитники Мон-Сегюра, прекрасно понимавшие, чем кончится осада, часто собирались на совет и решили спросить своего капитана, как быть дальше, откровенно признавшись, что спасти их может только капитуляция.
Гуго де Батфоль грубо выбранил их за подобные мысли и обвинил в напрасных страхах, прибавив, что пока город защищен достаточно прочно, чтобы выдерживать осаду полгода.
Те, кому он это сказал, ничего не ответили и ушли.
А Гуго вернулся к себе.
Вечером, когда он вышел проверять дозоры на крепостных стенах, на него набросилось шестеро мужчин и, крепко завязав ему рот, потащили куда-то, подхватив под руки и под ноги.
Гуго пытался отбиваться, но тщетно.
Его принесли в монастырь, где заперли в келье, и он, ничего не понимая о причинах этого насильственного заточения, услышал, как загремели наружные засовы.
Примерно через час чьи-то шаги замерли перед дверью, и вскоре она распахнулась, дав проход двенадцати горожанам.
— Мы пришли к вам с предложением, мессир, — сказал один из них.
— Слушаю вас.
— Знаете ли вы, почему мы схватили вас?
— Потому что я отказался сдать город.
— Правильно, и еще потому, что мы, чьим женам, отцам и детям грозит гибель, если город будет взят, предпочитаем сдать его, чем потерять своих близких.
Гуго молчал.
— Так вот, поскольку нам известно, что вы честный и отважный рыцарь, — продолжал тот, кто первым взял слово, — мы подумали, что вы сдадите крепость только под угрозой силы, и решили заставить вас сделать это.
— И просчитались.
— Значит, вы отказываетесь?
— Отказываюсь. Я нахожусь здесь по приказу графа Лилльского, а граф именем короля Франции назначил меня капитаном. Сдавайте город, если вам так угодно, ибо я не могу защитить себя. Но я этого делать не стану.
— Завтра мы придем посоветоваться с вами в последний раз, — сказал горожанин.
И удалился вместе с остальными.
На следующий день двенадцать горожан пришли снова.
— Все ли вы обдумали? — спросил тот, кто вчера говорил первым.
— Да.
— И что же вы решили?
— То, что уже решил вчера.
Горожане переглянулись.
— Но город не продержится и недели.
— Мой долг — погибнуть здесь.
— Ваш долг — спасти жизни тех людей, что вверили ее вам.
— Тогда оставьте меня здесь и сдавайте город.
— Ну, а если мы нашли способ все уладить?
— Давайте обсудим.
— Вы подчиняетесь графу Лилльскому?
— Да.
— Прекрасно! Мы попросим графа Дерби на месяц прервать осаду, пообещав, что сдадимся, если за это время не получим помощи.
— Он откажет.
— Мы можем попытаться.
— Попробуйте.
— Тем временем мы попросим помощи у графа Лилльского, а если она не придет, вы будете вольны делать все, к чему вас принудят обстоятельства.
— Я согласен на это, — ответил мессир де Батфоль.
— Тогда пойдемте с нами, мессир.
— Почему?
— Потому что обсуждать эти условия с противником должны вы.
— Я иду с вами, господа, — ответил рыцарь.
Они отправились на крепостные стены, и сир де Батфоль приказал сообщить Готье де Мони, что желает с ним говорить.
Готье находился близко и сразу же отозвался на просьбу рыцаря.
— Мессир, вас не должно удивлять, что мы так долго выдерживали осаду: ведь мы поклялись в верности королю Франции, — сказал сир де Батфоль англичанину. — Но король не прислал никого, кто помог бы нам сражаться с вами, поэтому просим на месяц снять осаду и обязуемся не вести против вас боевых действий. За это время либо король Франции, либо герцог Нормандский придут нам на помощь. Если они не придут, то ровно через месяц, день в день, мы сдадимся. Принимаете ли вы эти условия?
— Я не могу ничего решать без согласия графа Дерби, — ответил Готье. — Но я немедленно поговорю с ним и постараюсь сделать все возможное, чтобы он принял ваши предложения.
Сказав это, Готье отъехал от крепостных стен, отправился к графу Дерби и рассказал ему обо всем.
Граф ненадолго задумался.
— Я согласен с тем, что предлагает мессир де Батфоль, но при одном условии, — сказал он.
— Каком именно?
— В знак соблюдения этих условий он выдаст нам в качестве заложников двенадцать знатных людей города. Но тщательно проследите за тем, — прибавил граф, — чтобы были взяты люди богатые, и заставьте горожан обещать, что в этот месяц они не будут восстанавливать разрушенное при осаде, и добейтесь того, чтобы мы могли за деньги закупать в городе продукты, если они нам потребуются.
— Таково было и мое намерение, — сказал мессир Готье де Мони.
И он покинул графа, чтобы отправиться к рыцарю, по-прежнему ждавшему его на крепостной стене.
— Граф Дерби согласен на ваши требования, — объявил Готье де Мони, — но только если вы отдадите ему в заложники двенадцать горожан.
— Мы готовы, — хором ответили те, кто требовал от Гуго сдачи Мон-Сегюра.
Итак, условия были приняты, и вечером двенадцать заложников уехали в Бордо.
Но граф Дерби не вошел в город; он продолжал совершать набеги в окрестностях, грабя и захватывая большую добычу, ибо край этот был очень богат.
Вот почему случилось так, что он оказался поблизости от Эгюйона. А владелец замка Эпойон вовсе не был доблестным рыцарем, ибо, едва узнав о появлении графа Дерби, и даже прежде, чем тот осадил город, он примчался к англичанину и вручил ему ключи от города, умоляя лишь о том, чтобы граф пощадил его, не разграбил города и замка; само собой разумеется, граф Дерби легко с этим согласился.
Но слух о добровольной сдаче быстро распространился и покрыл великим позором владельца Эгюйона, чье имя, к счастью, история не сохранила.
Особенно были разгневаны подобной трусостью жители Тулузы; они вызвали хозяина Эгюйона к себе, не сообщив, зачем требуют его приезда; когда он прибыл в город, они, обвинив его в предательстве, устроили над ним суд и, к радости тулузцев, повесили.
Город Эгюйон, расположенный при слиянии двух судоходных рек Ло и Гаронна, стал для графа Дерби такой славной добычей, что англичанин, подновив и восстановив в городе все, что требовалось, превратил его в свой сторожевой форпост, как рассказывает Фруассар, и доверил его отважному Жану де Гомори, когда снова двинулся на осаду Ла-Реоля, правда после того как, верный себе, по пути осадил и захватил, перебив весь его гарнизон, замок, который назывался Сегре.
X
Итак, граф Дерби осадил Ла-Реоль.
— Вот город, который мы должны взять, — сказал Готье де Мони, когда перед ними показались крепостные стены. — Ведь в нем мне надо отвоевать могилу моего отца, и для меня это столь же священный крестовый поход, как и для короля Людовика Святого.
— Мы возьмем его, как взяли все прочие города, — ответил граф Дерби, кому удачный поход придавал все больше смелости. — Вы обретете могилу вашего отца, мессир, но прежде должны оказать еще одну услугу нашему милостивому королю Эдуарду.
— В чем она состоит?
— В том, чтобы напомнить рыцарю Гуго де Батфолю, что срок перемирия, коего он у нас просил, истек и город принадлежит нам, если только к нему не подоспела помощь от короля Франции или герцога Нормандского.
— Хорошо, мессир, — сказал Готье де Мони и отправился в Мон-Сегюр.
Ожидаемые подкрепления не подошли.
Поэтому Гуго де Батфоль, раб слова, данного им графу Дерби, и раб клятвы, данной графу Лилльскому, сдал Готье де Мони город, капитаном которого был, и стал подданным короля Англии.
Тем временем осада Ла-Реоля продолжалась.
Англичане, два месяца пытавшиеся взять город, построили из дерева две огромные башни и каждую из них поставили на четыре колеса.
Обращенные на город стороны башен, обитые вымоченной в воде кожей, защищали от огня и стрел.
С помощью множества людей англичанам удалось, предварительно засыпав рвы, подкатить башни совсем близко к стенам города.
Башни были трехъярусные, на каждом ярусе помещалось сто лучников, и, как только их движущаяся крепость оказалась на месте, они начали безопасно для себя вести непрерывный обстрел города.
На крепостных стенах лишь изредка появлялся какой-нибудь солдат. Да и то он должен был надевать тяжелые доспехи, чтобы выдерживать град стрел.
Между башнями разместились те же самые люди, что мотыгами да кольями пробили брешь в стенах Мон-Сегюра, и здесь, как всегда, творили чудеса: защищенные непрерывной стрельбой лучников, они не только работали без всяких препятствий, но и, подобно Эпаминонду, могли бы сказать, что трудятся в тени.
Когда стало ясно, что город скоро будет взят, перепуганные горожане сбежались к одним из ворот, желая поговорить либо с сеньором де Мони, либо с другим командиром английской армии.
Мони и Стэнфорт явились в город, жители которого готовы были сдаться, если им даруют жизнь и пощадят их добро.
Выслушав эти предложения, оба сеньора пришли к графу Дерби и сообщили ему о них.
Но был еще капитан города; он так же не хотел капитулировать, как и Гуго де Батфоль не желал сдавать Мон-Сегюр. Этого капитана звали Агос де Бо.
Узнав о замысле жителей Ла-Реоля, он не захотел им подчиниться; укрывшись в крепости, Агос де Бо призвал к себе всех боевых товарищей, потом, пока шли переговоры горожан с англичанами, приказав принести и спрятать в замке огромное количество продуктов и вина, велел закрыть ворота, поклявшись, что не сдастся никогда.
Готье де Мони и сэр Стэнфорт пришли напомнить графу Дерби, что жители Ла-Реоля хотят капитулировать, но того не желает капитан, запершийся в замке.
— Поэтому снова отправляйтесь к ним, — сказал граф, — выясните, по-прежнему ли они хотят сдаться, несмотря на отказ сира де Бо.
Оба рыцаря опять приехали в Ла-Реоль, и им вновь было сказано, что капитан может поступать как пожелает, а горожане вольны сдаться, если этого хотят; что они не отказываются от своей цели и графу лишь остается прибыть в город, чтобы принять изъявление их покорности.
— Давайте сначала возьмем город, — предложил граф Дерби, — а затем овладеем замком.
Поэтому англичане вошли в Ла-Реоль и были с почетом встречены горожанами, которые поклялись своей жизнью не оказывать поддержки укрывшимся в крепости; впрочем, крепость могла обороняться и без них, потому что была построена сарацинами и считалась неприступной.
Овладев городом, граф Дерби окружил замок и приказал бомбардировать его камнями, хотя и безуспешно, ибо стены были прочные, а в замке находились смелые воины и мощные метательные орудия.
Когда мессир Готье де Мони и граф Дерби поняли, что, атакуя таким образом замок, напрасно теряют время, они спросили саперов, можно ли осуществить подкоп под крепость Ла-Реоля. Получив утвердительный ответ, они взялись за дело.
Но подобный способ штурмовать замок явно требовал многих дней работы. Поэтому Готье де Мони пришел к графу Дерби и сказал:
— Мессир, вы знаете, что в этом городе я должен исполнить долг благочестия, и, пока я вам не нужен, постараюсь, наконец, отыскать могилу моего отца.
— Идите, мессир, и да поможет вам Бог! — ответил граф.
Тогда Готье де Мони объявил всему городу, что даст сто экю вознаграждения тому, кто укажет ему могилу отца.
Вечером какой-то неизвестный попросил Готье де Мони о встрече.
Готье приказал впустить его.
Это был мужчина примерно лет пятидесяти — пятидесяти пяти.
— Мессир, вы желаете знать, где могила вашего отца? — спросил незнакомец, пристально глядя на Готье.
— Да.
— А есть у вас какие-либо ее приметы?
— Есть. Сын его убийцы указал мне кладбище при монастыре францисканцев, сказав, что на могиле отца начертано слово "Orate". Но я искал напрасно и могилы с такой надписью не нашел.
— Однако она существует.
— И вы мне покажете ее?
— Да.
— Благодарю вас, друг мой. Вам известно, какое вознаграждение я назначил?
— Да, но мне ничего не надо.
— Почему?
— Потому что я исполняю долг, а не заключаю сделку.
— Какую же выгоду вы преследуете, оказывая мне сию услугу?
— Уже год, как умер мой брат. Он долго был на службе у Жана де Леви и…
Старик запнулся.
— Продолжайте, — попросил Готье де Мони.
— …ив тот вечер, когда мессир Жан де Леви поджидал мессира де Мони, мой брат был вместе с де Леви…
— Значит, выходит… — взволнованно перебил его мессир Готье.
— Выходит, мой брат принял слишком близко к сердцу месть своего господина, и перед смертью, то есть спустя двадцать три года после того события, это преступление все еще мучило его совесть. Он скончался, заклиная меня молиться за него, и я полагаю, что лучшая молитва, какую я могу обратить к Господу, это отдать сыну жертвы труп его отца.
— Хорошо, — прошептал Готье. — Но почему латинское слово, которое должно было помочь мне опознать могилу, оказалось стертым?
— Потому, мессир, что вид этого слова заставлял меня страдать, и я посчитал, что, стерев его с мрамора, где оно было начертано, заодно сотру память об этом преступлении. Но воспоминание о нем запечатлелось нестираемыми буквами, и, хотя я неповинен в убийстве, страдания моего несчастного брата были столь мучительны, что казалось, будто совести недостаточно, чтобы терзать его, а когда он умрет, эти угрызения совести унаследую я. Вот почему, мессир, я ничего не хочу у вас брать, ибо надеюсь, что все сделанное мной сегодня хоть немного смягчит гнев Небес.
— Ну что ж! Пойдемте, мой друг, — сказал граф, протягивая руку брату убийцы своего отца. — И пусть Бог простит вас, как прощаю я!
После этого мужчины пошли на кладбище монастыря францисканцев, в это время совершенно безлюдное.
Готье погрузился в глубокую задумчивость. Его спутник шагал впереди.
После нескольких поворотов мужчина остановился перед могилой, надгробие которой заросло высокой травой.
— Вот она, мессир, — сказал он. — Вы, конечно, будете молиться. А я у кладбищенских ворот буду ждать тех приказов, что, может быть, вы пожелаете мне отдать.
И он удалился, оставив Готье де Мони в одиночестве.
Тогда Готье встал на колени и долго молился; потом он вернулся к человеку, приведшему его на кладбище.
— Могу ли я теперь просить вас о последней услуге?
— Слушаю вас, мессир.
— Приведите мне четырех могильщиков, ибо я дал обет похоронить своего отца в другой земле.
Человек привел четырех могильщиков, и через два дня мессир Готье де Мони, сложив останки своего отца в дубовый гроб, отослал их в Валансьен, в графство Геннегау, где они были захоронены со всеми почестями, полагающимися отважному капитану и отцу храброго рыцаря.
Тем временем саперы так усердно и умело вели подкоп, что пробились под фундамент замка и обрушили низкую башню на ограде донжона. Но они ничего не могли поделать с большой башней, так как она была возведена на скале, и подкопаться под нее было невозможно.
Мессир Агос де Бо убедился, что под его крепостью ведутся работы, и это показалось ему достаточно серьезным обстоятельством, чтобы глубоко задуматься над опасностью его.
Он собрал соратников и сообщил им о своем открытии, спросив, что следует предпринять, чтобы удержаться в замке.
Однако все они, отчаянные храбрецы, не принадлежали к людям, согласным погибнуть бесцельно, если можно найти выход из трудного положения.
— Мессир, вы наш командир, а наш долг — повиноваться вам, — сказали они капитану. — Мы считаем, что держались достойно до последнего часа, но сейчас, наверное, было бы лучше, раз это наше последнее средство спасения, с почетом сдаться графу Дерби, при условии, что он сохранит за нами наше добро.
— Я тоже так думаю, — ответил Агос.
И просунув голову в одну из низких бойниц, он крикнул, что хотел бы поговорить с кем-либо из вражеской армии.
Подошел какой-то солдат и спросил, что ему нужно.
— Я хочу говорить с графом Дерби, — ответил сир де Бо.
Графу не терпелось узнать, что хочет сказать ему капитан. Он быстро вскочил на коня и в сопровождении Готье де Мони и мессира Стэнфорта приехал к рыцарю, и тот сразу же изложил ему предложения, о коих условился со своими соратниками.
— Мессир Агос, мы не позволим вам уйти так просто, — ответил граф. — Нам прекрасно известно, что положение ваше безвыходно, и мы захватим крепость тогда, когда пожелаем, ибо она держится лишь на контрфорсах. Посему сдавайтесь безоговорочно, только на таком условии мы примем вашу капитуляцию.
— Конечно, мессир, я знаю вас как весьма великодушного человека и могу быть уверен в том, что, если мы примем ваши условия, вы будете обходиться с нами так же, как в подобном случае вы обошлись бы с герцогом Нормандским или королем Франции, — ответил шевалье де Бо. — Но это означало бы подвергнуть опасности несколько наемников — я привел их из Прованса, Савойи и Дофине, — с которыми вы, должно быть, не станете обходиться столь же учтиво, как с нами. Так знайте же, что, если самый рядовой из нас не будет принят по-рыцарски, как и самый знатный, мы предпочтем снова запереться в замке и дорого отдать нашу жизнь. Соблаговолите подумать об этом, мессир, и отнеситесь к нам с той честностью, какая принята в отношениях между воинами.
Выслушав эту речь, три английских рыцаря удалились на совет, и, как обычно, плодом их размышлений стало решение принять условия, предложенные осажденными.
Поспешим прибавить: далеко не последнюю роль в великодушии осаждающих сыграло опасение, что большая башня еще долго не поддастся усилиям саперов.
— Мы согласны с тем, что вы просите, — сказал граф шевалье де Бо. — Но лишь при условии, что отсюда вы унесете только ваши доспехи.
— Да будет так! — ответил мессир Агос де Бо.
И все защитники замка мгновенно приготовились к отъезду.
Но они увидели, что в крепости всего шесть лошадей, а этого было мало.
Поэтому они попросили англичан продать им лошадей, и те уступили их за такую высокую цену, что благодаря этой сделке получили всю сумму выкупов, потерянную из-за великодушия своего главнокомандующего.
Мессир Агос де Бо уехал из замка Ла-Реоль, а англичане, захватив крепость, направились в Тулузу.
На другой день после ухода англичан человек, показавший Готье де Мони могилу его отца, получил вместо обещанных ста экю вознаграждение втрое большее.
XI
Теперь оставим графа Дерби продолжать свои завоевания, которые до сих пор мы прослеживали шаг за шагом, дадим ему захватить Монпезат, Вильфранш и Ангулем, а сами посмотрим, чем в это время был занят Эдуард III.
Напомним, что Якоб ван Артевелде предложил королю Англии объявить его сына, принца Уэльского, графом Фландрским, а Фландрию превратить в герцогство.
Поэтому Эдуард III собрал на большой совет баронов и рыцарей, известив о принятом им решении отправиться с сыном в Слёйс, чтобы там возвести его в сан графа, как обещал Артевелде, и просил их ехать вместе с ним, на что рыцари и бароны охотно согласились.
Король вместе со свитой прибыл в порт Сандвич и 8 июля 1345 сел на корабль.
Вскоре он бросил якорь в гавани Слёйса; на королевский корабль постоянно стали являться с визитами фландрские друзья Эдуарда.
Из бесед с ними королю Англии скоро стало ясно одно: его приятель Артевелде уже не пользовался столь большим влиянием, как прежде, и сделал слишком рискованный шаг, пообещав низложить графа Людовика, законного сюзерена, и посадить на его место принца Уэльского.
Однако Артевелде усердно посещал Эдуарда III и упорно уверял его в успехе переговоров, что в один прекрасный вечер не помешало королю откровенно объясниться с ним.
— Мне кажется, метр, — обратился Эдуард к Артевелде, прогуливаясь с ним по палубе "Екатерины", корабля, такого высокого и большого, что на него, по словам Фруассара, "было приятно смотреть", — мне кажется, что наша договоренность выполняется не так быстро, как вы обещали. А вы ведь человек опытный и умный. Я помню о нашей первой встрече и никогда не забуду тех мудрых советов, что вы мне дали. Сегодня я принимал магистратов славных городов Фландрии, и мне показалось, что им очень трудно дать мне окончательный ответ; и все же, они обещали его дать завтра. Чем это объяснить, метр? Неужели тем, что по мере роста вашей славы вы утрачиваете власть?
— Ваше величество, я поклялся отдать Фландрию вашему сыну, и он ее получит, — ответил Артевелде (король никогда не видел его столь озабоченным). — Но вы понимаете, что такое королевство не может без потрясений перейти из одних рук в другие, что между тем, кто отдает, и тем, кто принимает, стоит много людей, желающих заполучить королевство себе. Я нисколько не утратил своего влияния, по крайней мере надеюсь на это. Но каждый человек, когда растет, отбрасывает немалую тень, и она прикрывает все больше людей, ему завидующих. Все знают о моей преданности вашей светлости и опасаются, как бы она не завела меня слишком далеко. Требуется лишь одно — дать понять этим добрым людям, что вы собой представляете, и объяснить им, какого блага я им желаю, вручая вам их судьбы. А если они не поймут этого по доброй воле, — прибавил Артевелде, — надо будет силой заставить их это понять.
— Вы сердитесь, метр Артевелде, но что же должен делать я? — воскликнул Эдуард.
— Ваше величество, честно говоря, я мог бы рассердиться, если бы речь не шла о столь благородном деле. О, пока вы знаете меня лишь как человека, могущего дать разумный совет! Может быть, когда-нибудь вы узнаете меня как человека действия, и тогда тот, кого король Англии в шутку зовет своим приятелем, станет, наверное, уже всерьез, другом своего царственного союзника.
— Мне уже известно, метр, что вы человек осмотрительный и что мало найдется монархов, кого охраняют так же строго, как и вас.
— И кто же вам это сказал, ваше величество?
— Тот, кого вы когда-то направили королю Англии и кто вернулся в Гент вместе с Уолтером, посланником короля Эдуарда.
— Гергард Дени! — воскликнул Артевелде, невольно бледнея.
— Он самый. Старшина цеха ткачей, по-моему. А что с ним стало? — равнодушно спросил король.
— Пока, ваше величество, с ним ничего не произошло! Но одному Богу известно, что с ним станет.
— Обогатила ли его торговля?
— К сожалению, ваше величество, он занимается не торговлей, а другими делами.
— Чем же именно?
— Политикой.
— Это ваша ошибка, метр. Зачем вы назначили его послом? Ведь он был к вам привязан.
— Как собака к своей цепи, ваше величество, и все потому, что иного выхода у него не было. Но если со мной случится беда, то произойдет она по вине этого человека.
— Однако, если я хорошо помню мой разговор с ним незадолго до поездки, которую мы совершили вместе, он сказал, что вас окружают очень преданные люди и вам стоит лишь знак подать, чтобы ваших врагов не стало. Неужели он ошибался?
— Он не ошибся в отношении других, но, к несчастью, ошибся насчет себя. Сегодня у Гергарда Дени есть своя партия, он стал весьма опасен; попытаться избавиться от него означало бы почти признать его силу и в любом случае подвергнуть риску себя. Если теперь мы встречаем противодействие нашим замыслам, значит, сопротивление исходит от этого человека. Поэтому…
Казалось, Артевелде замялся, не зная, продолжать ли ему дальше.
— Поэтому? — повторил король, словно приглашая Якоба закончить мысль.
— Поэтому я хотел бы просить вас, ваше величество, не принимать его, если он здесь появится. Сюда он может прийти только с дурными целями.
Едва Жакмар произнес последние слова, как Роберт, тот самый, что сопровождал короля в первой его поездке в Гент, подошел к Эдуарду и шепнул:
— Ваше величество, причалила лодка с человеком, который просит аудиенции у вашей милости.
— И чего хочет этот человек? — спросил король.
— Он хочет, ваше величество, говорить с вами наедине.
— Он назвал себя?
— Нет, ваше величество, но я его узнал.
— И кто же это?
— Тот, с кем вы, ваше величество, ехали, когда я имел честь сопровождать вас в Гент.
— Гергард Дени, — пробормотал Эдуард. — Метр Якоб все предвидел. Роберт, — обратился король к слуге, — проводи этого человека в мою каюту и вели ему подождать.
Роберт удалился, а король подошел к Артевелде.
— Ну что ж, метр, — сказал король. — Завтра мы узнаем, как нам действовать, не так ли?
— Да, ваше величество.
— Ведь вы понимаете, что я не могу всю жизнь обретаться в порту Слёйс. Я должен исполнить обет, и только вы меня задерживаете.
— Рассчитывайте на меня, государь, — ответил Артевелде, понявший по тону, каким король произнес последние слова, что ему надлежит откланяться. — Полагайтесь на меня и не доверяйте другим.
Жакмар отвесил поклон и, сойдя с палубы корабля, спустился в свою лодку, доставившую его на берег.
Король сошел на нижнюю палубу и нашел в каюте поджидавшего его Гергарда Дени.
Старшина цеха ткачей был уже не тот, что раньше: одет он по-прежнему был просто, но лицо его преобразилось. Твердая гордость стала основной чертой его физиономии, и Эдуард сразу понял, вновь увидев ткача, что тот занят делами более важными, нежели закупка шерсти; хитрость, которой наделила его природа, светилась в маленьких глазках, что смотрели увереннее и пронзительнее, чем прежде.
На лице этого человека лежало выражение мнимой честности; на нее попался бы менее тонкий политик, чем Эдуард, но она не могла обмануть короля — приятеля Артевелде. Легко было понять, что ткач обладает всеми пороками Жакмара, но не обладает умом своего соперника, чтобы их скрывать. У него была хитрость, строящая планы, но ему явно не хватало ловкости, чтобы их осуществлять. Он был хитер, но в свое время его хитрость должна была смениться грубой силой. Это, вероятно, объяснялось тем, что он был честолюбив не из-за корысти, а из подражания. Он принадлежал к тем людям, что, видя, как возвышается один из ближних, начинают ненавидеть его и жаждут возвыситься, но не вместе с ним, а вместо него. Мысль возвыситься возникает у таких людей лишь потому, что они видят, как возвышаются другие, и, вместо того, чтобы прилагать свои способности к победе своих честолюбивых стремлений, они прилагают их к уничтожению человека, мешающего им; поэтому в тот день, когда они занимают место соперника и утоляют свою ненависть, они больше не знают, что делать, становясь лишь жалкими подражателями своих предшественников.
Гергард Дени был завистником. Мы видели в начале нашего повествования, как сильно он ненавидел Артевелде. Если бы Жакмар остался простым пивоваром, Дени остался бы простым ткачом. Когда человек из народа внезапно возвышается, как Артевелде, то он, выходя из своего сословия, сразу же вызывает у тех людей, которые должны были бы его поддерживать, загадочную, упорную ненависть, что скрытно подрывает завоеванное им положение.
Гергард завидовал богатству Артевелде, как один ребенок завидует игрушке другого, желая просто разломать ее, когда она окажется у него в руках.
Впрочем, он охотно соглашался не быть эшевеном, но при условии, чтобы Артевелде тоже не занимал этот пост.
Как бы там ни было, пока Якоб оставался значительным лицом, ткач тоже представлял собой персону, и в этом качестве он нанес визит королю Эдуарду III.
Когда король оказался перед Гергардом, тот пристально посмотрел на него и, поклонившись, сказал:
— Господин Уолтер, я счастлив снова видеть вас, ибо храню приятное воспоминание о нашей поездке и посему буду умолять вас о счастье как можно скорее поговорить с вашим милостивым сюзереном.
— Поэтому следуйте за мной, метр Гергард, — с улыбкой ответил король, — ибо я, как и вы, сохранил столь же приятное воспоминание о поездке, которую имел удовольствие совершить вместе с вами.
С этими словами король ввел гостя в каюту и, предложив ему сесть, закрыл дверь.
— Вы ведь хотели, метр, говорить с королем Англии? — спросил он. — Ну что ж, говорите, король Англии слушает вас.
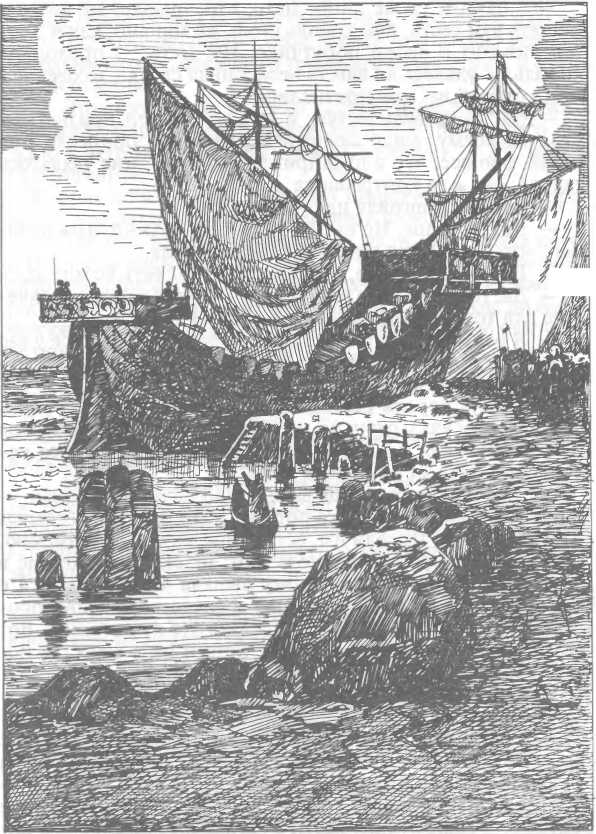
XII
Гергард невольно встал.
— Значит, Уолтер и король Эдуард Третий… — начал он.
— …одно и то же лицо, метр, что, однако, не должно мешать вам сесть, ибо король столь же хорошо, как и Уолтер, помнит о своем попутчике. Ну, метр, — продолжал король, — удалась ли вам та незаконная сделка, в совершении которой вы мне признались?
— Да, ваше величество, и я даже должен признаться, что, по-моему, ваше любезное содействие принесло мне удачу, ибо все, что я предпринимал потом, мне удавалось так же, как и та контрабанда…
— Значит, торговля идет хорошо?
— Да, государь. Но ваше величество должно быть полагает, что сюда меня привели торговые дела.
— Во всяком случае, полагаю, что у вас есть ко мне дело.
— Да, государь. И я пришел в интересах вашего величества для того, чтобы оказать вам услугу.
— Я рад, метр, что после моей первой поездки все у вас складывается успешно и что сегодня вы способны оказать услугу королю Англии.
По ответу короля Гергард понял, что тот не будет обходиться с ним как с равным; и кто знает, насколько возросла ненависть ткача к Артевелде из-за различия, которое король проводил между этими людьми?
— Дело не в этом, ваше величество, — возразил ткач, — и пусть я ниже вас, но уже потому, что я вращаюсь совсем в иных сферах, нежели вы, есть вещи, которые я замечаю, а от ваших взоров они ускользают: их скрывают от вас в своих интересах те люди, кому выпала честь общаться с вами. Именно на эти вещи, ваше величество, я и хочу пролить свет, и никто не сможет сделать это лучше меня. Вот почему я посмел явиться к вам, хотя и не в качестве посланца Артевелде, а от собственного имени.
— Продолжайте, метр Гергард, продолжайте.
— Поскольку вы, ваше величество, соизволили вспомнить о поездке, которую я имел честь совершить вместе с вами, может быть, вы изволите вспомнить и то, что я тогда же сказал вам об Артевелде. Я говорил, что его власть продлится недолго, что в Генте есть люди, способные так же хорошо, и даже лучше, вести с Эдуардом Английским политические и торговые дела, кои будут достойны столь великого короля.
— Верно, я помню эти слова.
— А я даже вспоминаю, ваше величество, — продолжал Гергард, словно желая показать королю, что он не забыл ни одной подробности своей поездки в обществе короля, — я даже помню, что в те минуты, когда говорил вам об этом, ваши глаза были устремлены на сокола, гнавшегося за цаплей, и что, когда он сбил цаплю, вы взяли охотничью птицу, надев ей на клюв очень ценный перстень с изумрудами. Вы даже оставили у себя сокола, что сильно удивило сокольничего, приехавшего требовать назад птицу, и очень изумило меня.
— Это тоже верно, — тихо сказал Эдуард (этот эпизод напомнил ему об Алике Грэнфтон и той тревоге, что вызвало у него исчезновение графа Солсбери). — Да, верно. Продолжайте, метр.
Король встал и несколько раз широкими шагами прошелся по каюте, изредка поглаживая ладонью лоб.
— Так вот, ваше величество, те люди, появление которых я тогда предсказывал, сегодня уже обладают реальной силой, — прибавил ткач, тоже встав, — и власть пивовара так резко подорвана, что, может быть, уже завтра он будет вынужден бежать как преступник, если в пути его не сразит меткий выстрел из арбалета.
— И во главе этих людей, вероятно, стоит метр Гергард Дени?
— Да, ваше величество.
— И новый вождь захочет, если не навязать, то предложить королю Англии свои условия?
— Нет, ваше величество, он лишь предупреждает короля Эдуарда, что Артевелде взял на себя обязательства, а выполнить их не сможет, а те люди, во главе которых стоит Гергард Дени, не желают другого монарха, кроме своего законного сюзерена, если…
— Что?
— Если тот, кто руководит ими, не захочет чего-либо иного или не найдет средство все уладить.
— А есть ли такое средство?
— У меня есть, ваше величество.
— И могу я узнать, в чем оно заключается?
— Разумеется, ваше величество, но позвольте мне не раскрывать его до той поры, пока оно из возможности не превратится в действительность.
— Какой же вывод следует из нашей беседы?
— Тот вывод, ваше величество, что Фландрия, несмотря ни на что, будет считать за великую честь союз с Англией и, если этот союз когда-нибудь будет зависеть от меня, его можно считать достигнутым.
— Если, конечно, Англия на него согласится?
— А какой Англии интерес от него отказываться?
— У Англии есть не только интересы, метр Гергард, у нее есть и друзья. Якоб ван Артевелде до сего дня был верным союзником и преданным другом короля Эдуарда Третьего, и может случиться так, что, если с эшевеном произойдет беда, то король Англии примет его сторону и попытается отомстить так же, как он уже мстит Франции за тех, кого Филипп Шестой казнил лишь потому, что эти люди были нашими союзниками. Но мы, метр, будем действовать в зависимости от обстоятельств. Сейчас я нахожусь здесь по приглашению Якоба ван Артевелде, с которым расстался несколько минут назад, и пока он будет выполнять свои обещания, я тоже не нарушу своих, а в случае необходимости сумею принять во внимание события, чьей жертвой он может стать.
— Ваше величество, не ожидаете ли вы завтра депутацию советников?
— Ожидаю.
— Она повторит то, что я вам сказал: без согласия всех фламандцев ничего произойти не может.
— Мы подождем, метр. Терпение — вечный удел королей.
Было ясно, что Эдуард III примет помощь Гергарда Дени тогда, когда она будет ему выгодна; но король был слишком опытным политиком, чтобы размениваться на пустяки, пока пивовар еще оставался вождем Фландрии.
На следующий день на борт "Екатерины" прибыли советники. Артевелде уже за несколько минут до них находился у короля.
— Глубокоуважаемый государь, — обратился к Эдуарду III один из советников, взявший слово от имени всех остальных, — вы требуете от нас почти невозможного, за что позднее страна Фландрия сможет потребовать у нас ответа. Разумеется, сегодня нет другого сюзерена, которого мы сильнее желали бы видеть своим повелителем, чем вашего сына, принца Уэльского; но это желанное для нас дело мы не можем свершить одни: нам требуется согласие всех жителей Фландрии. Поэтому каждый из нас отправится в свой город, чтобы спросить мнение горожан, и чего пожелает наибольшая часть фламандцев, с тем мы и будем согласны. Через месяц, ваше величество, мы снова приедем сюда; гарантируем, что наше возвращение принесет вам большую радость.
— Да будет так, — ответил король. — Еще месяц я могу подождать.
Советники ушли, а Якоб ван Артевелде остался с королем. Якоба все больше охватывала тревога.
— Ну? Что вы на это скажете, приятель? — спросил Эдуард бывшего пивовара. — И не возникли ли теперь у вас опасения, что вы напрасно вызвали меня сюда?
— Что вы! Помилуйте, ваше величество! Мне неизвестно, о чем будете сожалеть вы, но я, помимо многих других причин, предпочел бы, особенно сейчас, носить костюм короля Англии, а не свою одежду.
— Вы не честолюбивы, метр, — шутливо ответил Эдуард III. — Значит, все, что говорят, правда?
— Что же говорят, ваше величество?
— Говорят, что сегодня Якоб ван Артевелде уже не так любим народом и не столь влиятелен, как раньше.
— О Боже мой, почему же?
— Метра Артевелде обвиняют в том, что он исподволь лишил власти своего законного сюзерена, графа Людовика; наверное, это не имело бы никакого значения, если бы метр Жакмар не наложил свою лапу на казну Фландрии и безотчетно не тратил ее, а сие уже позволяет предположить, что деньги пошли совсем не на те цели, на какие предназначались. Отсюда следует, что сейчас, может быть, против метра Якоба ван Артевелде замышляют заговор так, словно Артевелде — законный монарх.
— Замышляют заговор? — невольно побледнев, спросил Якоб.
— Так говорят.
— И кто это говорит, ваше величество?
— Ветер, дующий из Гента.
— Ваше величество, у вас был ткач Дени.
— Может быть.
— Этот человек, ваше величество, вас предаст.
— А кто вам сказал, метр, что я встречался с ним? И, если даже я встречался с ним, кто вам сказал, что я ему доверяю?
— Значит, ваше величество, нужно, чтобы вы помогли мне расстроить его козни и привести принца Уэльского к победе.
— Лишь ради этого я и приехал, но, по правде говоря, очень боюсь, что напрасно доставил себе лишние хлопоты.
— Не напрасно, ваше величество. Вы добьетесь успеха, если изволите прийти мне на помощь.
— Что необходимо сделать?
— Необходимо, ваше величество, дать мне четыре сотни солдат, чтобы облегчить осуществление ваших планов и схватить наших врагов, ибо их у нас немало.
— И тем самым усилить охрану Якоба ван Артевелде?
— Помилуйте! Ваше величество, охраняя Артевелде, вы защищаете союзника и отстаиваете ваши притязания на Фландрию.
— Правильно. Ну что ж, я дам вам четыре сотни солдат!
— Ночью я впущу их в Гент, и, если после возвращения советников события примут нежелательный для нас оборот, мы ускорим ход событий.
— Довод убедительный, метр, и в этом случае умный советчик уступит место человеку действия, — сказал король, казалось не слишком веривший в мужество своего приятеля.
— Да, ваше величество.
— Прекрасно! Начиная с сегодняшнего вечера четыреста солдат — в вашем распоряжении.
— И сегодня же ночью, ваше величество, они вступят в Гент.
— Как бы там ни было, метр, я нахожусь здесь для того, чтобы защищать вас, — прибавил Эдуард, — и, если вас убьют, я отомщу за вас, обещаю вам.
Сказав это, король сердечно протянул эшевену руку.
Но при слове "убьют" Артевелде снова побледнел и его рука дрогнула в королевской ладони.
"Значит, я не ошибся, — подумал Эдуард, — этот человек боится".
— Мне пришла в голову одна мысль, — громко сказал король.
— О чем, ваше величество?
— Добавить еще сто человек к тем четырем сотням, ибо считаю, что вам не повредит больше охраны.
Артевелде не смог сдержать себя и поцеловал королю руку.
— Ох, бедный мой сын, если вам когда-нибудь доведется с помощью метра Жакмара стать повелителем Фландрии, меня это очень удивит, — пробормотал Эдуард, покидая Артевелде.
Вечером Артевелде вместе с отрядом, который дал ему Эдуард, высадился на берег, а ночью впустил солдат в Гент.
Но в то мгновение, когда он входил в городские ворота, в тень скользнул человек, заметивший Артевелде.
Это был Гергард Дени, знавший, что Артевелде вернулся отдельно от советников и, опасаясь какой-нибудь неожиданности, давно подкарауливал пивовара.
XIII
Пятьсот солдат Эдуарда вошли в город; Артевелде, успокоенный королем, вернулся в свой дом.
Однако на другой день город проснулся в волнении.
С утра богатых и бедных созвали на рыночную площадь, и советник, что вчера говорил на борту "Екатерины", излагая Эдуарду меры, какие тот должен принять для успеха его замыслов, обратился к народу с речью, выдержанной в том же духе, объявив, что король Англии привез с собой принца Уэльского, кому Артевелде обещал отдать Фландрию.
Это вызвало всеобщее негодование, и собравшиеся на площади жители Гента закричали, что они не отрекутся от своего законного сюзерена ради сына Эдуарда III.
Произошло то, о чем накануне Гергард Дени предупреждал короля.
Поэтому мы не должны удивляться, увидев в толпе ткача, изо всех сил подогревавшего возникший раздор, тоже обратившись к народу с речью.
— Смиритесь с этим сразу, друзья мои, — посоветовал он, — ибо потом вам все равно придется покориться.
— На что вы намекаете? — кричали из толпы.
— Я хочу сказать, что Артевелде сильнее всех, и на этот раз, как всегда, навяжет вам свою волю.
— Нет, нет!
— Он предвидел мятеж и принял свои меры предосторожности.
— Что он сделал?
— Он попросил у короля Англии отряд в тысячу солдат, отличных лучников; сегодня ночью они вступили в город, чтобы всеми средствами поддержать притязания короля и Жакмара.
Как видим, Гергард солгал, прибавив к отряду еще полтысячи солдат, но это сущий пустяк, когда дело идет о том, чтобы убедить других в своей правоте.
Собравшиеся на площади словно застыли от изумления.
— Но это еще не все, — продолжал Гергард. — Артевелде совершенно не бережет казну Фландрии и распоряжается ею как король.
— Смерть предателю! — закричали со всех сторон.
Гергард хотел продолжить свою речь, но его голос вскоре потонул в криках черни, требовавшей головы пивовара.
— Пошли к его дому! — вопили эти бешеные, хлынувшие, словно волна, к особняку Жакмара.
Когда Артевелде услышал этот ропот, сначала приглушенный, будто гул отдаленного урагана, а потом громкий, как раскат приближающегося грома, ему стало страшно.
Он приказал закрыть и забаррикадировать двери и окна.
Медлить было нельзя.
Едва слуги выполнили приказ хозяина, как особняк уже окружило простонародье.
Но дом хорошо охранялся.
В нем находилось почти полторы сотни людей, стойко его защищавших, но напоминавших тех галлов, что метали свои стрелы против молнии; хотя каждый их выстрел разил врага, прилив становился все мощнее, и, казалось, людские волны накатываются одна за другой.
Артевелде понял, что долго не продержится и, если в особняк ворвется толпа, его безжалостно прикончат.
Ему пришлось призвать на помощь всю прежнюю хитрость, но в эти минуты страх подавлял его, и, вместо того чтобы держать себя как опытный политик, он повел себя как трус.
Поэтому он распахнул окно и показался народу.
Сначала его встретили вопли гнева и призывы к смерти; услышав их, несчастный Жакмар задрожал всем телом; но раздалось несколько голосов, требовавших:
— Он хочет говорить, выслушаем его!
Постепенно восстановилась тишина, в любую секунду готовая прерваться угрозами и свистом.
— Чего вы хотите, добрые люди? — спросил Артевелде. — Кто вас так растревожил? Почему вы относитесь ко мне с такой злобой? Чем я мог вас разгневать? Ответьте мне на эти вопросы, и я сделаю все, что вы пожелаете.
Первая часть жалкой речи Артевелде была встречена общим хохотом и градом камней, но потом, как и за несколько секунд до этого, снова воцарилось молчание.
— Мы хотим, чтобы ты дал отчет о казне Фландрии, которую украл! — крикнул Гергард Дени.
Жакмар узнал голос своего бывшего посла и подумал, что, обратившись к нему напрямую, он получит больше шансов добиться пощады, чем умоляя эту раздраженную и обезумевшую толпу.
— Неужели, мой добрый Гергард, и ты среди тех, кто желает мне зла? Ты ведь знаешь меня, скажи им, что я не сделал ничего, чтобы вызвать гнев народа.
— Ты растратил казну.
— Да, да! — донеслось из толпы.
— Друзья, добрые друзья мои, — кричал Артевелде сдавленным от страха голосом, — ступайте по домам и приходите завтра утром, если захотите, на рассвете, и я дам вам полный отчет.
— Сейчас же! Сейчас же! — заревела толпа.
— Ночью ты сбежишь! — выкрикнул кто-то.
— Или прикажешь тысяче солдат короля Эдуарда перебить нас.
— Король Эдуард не давал мне тысячу солдат.
— Лжешь! — крикнул Гергард.
— Он дал мне всего пятьсот, — со слезами на глазах ответил Якоб.
— Он признался в измене! Признался! — завопили осаждающие особняк.
— Я выгоню их, — пообещал Жакмар.
Но никто не расслышал этих слов, ибо людская лавина снова обрушилась на двери особняка и зазвенели разбитые камнями стекла.
Тут бывший пивовар рухнул на колени и, рыдая, воскликнул:
— Господа, ведь вы сами выбрали меня! Когда-то вы поклялись, что будете охранять и защищать меня от всех врагов, а сегодня хотите убить без всякого повода. Вам легко это сделать, ведь я один, а вас много, я беззащитен. Но задумайтесь о том добре, что я вам сделал и еще смогу сделать.
Постепенно вновь установилась тишина.
— Спускайтесь, сходите вниз, — кричали ему с площади, — ведь вы стоите очень высоко, а мы хотим вас слышать! Мы желаем знать, что стало с казной Фландрии: вы слишком долго ею распоряжались, никому не давая отчета. Спускайтесь, спускайтесь!
— Иду, — ответил Артевелде и закрыл окно.
Но, похоже, что отчет, который он должен был представить толпе, был весьма запутанным, и посему Артевелде предпочел не доверяться превратностям споров с толпой и решил бежать через черный ход, чтобы укрыться в церкви, прилегающей к дому.
Но люди на площади, не видя Артевелде и заподозрив его в трусости, бросились к черному ходу особняка.
Действительно, они убедились, что Якоб хотел бежать, а поскольку это бегство было для них доказательством его вины, то люди набросились на него и стали избивать, не обращая внимания на крики и слезы Артевелде.
Несчастный эшевен рухнул к их ногам и еще дышал, когда к нему подошел Гергард Дени.
Завидев человека, которого он долгое время считал своим другом, пивовар собрал остатки сил и сказал:
— Гергард, добрый мой Гергард, спаси меня.
Тогда ткач, склонившись к умирающему, по рукоятку всадил ему в горло нож, и Якоб умер, даже не вскрикнув.
"Так кончил дни Артевелде, который в свое время был истинным хозяином Фландрии, — повествует Фруассар. — Сначала бедный люд заставил его выйти на площадь, а потом злые люди прикончили его".
Эдуард быстро узнал о событиях в Генте и в тот же вечер отплыл в Англию; король был сильно разгневан этим убийством и поклялся, что жестоко отомстит за смерть своего приятеля Артевелде.
Когда Гергард Дени узнал об отплытии короля и высказанных им перед отъездом угрозах, он потребовал отправить к Эдуарду посольство, дабы отвратить от Фландрии гнев столь могущественного государя, показавшего себя искренним союзником фламандцев.
Поэтому советники, съехавшиеся в Слёйс на встречу с Эдуардом, отправились вслед за ним в Лондон.
Король находился в Вестминстере, когда ему сообщили, что советники из Ипра, Брюгге, Куртре, Оденарде просят допустить их на аудиенцию.
Король, несколько умеривший первоначальный гнев, принял их.
Они начали оправдываться, уверяя короля, что они, поскольку разъехались по разным городам, добиваясь у их жителей необходимого Эдуарду согласия, не могли знать о происшедших событиях и помешать смерти Артевелде, прибавляя, что это несчастье повергло их в горе и гнев и они от всей души сожалеют о гибели эшевена, всегда мудро управлявшего Фландрией.
— Однако, ваше величество, смерть Артевелде не лишает вас доверия и любви фламандцев, — поспешили убедить короля советники, — хотя сейчас вам и следует отречься от притязаний на Фландрию, которую фламандцы не могут отнять у графа Людовика; он пока пребывает в Термонде и, хотя очень рад смерти Якоба, в конце концов узурпировавшего его власть, еще не смеет вернуться, но вскоре снова обретет уверенность и возвратится в Гент.
Так как Эдуард ничего не ответил посланцам и выглядел еще более разгневанным гибелью своего приятеля, лишавшей его надежд на Фландрию, один из советников, до сих пор молчавший, приблизился к королю и сказал:
— Ваше величество, может быть, еще есть возможность все поправить.
— Что же это за возможность?
Остальные советники отошли в глубь зала, словно поняв, что им нечего прибавить к словам, что скажет их соратник.
— Вы не забыли, ваше величество, о визите на борт "Екатерины" Гергарда Дени?
— Нет, но я помню и о том, что этот Гергард Дени собственной рукой добил человека, за смерть которого я хочу сегодня отомстить.
— Ваше величество, бывают убийства, угодные Богу, если они идут во благо целому народу.
— И чего же хочет Гергард Дени?

— Ваше величество, он передал мне послание для вас: может быть, оно вернет нам ваше расположение.
И, сказав это, фламандец подал королю письмо; тот его развернул. В нем говорилось:
"Ваше Величество, Бог иначе, нежели Вы думали, распорядился судьбами нашей страны. Отныне принц Уэльский больше не может претендовать на Фландрию".
— Но это письмо бесполезно, — прервал чтение Эдуард, — ибо оно всего лишь подтверждает то, что мне уже было сказано.
— Соблаговолите, ваше величество, прочитать его до конца, — ответил посланец ткача.
Король стал читать дальше.
"Но, Ваше Величество, у Вас прекрасные дети, сыновья и дочери; Ваш старший сын даже без Фландрии все равно останется великим вельможей. А еще у Вас есть младшая дочь, а у нас — молодой сеньор, которого мы растим и лелеем, и он является наследником Фландрии, так что можно будет их поженить. Таким образом герцогство Фландрское навсегда останется за одним из Ваших детей".
"Ну что ж, метр Гергард Дени унаследовал ум Якоба ван Артевелде", — улыбнувшись, прошептал про себя Эдуард.
— Что я должен буду ответить, ваше величество? — спросил посланец.
— Вы ответите, мессир, что Эдуард Третий забудет зло и будет помнить только добро, — сказал король.
"Артевелде, действительно, был забыт, — пишет г-н де Шатобриан, — подобно тому, как были преданы забвению все те, чья слава не основывалась ни на гении, ни на добродетели".
XIV
Однако фортуна, казалось, на время отвернулась от Эдуарда. Среди его сторонников и в его армии обнаружились измена и пораженчество.
Дело в том, что через посредство графа Блуаского Филипп предложил Иоанну Геннегаускому предоставить ему такие же доходы, какие тот имеет в Англии, если Иоанн пожелает стать союзником Франции. Иоанн Геннегауский провел молодость в Англии и любил Эдуарда. Поэтому он попросил время подумать. С того момента, когда, несмотря на свою дружбу с королем Англии, Иоанн погрузился в раздумья, появились надежды, что он примет предложения Филиппа. Кроме этого, граф Блуаский, зять Иоанна, торопил его через своего друга, сеньора Фланьоэля.
Но как раз в это время в английских владениях, принадлежавших Иоанну, возникли трудности, что положило конец его колебаниям и вынудило принять сторону Филиппа, достойно его вознаградившего.
Филипп сразу же повелел сеньорам, рыцарям и солдатам явиться в назначенный день в Орлеан и Бурж, ибо хотел послать своего старшего сына, герцога Нормандского, оттеснить англичан, вступивших под командованием графа Дерби в Гасконь.
Граф Эд из Бургундии и его сын граф Артуа из Булони явились к королю, приведя тысячу копейщиков. Затем пришли герцог Бурбонский и его брат, мессир Жак Бурбонский, граф Пентьеврский со своими людьми. Чуть позднее подошли граф Танкарвильский, дофин Овернский, граф Форезский, граф Даммартенский, граф Вандомский, сир де Куси, сир де Краон, сир де Сюлли, епископ Бове Жан де Мариньи, сир де Пьен, сир де Боже, мессир Жан де Шалон, сир де Руа, а также многочисленные бароны и рыцари, которые под Рождество 1345 года собрались в Орлеане или встали лагерем у стен Буржа и Тулузы.
Герцог Нормандский вместе со своими маршалами сиром де Монморанси и сиром де Сен-Венаном пошел на приступ замка Мирмон, захваченного англичанами; его оборонял гарнизон во главе с капитаном-англичанином и оруженосцем по имени Жан де Бристо; штурм был яростным, оборона — стойкой; но в штурме участвовал Людовик Испанский со своими генуэзцами, и англичане были вынуждены сдаться. Начался жестокий произвол, и множество пленных было предано смерти.
Оставив д ля охраны замка солдат, французы затем подошли к Вильфраншу.
Французы осадили город, где не было капитана, и быстро его взяли; после этого они пошли на Ангулем, не разрушив замка, в чем им вскоре пришлось раскаяться. Гарнизоном Ангулема командовал капитан Джон Норвич.
Когда граф Дерби узнал о катастрофах англичан и о глупости, совершенной победителями, оставившими в тылу замок, он послал в Вильфранш солдат, обещав, что придет к ним на подмогу, если в этом возникнет нужда. Потом он отправил в крепость Эгюйон Готье де Мони, Жана де Лилля и других, наказав им стойко держаться.
Сорок английских рыцарей и триста воинов в доспехах выступили в поход, взяв с собой припасы для ведения осады, которых хватило бы на пол года.
Лишь теперь герцог Нормандский понял свою ошибку, когда не разрушил замок в Вильфранше.
Это тревожило герцога тем сильнее, что ему не удавалось взять Ангулем, поэтому он приказал своим войскам расположиться вблизи города.
Сенешаль Бокера предложил герцогу раздобыть здесь провизию, с чем тот согласился. Сенешаль взял шестьсот солдат и отправился в Ансени — город, недавно сдавшийся англичанам. Подойдя к городу, сенешаль с отрядом всего в шестьдесят человек отбил стада у англичан; те бросились в погоню, но попали в засаду, устроенную французской армией. Хитрость эта удалась, ибо все шестьсот воинов вернулись назад, приведя герцогу Нормандскому большое количество пленных.
Тем временем Джон Норвич, понимая, что герцог не снимет осаду Ангулема, попросил перемирия на день Благовещения. Оно было предоставлено. Тогда капитан Джон Норвич на рассвете приказал своим людям взять оружие и вывел их из города; пробившись через лагерь французов, они отступили в Эгюйон, где их встретили с радостью.
После этого жители Ангулема на совете решили, что сдадутся герцогу Нормандскому. Он принял их милостиво, назначив в городе капитаном Жана де Вилье и оставив ему сотню наемников.
Затем герцог подошел к замку Дамазан, взял его, а весь гарнизон перебил. Капитаном в нем он назначил оруженосца из Боса, по прозвищу Кривой Милли. Из Дамазана герцог направился к Тонненсу и долго его осаждал.
Короче говоря, англичане сдались по соглашению, сохранив себе жизнь и имущество; жители перешли в подчинение герцогу Нормандскому, который, захватив находившийся под контролем англичан порт Сент-Мари, оставил там своих солдат и пошел на Эгюйон.
К стенам Эгюйона он привел стотысячную армию.
Дважды в день французы шли на приступ; осада продолжалась полгода.
Герцог приказал построить мост, чтобы преодолеть заполненный водой ров и приблизиться к стенам крепости. Триста плотников трудились днем и ночью. Когда мост был уже почти готов, защитники Эгюйона его разрушили.
Его начали возводить снова, но теперь французы так хорошо охраняли рабочих, что Готье де Мони и его солдаты не могли помешать достроить мост.
Каждую неделю французы отыскивали какой-нибудь новый способ, чтобы взять приступом замок Эгюйон. Однажды, возвращаясь с охоты за стадами скота, Шарль де Монморанси и Готье де Мони встретились. Обоим храбрым рыцарям представился прекрасный случай сразиться. Завязался бой. Французов было пятеро против одного, но защитники Эгюйона узнали об этой схватке и пришли на помощь своим; много французов погибло и попало в плен, а Монморанси бежал, бросив свои войска на произвол судьбы.
Это была одна из самых странных осад, подробности которых сохранила история; когда думаешь о тех работах, что приказал предпринять герцог Нормандский, приходишь в ужас.
Однако положение не могло оставаться неопределенным. Герцог предложил сто экю тому смельчаку, кто сможет первым ворваться на наружный подъемный мост у ворот замка. То, что должно было произойти, свершилось; французские солдаты толпой бросились на приступ: одни попадали в воду, а немало других было перебито защитниками Эгюйона.
Герцог велел построить некое подобие крытого моста, чтобы приблизиться к стенам крепости, но англичане соорудили "мартине", своеобразные орудия для метания камней, и стали бросать такие большие глыбы, что разрушили навес моста, а его пролет рухнул в воду, погубив много французов.
Французских рыцарей приводила в отчаяние продолжительность этой осады, но они не осмеливались предлагать ее снять, ибо слышали, как герцог объявил, что уйдет отсюда лишь по приказу своего отца. Тогда граф де Гинь, коннетабль Франции, и граф Танкарвильский на свой страх и риск решили поехать во Францию к Филиппу VI и поведать ему как о горестях, так и о мужестве его сына. Король пришел в восхищение от их слов и сказал, что, поскольку нельзя взять защитников Эгюйона силой, надо уморить их голодом.
Тем временем Эдуард, узнав, что его люди разбиты и терпят бедствие в замке Эгюйон, а граф Дерби не может прийти им на помощь, решил собрать мощную армию и идти в Гасконь.
В это время Годфруа д’Аркур, изгнанный из Франции, прибыл в Англию. Король и королева приняли его так же, как и графа Артуа, осыпали богатыми дарами; эта отличавшая их щедрость сделала д’Аркура верным и преданным союзником королевской четы.
Король сообщил Годфруа о принятом им решении идти в Гасконь на помощь графу Дерби, спросив, не согласится ли он отправиться с ним в этот поход.
— Ваше величество, я готов служить вам, — ответил Годфруа, — но если вы позволите, я дам вам один совет.
— Слушаю вас, мессир.
— Мне кажется, что сегодня граф Дерби не нуждается в вашей помощи, он достаточно отважный рыцарь, чтобы и впредь без нее обходиться. Позвольте, ваше величество, графу продолжать свое дело, а свое начните с другого конца. Герцога Нормандского сейчас нет в его владениях, воспользуйтесь этим, монсеньер, чтобы напасть на его землю.
— Превосходная мысль! Все будет сделано так, как вы считаете, мессир, — немного подумав, ответил король. — И да внемлет Бог вашему совету и даст нам исполнить его до конца!
— Значит, ваше величество, мы едем тотчас же, ибо я горю желанием узреть вашу победу.
— Нет, мессир, мы не уедем до тех пор, пока я не совершу паломничества, что я обязан сделать, ибо, если Богу так будет угодно и в этом походе со мной случится несчастье, я буду считать, что виной тому это забвение. Кстати, мне необходимо узнать, что произошло с ними обоими, — еле слышно прошептал король.
Наутро король повелел, чтобы в порт Хэнтон подошло большое количество боевых кораблей и грузовых судов.
Отовсюду он призвал к себе воинов и рыцарей, назначив отплытие на день святого Иоанна Крестителя, то есть 24 июня 1346 года.
После этого Эдуард III, оставшись наедине со своими воспоминаниями и опасениями, без свиты выехал в замок Уорк.
Эдуард уже не был тем молодым и пылким королем, каким мы видели его в начале нашего повествования. Если бы кто-нибудь увидел сейчас Эдуарда, то не узнал бы в нем изящного турнирного кавалера.
Политика и война покрыли бледностью его чело, придав глазам какую-то задумчивую пристальность. К тому же в эти минуты Эдуард, не знавший, какие впечатления его ждут, невольно опасался, что за линией горизонта, куда ему надо было устремиться, прячется горе.
С того дня, как он овладел спящей Алике, Эдуард неотступно, каждодневно мечтал об этой женщине, а мимолетное обладание еще сильнее распалило его любовь.
Но ему больше не нужно было этой краденой любви, он жаждал в будущем обладать Алике, а не безжизненной статуей, которая оказалась в его объятьях лишь благодаря приворотному зелью; теперь он хотел от Алике подлинной страсти, искренних признаний, и бывали минуты, когда Эдуард отдал бы свое королевство Англия и прекрасное королевство Франция ради того, чтобы графиня, пусть на день, полюбила его, ради того, чтобы страсть хоть на миг вдохнула жизнь в ее прекрасное тело, чье великолепие он узрел, когда Алике уснула.
В прошлом Эдуард считал, что эти внезапные желания, которые охватывали его, когда он касался платья графини, угаснут, если он овладеет этой женщиной, и мы знаем, каким средством он воспользовался. Но Бог вложил в сердце мужчины любовь, это божественное пламя, не для того чтобы оно гасло при первом прикосновении к плоти, и, повторяем, с тех пор как он овладел графиней, Эдуард мечтал лишь о том, как снова обладать ею. Правда, он понял, что графиня нужна ему вся, безраздельно, со всеми ее признаниями и душевными порывами, без чего его, наверное, испепелит внутренний огонь, разгоревшийся сильнее от первого обладания.
XV
Теперь он, оставшись наедине со своими мыслями, был далеко от королевского двора, где всегда пытался держать себя так, чтобы сердце его оставалось непроницаемым.
Вокруг простиралась необъятная равнина; свежий ветерок ласкал его лицо; Эдуард забыл, что он король, и стремился не вспоминать о том, что его не любят.
Мгновениями ему казалось, что его ждут там, куда он направляется, что он скромный школяр и нет у него другого счастья, кроме любви его подруги, что в отсутствие ревнивого мужа белая ручка откроет ему решетчатые ворота башни — темницы для владелицы замка, рая для любовника.
Так он и ехал, погрузившись в мечтания.
Очаровательное личико Алике, отмеченное испугом, который для любимого мужчины представляется признанием в любви, почудилось ему, и ночь, способная озарить своим сиянием всю жизнь мужчины, ночь, исполненная тайн и очарований, привиделась королю.
Иногда Эдуард еще вспоминал, кто он такой и на встречу с кем едет. И тогда его охватывала смутная надежда на прощение.
"Женщина — странная загадка, — размышлял он. — Чем больше сил тратит она на то, чтобы скрывать свою любовь до того, как отдаться, тем легче раскрывает тайны души после того, как отдала вам свое тело. Может быть, Алике меня любила, может быть, она не смела признаться в этом себе самой и со страхом скрывала от меня свою любовь; но теперь, когда она уже принадлежала мне, хотя и против своей воли, может быть, воспоминание обо мне занимает ее мысли, и, может быть, приехав в замок, я услышу признание во взаимной любви".
И воздух, вдыхаемый Эдуардом, казался ему наполненным новыми запахами и неведомыми ароматами.
Но в отдельные мгновения тайный страх закрадывался в сердце короля. Какую бы странную загадку ни являла собой женская душа, существуют женщины, которые становятся самими собой лишь на пути, какой указал им их ангел-хранитель, когда они вступали в жизнь, и которые умирают в тот день, когда повелительная сила уводит их с пути праведного; несмотря на свои грезы, Эдуард был вынужден изредка признаваться себе, что Алике из числа именно таких женщин.
Опасения короля, которые он, воодушевляемый надеждой, отгонял от себя, преследовали его так неотступно, что иногда его даже охватывала дрожь.
И в эти минуты глаза одинокого путника видели все в ином свете.
Равнина, подобная его сердцу, уже казалась огромной пустыней; замок, куда он ехал, — руинами; имя, что он шептал, — именем умершей.
Греза уступала место страху, страх сменялся угрызениями совести, и Эдуард, вглядываясь в линию горизонта, словно вопрошал его, следует ли ехать вперед или вернуться назад и не лучше ли было бы по-прежнему испытывать неуверенность, чем столкнуться с действительностью.
Однако Эдуард продвигался вперед.
Когда он подъехал к замку Уорк, солнце уже два часа сияло на небе и замок, озаренный светом, выглядел совсем не таким мрачным, каким иногда Эдуард представлял себе его.
В ярких лучах солнца горели витражи, и природа, украшаемая одним из самых прекрасных дней лета, излучала радость.
Король невольно испытал большое облегчение от всего, что увидел.
Сердце столь боязливо, что ему почти всегда необходимы внешние предчувствия, и душа, которая иногда светлеет от окружающей ее безмятежности, едва примиряется с тем, что среди молодой, веющей теплом и благоуханной природы возможно горе.
Эдуард подъехал к воротам замка; они, как всегда, распахнулись перед ним.
Трепеща от страха, он спросил, может ли видеть графиню, и слуга, проведя его наверх, в один из покоев по соседству с комнатами Алике, удалился.
Вскоре слуга вернулся и сказал:
— Ваше величество, графиня выйдет к вам через несколько минут.
Король сел.
Ничто здесь не изменилось — ни внутри, ни снаружи.
Прошло, наверное, минут десять, пока король ждал появления Алике.
Она выглядела прекраснее, чем когда-либо, хотя была мертвенно-бледна, как мрамор.
Алике была не в черном; наоборот, она надела пестрое летнее платье.
Эдуард отпрянул назад, видя, как Алике приближается к нему, ибо она казалась скорее привидением, чем живой женщиной.
— Вы, ваше величество, пожаловали в этот замок?! — воскликнула графиня с улыбкой, от которой, казалось, отвыкли ее губы. — Знаете ли вы, что для меня это великая честь и удостоиться ее я совсем не ожидала?
— Алике, я ухожу в один из тех походов, откуда король может не вернуться, — ответил Эдуард, — и перед отъездом хотел увидеть вас в последний раз.
— Именно, в последний! Вы правы, ваше величество, говоря эти слова, — сказала Алике, устремив глаза в небо. — Ведь если люди расстаются, кто знает, встретятся ли они вновь когда-нибудь?
И графиня, поднеся руку ко лбу, словно почувствовав острую боль, скорее упала, нежели села в кресло, стоявшее рядом с королем.
— Почему вы говорите со мной в таком горьком тоне? — спросил Эдуард. — Бог дарует вам еще долгие годы, графиня, вы молоды, красивы, и вас не окружают препятствия, кои подстерегают жизнь короля.
— Вы так думаете, ваше величество?
— Особенно, когда вас, Алике, любит молодой, знатный и могущественный мужчина.
— Граф Солсбери никогда не вернется сюда, ваше величество.
— Я говорю не о графе, Алике, вам прекрасно это известно.
— Тогда о ком же, государь?
— О человеке, любящем вас…
— До такой степени, что его терзают угрызения совести, не правда ли, ваше величество? Именно это вы хотите сказать.
— Послушайте, Алике, — сказал король, подойдя к графине и взяв ее холодную как лед руку, которую Алике отрешенно подала ему. — Когда я был вдали от вас, жило только мое тело, душа моя оставалась здесь! О, поверьте, как печальна и пуста слава короля, если рядом с ним, чтобы разделить ее, нет сердца, что он избрал и любит! В этом случае слава обременительнее самых тяжких нош, ибо она никчемна. Да, я тосковал по вас, Алике, но эта тоска может преобразиться в вечное блаженство, если вы скажете хоть одно слово. Разве Бог поставил бы вас, такую прекрасную, рядом со мной, разве он вложил бы мне в сердце эту неиссякаемую любовь, если б он не желал соединить нас? Чем я провинился перед Богом, что он отказывает мне в радости, без которой моя жизнь только жалкое прозябание? Что с вами, Алике? Вы побледнели.
— Я слушаю вас, ваше величество. Наступает время, когда мы способны выслушать все.
— Скажите мне Алике, что вы прощаете меня за то, в чем обвиняли несколько минут назад.
— Приходит час, ваше величество, когда мы прощаем все.
— Что вы хотите сказать? — вскричал король, напуганный бледностью графини и тоном, каким она произнесла последние слова.
— Я хочу сказать, ваше величество, что только Бог властен сделать меня счастливой, но он этого не пожелал, вот и все.
— Алике, нет столь великого страдания, которое бы не забылось.
— Ваше величество, душа, понимающая бесконечную любовь, принимает и вечные страдания.
— Но, Алике, ведь ваш траур завершился.
— Что вам говорит об этом?
— Платье на вас.
— О государь, как мало знает о страданиях ваша душа, если вы доверяетесь траурной одежде, даже не обращая внимания на бледность лица и не стремясь разглядеть раны сердца!
— Но почему вы в этом платье?
— Потому, ваше величество, что я не хотела огорчать слишком заметным трауром милостивого короля, удостоившего меня своим визитом, а также не желала оставлять после себя слишком глубокие сожаления в памяти человека, ради каприза разбившего мою жизнь.
— Алике!
— Когда вы уедете, ваше величество, я снова облачусь в траур и, клянусь вам, теперь уже навеки.
— А если вернется граф? — спросил король.
— Он не вернется, государь.
И встав, графиня, совсем обессиленная, подошла к столу, налила воды в золотой кубок и жадно выпила.
— Вы больны, графиня, — сказал Эдуард, тоже встав; его почти пугало возбуждение Алике.
— Нет, ваше величество, — ответила она, снова садясь в кресло, — я готова и дальше слушать вас.
Тут король бросился к ногам Алике и, взяв ее руки в свои, сказал:
— Вы должны меня простить, Алике, хотя бы за те страдания, что я претерпел. Поверьте, в этом мире для вас еще возможно счастье, и я хочу, чтобы этим счастьем вы были обязаны мне. Вы покинете этот мрачный замок, полный горестных воспоминаний и унылых призраков, вы вернетесь ко двору прекраснее, чем когда-либо, и будете вызывать всеобщую зависть. Если бы вы знали, Алике, если бы знали, — тихим голосом продолжал король, — какие сны наполняли мои ночи после моего последнего приезда в этот замок. Ничто не может помешать тому, чтобы вы были моей. И, поскольку я, чтобы овладеть вами, совершил почти преступление, вы должны понять, как далеко может зайти моя любовь. Алике, станьте снова моей, и у вас будет все, что может дать король, все, чего душа может желать в этом мире. Ваша власть будет так же безгранична, как и моя любовь, вашему богатству, как и вашей красоте, не будет равных. Или же, Алике, вы предпочитаете, чтобы я бросил все — начатые труды, честолюбивые стремления, будущее? Или вам угодно, чтобы король Англии стал просто Эдуардом, уединился с вами в каком-нибудь отдаленном замке, затерянном в пустынном краю, и мы остались бы наедине с Богом? Я готов, Алике, сделать все, что вы пожелаете. Приказывайте!
— Хорошо, ваше величество, — отвечала Алике, и улыбка ее лучилась какой-то небесной кротостью, — я вас прощаю, ибо, наверное, вы любите меня и, если бы вы знали, что ваша любовь убьет меня, вы, наверное, не сделали бы того, что сделали. Вы предлагаете мне блага, — ослабевшим голосом продолжала она, — обладать которыми была бы счастлива и горда другая женщина, но они так ничтожны в сравнении с благами вечности, к каким отныне устремлена моя душа! Вместо них обещайте мне сделать то, о чем я вас попрошу.
— Я вас слушаю, Алике.
— Ваше величество, может быть когда-нибудь вам доведется увидеть графа Солсбери. Обещайте мне при встрече сказать ему, что я умерла потому, что он не простил мне греха, виновником которого были только вы. Вы скажете, ваше величество, что видели меня при смерти, что умерла я, благословляя его и моля за него Бога.
От боли утомленная Алике закрыла глаза.
— Что все это значит? — прошептал король. — Вы не должны умереть! Вы, Алике, вы… та, что я люблю! Вы в бреду. Во имя Неба, Алике, скажите, что с вами!
Графиня встрепенулась и, взяв руку короля, сказала:
— Ваше величество, дайте мне вашу руку, чтобы я смогла подойти к окну. Я хочу в последний раз увидеть, как Бог озаряет землю своей улыбкой.
Король невольно послушался, и Алике — рука ее была холодна, а по телу вдруг пробежала дрожь — облокотилась на подоконник раскрытого окна, откуда открывался вид на бескрайнюю равнину, покрытую цветами и источавшую теплое благоухание земли.
— Кто мог бы, ваше величество, предсказать мне в тот день, когда я давала обет верности тому, кого любила, что вскоре после свершения обета я умру, покинутая моим супругом, но опираясь на руку человека, который довел меня до смерти?
— Алике, вы приводите меня в ужас вашими словами о смерти. Скажите мне, что вы хотите мучить меня, но не говорите больше, что вы должны умереть.
— Через час я буду мертва, ваше величество.
— Вы?
— Да.
— На помощь! — вскричал король.
— Успокойтесь, это ни к чему! Не оставляйте меня, государь, вы не успеете вернуться, как я уже умру, а мне еще надо кое-что вам сказать.
Король упал на колени.
— Боже! Господь мой! Спаси ее и прости меня! — молил он.
— Когда вы приехали, — продолжала Алике, подав королю знак подняться, — я сняла траурные одежды и надела этот праздничный наряд. Я видела, что вы едете, ибо уже много дней смотрю из окна на дорогу, ведущую к замку. И тут, потому что мною еще владели человеческие чувства, я захотела одарить вашу жизнь вечным сожалением о моей смерти. Я приняла яд, ваше величество, и сказала себе: "Я умру, проклиная его, и он будет страдать теми страданиями, что претерпела я".
— Ради всего святого, — воскликнул Эдуард, — позвольте мне спасти вас, и клянусь, что я забуду навсегда ваше имя, если надо, заточу себя в монастыре, но живите, не умирайте!
Растерянный король обливал слезами похолодевшие руки графини.
— Это ни к чему, — повторила Алике, — я должна умереть, и, кстати, времени больше не осталось. К тому же я не буду проклинать вас, государь, ведь я уже сказала, что прощаю вас. Смерть выглядит страшной лишь для тех, кого что-то страшит в загробной жизни. Но я не боюсь ничего. Я умираю, чтобы очиститься от чужого греха, и жизнь моя уйдет с земли в вечность столь же легко, как в сумерках свет сливается с темнотой. Смотрите, все улыбается вокруг нас, и уверяю вас, что никогда я не была столь спокойна, как в эту минуту. Поэтому ничего не бойтесь, ваше величество, с ненавистью я покончила. Моя душа, что вознесется к Богу, уже настолько отрешилась от земных уз, что теперь я вижу в вас не человека, меня погубившего, а друга, что поддерживает меня в мгновения смерти. Мне вас жаль, ваше величество, ибо, когда я умру, вы будете страдать и долго терзаться угрызениями совести, от которых мне хотелось бы вас избавить. Вы любили меня, ваше величество, но ваша любовь вас ослепила, заставила забыть о том, что бывает любовь, убивающая тех, на кого она обращена: так, слишком жаркое солнце убило бы наши северные цветы. В одно мгновение вы разбили две жизни, такие счастливые, что можно было бы подумать, будто Бог создал их с сожалением, считая несправедливым одарить огромным счастьем лишь два создания, тогда как много других Божьих существ страдает. Вы ошиблись, ваше величество, вот в чем дело. Но все-таки я могла бы вас полюбить. Вы молоды, благородны и могущественны, и могло бы случиться так, что вас я встретила бы раньше, чем графа. Почему Бог этого не сделал? Возможно, потому, что хотел дополнить мою жизнь мученичеством, и потому, что призвал вас к более славной судьбе.
Алике говорила таким нежным и таким трогательным голосом, что Эдуард, запрокинув голову и прикрыв рукою глаза, плакал навзрыд.
— Будьте мужественны, ваше величество, — немного помолчав, сказала Алике. — Смотрите, в какой чудесный день Бог призывает меня к себе. Мне даже не придется страдать, видя, как это дивное солнце погаснет за холмом; мои глаза сомкнутся прежде, чем оно закатится, и я буду жить в краю, где нет теней и ночей. А вы, ваше величество, отправитесь одерживать новые победы; вы, конечно, присоедините к Англии новое королевство и прикажете убить еще несколько тысяч людей. История отведет вам много места на своих страницах, ваше величество, и, наверное, мое имя перейдет в потомство, озаренное отблеском любви, которую вы испытывали ко мне; тогда люди будут удивляться, что такая скромная женщина умерла, но не приняла любви великого завоевателя. Странная вещь жизнь, когда смотришь на нее с той точки, откуда теперь смотрю на нее я! Скажите мне, ваше величество, вы действительно любили меня? — спросила Алике, устремив на короля исполненный нежности взгляд.
— Неужели вы сомневаетесь в этом? — рыдая, ответил Эдуард.
— И вы сделали бы ради меня все, что сейчас мне обещали?
— Все, клянусь вам.
— Какая слава ждет меня в будущем! — воскликнула графиня. — Но почему же случилось так, что я не полюбила вас?
XVI
— Я должна позвать священника, потому что смерть приближается, — продолжала графиня, — но предпочитаю, чтобы только вы, ваше величество, выслушали мою исповедь. Священник не сможет сказать больше того, о чем в эти мгновения говорит мне Бог, а я не смогу сказать священнику ничего другого, кроме того, что можете услышать вы. Неужели Богу, чтобы поверить в наше раскаяние, необходимо, чтобы мы вверяли это раскаяние в руки одного из его служителей? Или же исповедь — это лишь приготовление к смирению перед ним?
— Если бы вы знали, Алике, какую боль причиняет мне ваше спокойствие! — возразил король. — Я предпочел бы ваш гнев и ваше проклятие. Когда я думаю, что из-за моей роковой любви гибнет ваша счастливая жизнь, я спрашиваю себя, не следует ли мне разбить голову о стену или, по крайней мере, доставить себе радость не видеть вашей смерти, уйдя из жизни раньше вас.
— Нет, ваше величество, живите, ваша смерть будет преступлением, ибо слишком много судеб и интересов зависят от вашей жизни; вам не дано посягнуть на свою жизнь, а меня больше ничто не удерживает на земле. Буду я жива или умру, всем это безразлично, поэтому столь спокойны последние мои минуты. Настал час возвращать взятое, ваше величество, и я должна вернуть вам одну вещь, которую вы дали мне и которую вы сохраните в память обо мне.

Алике подошла к столу, где стояла золотая, пышно украшенная шкатулка; она открыла ее и достала оттуда разные украшения.
— Драгоценности, украшения — жалкие безделушки бренного мира, о как я презираю вас сейчас, вас, что я так обожала, когда вы делали меня красивой ради того, кого я любила!
И Алике стала беспорядочно выбрасывать на стол из коробочек жемчуга и бриллианты; она что-то искала в шкатулке и, наконец, нашла. Показывая королю перстень с изумрудами, она спросила:
— Вы помните этот перстень, ваше величество?
— Да, — ответил король, погруженный в свои мысли.
— А того, кому вы его дали?
Король утвердительно кивнул головой, ибо волнение, вызванное этим воспоминанием, мешало ему говорить.
— Бедный Уильям! — прошептала графиня. — Он тоже меня любил, но теперь спит в могиле. Его последними словами был совет. Он предчувствовал, ваше величество, что ваша любовь принесет мне горе, и предупреждал, чтобы я опасалась вас. Никогда у мужчины не было более чистых помыслов о любви, нежели у него; никогда мужчина не страдал больше, чем он, при мысли, что, умирая, он лишает поддержки ту, кого защищал до последнего дня. Он любил меня так, что я стыдилась своего счастья, когда он был рядом со мной. Меня, ваше величество, любили трое мужчин: Уильям, граф и вы; двоим из них я уже принесла несчастье. Уильям умер, и кто знает, что стало с графом? Возьмите перстень, ваше величество, и да будет Богу угодно, чтобы он стал вашим талисманом! Ну а теперь, — еле слышно сказала Алике, слабевшая с каждой минутой, — я пойду в молельню, чтобы немного побеседовать о прошлом с Богом, потом на моем ложе буду ждать прихода смерти. Тогда, ваше величество, если вид умирающей не слишком испугает вас, вы сможете войти ко мне в комнату, чтобы увидеть меня в последний раз.
С этими словами графиня, шатаясь, открыла дверь в молельню и ушла.
Король, оставшись один, опустился на колени и долго молился.
Едва он поднялся, как вошла камеристка графини и сказала, что госпожа ждет его в своей комнате.
Алике, одетая в белое, покоилась на своей постели, откуда сквозь открытое окно она могла видеть пейзаж, которым несколько минут назад любовалась вместе с королем.
— Прощайте, ваше величество, — сказала она, — наступает смерть, и я тяжко страдаю.
Лицо графини, действительно, исказили первые судороги агонии.
Король уже не мог ни плакать, ни говорить.
Он встал на колени на ступени, ведущие к постели, и припал губами к руке графини, бессильно свисавшей с ее ложа.
— Кто бы мог сказать, что я умру такой молодой и вдали от того, кого любила? — прошептала она.
— Умоляю вас, графиня, не проклинайте меня! — заклинал король. — Сколь бы ни были велики ваши муки, я страдаю гораздо сильнее.
Дыхание Алике участилось; жизнь, что еще билась в ней, сделала резкое усилие, после чего графиня с тусклыми глазами и зловеще-бледным лицом застыла в неподвижности, которую можно было бы принять за смерть, если бы не слышалось, как прерывистое дыхание приоткрывает побелевшие губы умирающей.
Так прошел час, ставший часом скорби.
Алике страдала только телом, а ее душа, что еще дышала на устах, казалось, каждое мгновение была готова отлететь в небеса.
Король, подавленный горем и воспоминаниями, выглядел мрачнее и отчаяннее, чем больной, перед кем раскладывают инструменты для мучительной операции.
Наконец Алике в последний раз произнесла имя своего мужа, сжала руку короля и испустила дух.
Но смерть не исказила черты ее лица, оно, наоборот, утратило последние следы предсмертных мук; ее рот приоткрылся, словно драгоценный сосуд, из которого вылетел последний аромат, а бледность щек, гармонирующая с белым платьем, придавала Алике вид мертвой невесты, отправляющейся на обручение к Богу.
Бог, без сомнения, внял ее молитве, ибо лицо ее озарила полная безмятежность. Алике оставалась такой прекрасной, что казалось, будто душа ее отправилась к Богу только вестницей чего-то, и что тело ждет, готовое принять ее снова, после исполнения некоей таинственной миссии. И так она была прекрасна, что Эдуард никак не мог на нее наглядеться и не верил, что эти уста, на которых он столько раз видел улыбку, уже не раскроются в вечной улыбке.
Яркие лучи солнца заливали комнату, освещая белое и девственно-чистое ложе умершей. В парке распевали птицы, как будто душа Алике, отлетая к небу, разбудила уснувший хор их голосов.
Король вышел из комнаты, спустился в сад и нарвал огромные охапки цветов. Потом он снова поднялся наверх.
Когда он вошел в комнату, ему почти почудилось, будто она сейчас с ним заговорит. Но ничто не изменилось, и лишь беглые тени от дрожащих листьев деревьев по-прежнему играли на невозмутимом лице прекрасной покойницы.
Король снова опустился на колени и, положив на ложе сорванные им цветы, сказал:
— Ангел, прими эти лилии и розы; они менее чисты и белы, чем твоя душа, душа, в которой я хотел бы заточить мою любовь и найти прибежище моему сердцу, прими благоговейное приношение вечного моего отчаяния.
Потом Эдуард, склонившись над ложем Алике, запечатлел на ее лбу прощальный поцелуй и, взяв колокольчик, громко позвонил.
Появился слуга.
— Графиня Солсбери скончалась, — объявил король и ушел, повергнув в изумление всю прислугу замка.
Король не пожелал уехать и остался на похоронах любимой женщины. Он вернулся в покои, что занимал много раз, когда граф еще жил в замке.
Солнце, которое Алике больше не приведется видеть, скрылось за горизонт, и, поскольку она всегда выражала желание покоиться на холме, что высился над замком, один из прежних служителей короля отправился за могильщиками.
Вечером в замок вошли трое мужчин.
Король слышал их шаги и, выйдя в коридор, подошел к двери комнаты, за которой покоилась умершая.
Тело Алике покрыли саваном; лицо ее скрывала белая вуаль, доходившая до самых ног.
Один из трех мужчин вошел в комнату, сделав остальным знак удалиться.
Тот, кто остался в комнате усопшей (Эдуард следил за каждым его движением), подошел к ложу.
Он приподнял саван, укрывавший Алике, и, опустившись на колени, прочитал молитву, после чего поцеловал покойницу в лоб.
— Да падет позор и проклятие на твоего убийцу! — шептал этот человек. — Мир и прощение твоей душе, несчастная мученица!
Услышав этот голос, король вздрогнул.
Человек стоял спиной к двери и, следовательно, к царственному зрителю этой сцены.
Когда тот, кто проник в замок под видом могильщика, снова прикрыл саваном тело графини и вышел из комнаты, Эдуард, по-прежнему прячущийся за дверью, прошептал, увидев его лицо:
— Граф!
Граф был совсем не тот, каким его знал король; никто не узнал бы его в этом мрачном человеке с поседевшими волосами, впалыми щеками и длинной бородой.
Король закрыл руками глаза, как делает человек, думающий, что он еще под властью сна, а когда открыл их снова, призрак уже исчез.
Тут в комнату Алике вошли другие могильщики.
Король последовал за ними.
— Где ваш товарищ? — спросил он.
— Он ушел, — ответил один из них.
— И не вернется?
— Нет.
— Кто этот человек? Тоже могильщик?
— Не думаю.
— Тогда почему он пришел вместе с вами?
— Уже давно он бродит по округе, а сегодня, когда узнал, что графиня умерла, пришел ко мне и предложил помочь при погребении. Он сунул мне горсть золотых монет, и я подумал, что не должен отказывать ему в этой просьбе.
— Ладно, — сказал король. — И где он теперь?
— Я не знаю.
Король подбежал к окну и при свете луны увидел тень, отдалявшуюся от замка; она остановилась на несколько мгновений, чтобы оглянуться, и скрылась в ночи.
— Это был он, — прошептал король.
И в глубоком раздумье пошел к себе в покои.
Переступая порог, король услышал первые удары молотка могильщика: это заколачивали гроб графини.
XVII
На следующий день, на рассвете, начались похороны.
Вспомните похороны Офелии в "Гамлете", и перед вами предстанет картина погребения Алике.
Останки благочестивой молодой женщины были зарыты в парке замка, в той стороне, что смотрела на восходящее солнце.
Потом могилу, осененную молитвами, засыпали цветами и залили слезами.
Король присутствовал на этой горестной церемонии и по ее окончании уехал в Лондон.
Нам нет необходимости описывать все, что происходило в его душе.
Поскольку он нуждался в том, чтобы отвлечься от своего горя, первым словом, сказанным им по приезде в Лондон было слово:
— Выступаем.
Эдуард не опоздал на условленную встречу. В день святого Иоанна Крестителя он двинулся в путь, простившись с королевой — несчастной женщиной: оказавшись между любовными увлечениями короля и его завоеваниями, она, казалось, навсегда была выброшена из сердца мужа.
Он доверил супругу попечению графа Кента, своего кузена, а блюстителями английского королевства назначил лордов Перси и Невила совместно с епископами Кентерберийским и Йоркским, кои, вероятно, составляли совет при принце Лайонеле, коему его отец с 25 июня вручил власть над всей Англией.
Но сколь бы значительным ни был этот поход, в стране оставалось достаточно славных людей, замечает Фруассар, чтобы опекать и защищать ее, если это потребуется.
Король приехал в Хэнтон, как было условлено, и ждал там попутного ветра, чтобы выйти в открытое море.
Кстати, великолепное это должно было быть зрелище — отплытие английского флота, который, словно туча стервятников, устремлялся к берегам Франции.
Действительно, если верить Фруассару (его обвиняли в том, что он преувеличил силы короля), Эдуард III вез с собой шесть тысяч ирландцев, двенадцать тысяч валлийцев, четыре тысячи рыцарей и десять тысяч лучников; но Найтон утверждает, будучи, однако, не в состоянии этого доказать, что число людей, сопровождавших короля, намного превосходило приведенное нами; Найтон называет тысячу двести больших кораблей, перевозящих армию Эдуарда, и шестьсот малых судов, предназначенных для транспортировки грузов.
Второго июля король поднялся на корабль.
Принц Уэльский и мессир Годфруа д’Аркур тоже взошли на королевский корабль.
За ними следовали: граф Херфорд, граф Норентон, граф Орендель, граф Корнуолл, граф Уорик, граф Хортидон, граф Суффолк, граф Аскфорт.
Среди баронов были: мессир Джон Мортимер, ставший позднее графом Ла Марч; мессир Жан, мессир Людовик, мессир Руайе де Бошан, мессир Реньо Кобхэм, мессир Монтбрей; сэр Рос, сэр Ласси, сэр Феллетон, сэр Брастон, сэр Муллетон, сэр Уэр, сэр Манн, сэр Бассет, сэр Берклер, сэр Уибб и другие.
Прибавьте к ним бакалавров Джона Чандоса, Вильгельма Фиц-Уоррена, Питера и Джона Додли, Роджера Ует-вэйла, Бартелеми Бруи, Ричарда Пенбриджа.
Из иностранцев на корабле находились мессир Ульфарт из Гистеля и несколько германских рыцарей, чьи имена не дошли до нас.
Эдуард по-прежнему был чем-то озабочен и ночью не сводил глаз с оставшегося позади горизонта, мрачного, как его мысли, и не приносящего королю никакого утешения.
Тогда Годфруа д’Аркур, не знавший о том, что заботит короля, и боявшийся, что его грусть объясняется теми опасениями, какие внушает ему исход совета, данного им королю, подошел к Эдуарду и сказал:
— Не тревожьтесь, ваше величество. Страна Нормандия — одна из самых красивых на земле, и я ручаюсь вам головой, что вы беспрепятственно высадитесь на берег. Тех, кто придет к вам, не надо будет опасаться, ибо эти люди никогда не брали в руки оружия. А цвет нормандского рыцарства в этот час находится вместе со своим герцогом под Эгюйоном. Вы найдете в Нормандии богатые города и зажиточные фермы, где вашим людям будет так хорошо, что они будут вспоминать об этом даже через двадцать лет.
— Я уверен, мессир, что вы могли дать мне только добрый совет, — ответил король, — поэтому печалит меня не будущее, а прошлое. Да пошлет мне Бог много славы и трудов, чтобы стерся из памяти моей тот день, воспоминание о котором испепеляет мои мысли!
И король снова глубоко задумался, и ни Годфруа д’Аркур, ни принц Уэльский не могли развеять его грусти.
Однако на горизонте начали вырисовываться берега Нормандии, напомнив Эдуарду о том, что ему предстоит исполнить великую миссию и что он, отвечая за жизнь тех, кто его сопровождал, должен предать забвению прошлое и думать лишь о спасении своих спутников и успехе собственных замыслов.
И тогда — так велика была власть этого человека над собой, — начиная с этой минуты он снова стал тем королем, которого мы знаем, и, казалось, полностью порвал с повседневной жизнью и человеческими чувствами.
У Эдуарда было холодное, как у северного орла, сердце.
Он, в самом деле, не пожелал никому доверить управление своим кораблем и стал сам себе адмиралом.
Похоже, что его хранил Бог, ибо он без происшествий вошел 12 июля в Хауг-Сент-Уэст.
Король Франции слышал о том, что Эдуард III собрал большую армию, и знал, что тот отплыл в Нормандию. Но ему было совершенно неизвестно о цели этого похода, и он ни на миг не догадывался, что же происходит.
Никаких мер принято не было, потому жители Котантена, напуганные всем увиденным, послали к Филиппу VI гонцов, поспешно прибывших в Париж.
Как только Филипп узнал о высадке англичан в Нормандии, он вызвал к себе коннетабля, графа де Гиня, и графа Танкарвильского, недавно приехавших из Эгюйона, и повелел им как можно быстрее отправиться в город Кан, чтобы защищать его от англичан.
Те, кого призвал к себе король, восприняли с радостью эту миссию и, мчась верхом без остановок, прибыли в Кан, где были встречены как спасители горожанами и беженцами. Они раздали оружие всем, кто находился в городе, и стали ждать врага.
Король Эдуард, высаживаясь в Хауге, в ту минуту, когда уже собрался ступить на землю, поскользнулся и упал так сильно, что у него носом пошла кровь. Рыцари, окружавшие его, подошли к нему и посоветовали:
— Ваше величество, возвращайтесь на корабль и весь день не сходите на берег, ибо это падение — дурной знак для вас.
Но король, вытирая лицо, сразу же с улыбкой возразил:
— Совсем наоборот, вы сами видите, как притягивает меня земля.
Всех обрадовал этот ответ и истолкование сего происшествия.
После этого англичане занимались лишь разгрузкой судов, доставкой на берег лошадей и вооружения.
Король, назначив маршалами Годфруа д’Аркура и графа Уорика, а коннетаблем графа Оренделя, приказал графу Хостидону оставаться на королевском корабле с сотней рыцарей и четырьмя сотнями лучников.
После этого на совете стали обсуждать, какими путями армия будет занимать Нормандию.
Было решено, что оба новых маршала и коннетабль разделят свои войска на три боевых корпуса: одна часть войска пойдет направо по берегу моря, другая часть — налево, тоже по берегу, тогда как король и его сын принц Уэльский направятся в глубь страны.
Три группы войск выступили в поход в условленном порядке.
Граф Хостидон, захватывая в море все французские суда, большие и малые, увозил их с собой; на берегу рыцари и лучники грабили и жгли все, что попадалось по пути.
Так они подошли к порту Барфлёр, жители которого при приближении англичан разбежались, оставив им много золота, денег и драгоценностей. Армия продолжала продвигаться вперед, но была она подобна не войску, а пожару; были разграблены и разрушены Шербур, Монбур, Валонь, а также немало других городов: перечислять их пришлось бы слишком долго.
Тем временем часть английской армии снова погрузилась на суда и высадилась на берег лишь у города Карантана, сдавшегося после недолгой осады, получив от англичан обещание, что его жителям будет сохранена жизнь.
Захватив Карантан, англичане, убедившись, что не могут оставить в нем гарнизона, сожгли город и увезли жителей, сдавшихся им на милость, на свои корабли, где карантанцы присоединились к жителям Арфлёра, не успевшим разбежаться и тоже силой уведенным англичанами.
Король Англии, послав вперед своих маршалов графа Уорика и мессира Реньо Кобхэма, как мы уже знаем, выехал из Хауг-Сент-Уэста, назначив главнокомандующим английской армией Годфруа д’Аркура, и поступил весьма разумно, ибо французский рыцарь лучше кого-либо другого знал в Нормандии все входы и выходы; к тому же он, подобно Роберу Артуа, хотел отомстить за себя Филиппу VI и никто, кроме него, не знал, где Франции можно нанести самый чувствительный удар.
Поэтому он с пятьюстами рыцарями в полных доспехах и двумя сотнями лучников в звании маршала пошел вслед за королем.
Он разграбил и пожег все на семь льё в округе, пригнав в лагерь Эдуарда III захваченных лошадей и стада великолепных быков; но он не сумел доставить английскому королю несметные богатства, которые награбили, но оставили себе его солдаты.
Каждый вечер Годфруа д’Аркур возвращался туда, где, по его сведениям, располагался на постой Эдуард III, а если он отсутствовал два дня, значит, край оказался богаче и грабить его надо было дольше.
Тем временем король продвигался к Сен-Ло в Котантене; но, не дойдя до города, он разбил лагерь на реке Вир, поджидая идущие берегом моря войска: он хотел с ними соединиться, чтобы продолжить поход.
Теперь мы вступили в череду событий и поражений, которые, кажется, должны были обескровить Францию, окончательно отдав ее в рабство Англии.
Но, как мы уже спрашивали в другой книге по поводу непрерывной борьбы этих двух великих держав, что в течение пяти веков вели единоборство: чем объяснить прилив, на протяжении пяти столетий приносящий к нам англичан и неизменно уносящий их обратно на остров? Не тем ли, что в равновесии миров Англия олицетворяет силу, а Франция — мысль? И не тем ли, что это вечное противоборство, эта бесконечная схватка представляет собой не что иное, как борьбу Иакова с ангелом, боровшихся всю ночь — лоб в лоб, бок в бок, колено в колено — до самого рассвета? Трижды оказывался Иаков на земле, но трижды восставал, и, оставшись непобежденным, стал отцом двенадцати колен народа Израильского, что распространился по свету.
В древности по обеим берегам Средиземного моря жили два народа, олицетворяемые двумя городами: они смотрели друг на друга так же, как смотрят друг на друга через пролив Франция и Англия. Этими городами были Рим и Карфаген; в ту эпоху в глазах всего мира они воплощали только две материальные идеи: Карфаген — торговлю, Рим — сельское хозяйство; Карфаген — корабль, Рим — плуг.
После Требии, Канн и Тразименского озера — этих римских Креси, Пуатье и Ватерлоо — Карфаген был уничтожен в битве при Заме, и победоносный плуг сровнял с землей город Дидоны, и соль была брошена в борозды, проложенные плугом, и адские проклятия обрушились бы на голову любого, кто попытался бы вновь отстроить то, что было уничтожено.
Почему же пал Карфаген, а не Рим? Неужели Сципион был более велик, чем Ганнибал? Нет, как и при Ватерлоо, победителя полностью покрыла тень побежденного.
На стороне Рима была мысль, он нес в плодоносном чреве своем слово Христа, то есть мировую цивилизацию. Рим был подобен маяку: он был столь же необходим векам минувшим, сколь необходима Франция векам нынешним.
Вот почему Франция воспряла с полей сражений при Креси, Азенкуре, Пуатье и Ватерлоо.
Вот почему Франция не пошла на дно в Абукире и Трафальгаре.
Католическая Франция — это Рим, а протестантская Англия — всего лишь Карфаген. Англия может исчезнуть с поверхности земли, и полмира, над которым она господствует, встретит это рукоплесканиями.
Если же свет, что сверкает в руках Франции — будь то лампа или факел, — померкнет, то весь мир испустит в потемках великий вопль агонии и отчаяния.
Теперь, в ожидании результатов будущего, мы снова вернемся к рассказу о событиях прошлого.
Когда король Франции узнал, как безжалостно англичане грабят и жгут его прекрасный край Нормандию и каким образом Эдуард проник в Котантен, он поклялся, что англичане не вернутся назад, будут разбиты и дорого заплатят за причиненные ему огорчения.
Поэтому он срочно разослал письма всем, кого мог призвать на помощь. Прежде всего он обратился к королю Богемскому (он очень любил его и пользовался взаимностью), к мессиру Карлу Богемскому, его сыну, что уже звался королем германским и прибавил к собственному гербу имперский герб.
Король Франции очень настойчиво просил их присоединиться к нему, чтобы вместе пойти на англичан, опустошавших его страну.
Эти двое пришли и привели собранных ими рыцарей.
Потом на помощь королю Франции подошли граф Сомский, граф Фландрский, граф Гийом Намюрский и мессир Иоанн Геннегауский, на дочери которого женился Людовик Блуаский.
Но пока Филипп рассылал свои послания, а люди, желавшие ему помочь, собирали войска, Эдуард продолжал одерживать победы в Котантене и Нормандии.
Правда, Эдуард продвигался очень медленно, ибо край был столь богат, что король Англии сожалел бы потом, что не все разграбил; продвигаясь не спеша, он захватывал больше добычи.
Изумление и ужас нормандцев было странно видеть, потому что до сего времени они никогда по-настоящему не воевали и не сражались; они не желали защищаться и спасались бегством, оставляя врагу свои битком набитые амбары.
Вследствие этого Сен-Ло, где было восемь или девять тысяч жителей, был захвачен и разграблен.
"Не найдется человека, который мог бы поверить, даже представить себе то великое количество добра, что взяли тут англичане, — пишет Фруассар, — и великое изобилие сукна, что они нашли в городе".
К несчастью, англичане не знали, кому продать эти сукна, так что все эти богатства были потеряны для одних, не принеся выгоды другим.
Между тем Эдуард подходил к городу Кан, который, в отличие от других, не намерен был сдаваться. Кроме того, что гарнизоном города командовал доблестный и храбрый нормандский рыцарь, по имени мессир Робер де Вариньи, мы напомним, что на защиту Кана король Франции послал графа де Гиня и графа Танкарвильского.
В то время Кан был одним из крупных городов Франции; в нем было без счета лавок и товаров, очень много благородных дам и красивых церквей.
Особенно славился Кан двумя большими монастырями ордена святого Бенедикта — мужским и женским, располагавшимися в разных концах города.
Замок, где стоял гарнизон в три тысячи генуэзцев, был одним из красивейших и мощно укрепленных замков Нормандии.
Наконец, со всех точек зрения город был достоин того, чтобы вызвать вожделение Эдуарда, который ради Кана пренебрег городом Кутанс.
Король Англии разбил лагерь в двух льё от Кана; видя это, коннетабль Франции и другие съехавшиеся в город сеньоры вместе с горожанами — им предварительно раздали оружие — собрались на совет, чтобы обсудить, как они будут выдерживать осаду.
В итоге было решено, что никто не покинет город, что сеньоры и горожане, аристократы и простолюдины будут охранять ворота, мост и реку, служившую городу единственной защитой с одной стороны.
Но горожане с нетерпением рвались в бой; они заявили, что не только не будут ждать врагов, но даже пойдут им навстречу.
— Да свершится воля Божья! — воскликнул коннетабль. — Я даю вам клятву, что вы будете сражаться вместе со мной и моими людьми.
Они в довольно стройном порядке вышли из города и все были готовы не щадить своих жизней.
Но здесь поистине остается верить в судьбу и в то, что Бог, казалось, отвратил свой взор от тех, кого на мгновение воодушевил.
Действительно, едва горожане, которые всего несколько минут назад были настроены столь решительно, увидели, что на них медленно надвигается английская армия, как их мужество улетучилось.
Английские отряды, сплоченные теснее, чем колосья в поле, шли, развернув знамена и рыцарские стяги, и казались тем людским прибоем, перед которым ничто не устоит.
Когда жители Кана увидели, как невозмутимые английские лучники надвигаются на них словно железная стена, их охватил такой ужас, что они побежали; если бы даже за их спиной поставили двойную шеренгу врагов, чтобы их остановить, то все равно не смогли бы этого добиться.
Все вернулись в город, вопреки воле коннетабля, но поскольку каждый хотел попасть в город первым, то в давке у ворот многих затоптали.
Коннетабль Франции, граф Танкарвильский, а также другие рыцари заняли укрытие при входе на мост, ибо они поняли, глядя, как бегут их люди, что больше надежды спастись нет. Англичане уже вступили в город и беспощадно убивали всех, кто попадался на пути.
Многие горожане укрылись в замке, где их принял мессир Робер де Вариньи, и поступили благоразумно, ибо замок был богат припасами и сильно укреплен.
Тем временем от ворот, где они прятались, коннетабль Франции и граф Танкарвильский наблюдали за истреблением своих товарищей по оружию, которых не могли защитить. Англичане шли вперед так быстро, что коннетабль и граф сразу поняли: скоро они доберутся и до них.
— Мне очень любопытно знать, — с улыбкой сказал граф Танкарвильский, — что предпримет Бог, чтобы вытащить нас отсюда.
— Я лишь знаю, — возразил коннетабль, — что англичане не поступят с нами как со всем тем сбродом, что сразу же разбежался.
— Во всяком случае, — ответил граф, — поскольку мы не знаем, что с нами будет, давайте пожмем друг другу руку, мессир, и если один из нас уцелеет, то пусть скажет: "Я видел, что другой погиб достойно".
Они обнялись и стали ждать. Через несколько минут граф Танкарвильский стал внимательно всматриваться в группу рыцарей, ехавших в их сторону, а так как яркое солнце мешало ему, козырьком приложил к глазам руку, чтобы лучше их разглядеть.
— Что это вы там высматриваете? — обратился коннетабль к графу Танкарвильскому.
— Я высматриваю, — ответил граф, — способ, который Бог использует, чтобы нас спасти; это я и хотел узнать.
— Что же вы хотите сказать?
— Хочу сказать, что либо я сильно ошибаюсь, либо нам еще доведется увидеть другие сражения, а не только это, ибо к нам едет один из моих старых знакомых; он будет так же рад встретиться со мной, как и я с ним.
Тем временем упомянутый нами небольшой отряд подъезжал все ближе; уже можно было без труда разглядеть лица всадников.
Тут граф опустил руку, сказав коннетаблю:
— Это он!
— Кто, он? — спросил граф де Гинь.
— Вы хорошо видите человека, что едет впереди шести других?
— Вижу. У него один глаз?
— Да.
— Ну и что?
— Это мессир Томас Холэнд.
— И кто же он?
— Когда-то он был только моим попутчиком, а сегодня он мой друг.
И поскольку тот, кого назвал граф Танкарвильский, находился так близко, что можно было слышать его голос, граф крикнул:
— Вы ли это, мессир Томас?
— Я, — ответил рыцарь.
— А не вы ли путешествовали когда-то по Испании и Пруссии?
— Конечно, я.
— Помните ли вы графа Танкарвильского: он вас там встретил и ездил вместе с вами?
— Это был славный рыцарь, о ком я сохранил добрую память, — ответил Томас. — Что с ним сталось?
— Он и говорит с вами, а в обмен на добрую компанию, которую вы ему составляли, и на добрую память, что вы о нем сохранили, он хочет сегодня предложить вам выгодное дело.
— Слушаю вас, мессир, — ответил Томас Холэнд. — Но предупреждаю вас, что больше всего я желаю доставить вам удовольствие, а не заниматься делом, сколь бы выгодным оно ни было.
— Отлично, мессир! Вы получите сразу два удовольствия, ибо перед вами граф де Гинь; в тот день, когда его возьмут в плен, он будет стоить пятьдесят тысяч золотых монет; граф сдастся вам, что, кстати, сделаю и я, но при условии, если вы повернете назад и прекратите это страшное побоище.
— Счастливый случай! — воскликнул мессир Томас. — Сто тысяч золотых монет и удовольствие оказать услугу двум славным рыцарям выпадают не каждый день. Подождите меня немного, господа, ибо я хочу, чтобы вы сдержали свое слово лишь тогда, когда я сдержу свое.
И с этими словами мессир Томас вернулся на городские улицы, и, объявив о своей добыче, прекратил бойню. Когда он вернулся назад, два графа и двадцать пять рыцарей сдались ему.
Назад: Часть первая
Дальше: Часть вторая

