Несколько двойников
Вновь заиграла музыка, и медленно стал подниматься самый большой занавес, а занавес перед музицирующими куклами опустился, видимо, для того, чтобы оркестр не отвлекал внимание зрителей от главного действия. Я наклонился вперед в напряженном ожидании. Воркотня в зале затихла, зато теперь было слышно оживленное щебетание птиц.
На сценических декорациях была изображена улица с мастерски исполненными старыми обветшалыми домами, над которыми всходило окутанное туманом, искусно нарисованное солнце. Смена света – от полутемного до светлого – и музыка, напоминавшая сюиту Грэвида Града, означали прорыв и пробуждение, то есть утреннюю сцену. Некоторые из домов, очевидно, были обычными книжными или букинистическими лавками с выставленными перед ними стопками книг. Минутку! Я даже знал эту улицу! Мне сразу бросились в глаза ее архитектурные особенности, которые каким-то образом были связаны с антикварными книгами, – крыша в форме раскрытой книги, кирпичи в виде книги и так далее. Это ведь была… точно: это была улица, на которой располагалась антикварная лавка Хахмеда бен Кибитцера! Улица Канифолия Дождесвета, на которой находились некоторые из самых популярных антикварных магазинов. Одна из классических достопримечательностей города, уцелевших, к счастью, после книгородского пожара. Значит, действие разыгрывалось в Книгороде, так-так. В действительности улица получилась очень удачной. Точнее говоря, она была прекрасно сымитирована, вплоть до самых мельчайших деталей. Каждая оконная рама, каждый кровельный гонт, даже дверные ручки были воспроизведены с невероятной тщательностью. Удивительно удачные декорации для кукольного театра!

Неожиданно в одном из домов на первом этаже распахнулось окно, и из него выглянула кукла с растрепанными волосами, которая очень напоминала ужаску. Среди публики раздалось несколько смешков. Потом она запела хриплым голосом:
«Книгород – Город Мечтающих Книг!
Книгород – крепость убогих поэтов!
Книгород – город, пронизанный светом
Пестрых огней!»
Отворилось второе окно, и кукла-полугном, высунувшись из окна, тоже заголосила:
«Только в нем и горит
Орм разномастно и разнообразно.
Книгород – город живой и прекрасной
Ли-те-ра-ту-ры!»
Открылись третье, четвертое и пятое окно. В них тоже появились куклы и запели во все горло:
«Книги здесь видят чудесные сны
О временах, когда были ростками,
Или деревьями, или листами.
В городе этом реальными станут
Рифмы, сюжеты, хмельные мечты!»
Я скорчился в своем кресле. Что за ужасный текст? И почему они его, собственно, пели? Это ведь зингеретта! Именно! Ее еще грубо называют «Роман о йодлере» или «Опера об идиоте» – переложенное на незамысловатую музыку, предназначенное для сцены произведение популярной литературы. Не относящийся к моим предпочтениям жанр искусства, мои дорогие друзья! Абсолютно нет! Большинство зингеретт были популярным музыкальным товаром массового производства, и возникали они в результате грубой переработки лежащего в их основе литературного материала и безжалостного превращения его в горстку плохо рифмованных песенок, которые потом преподносились легко впечатляемым любителям удовольствия, которые быстро попадают в ловушку для туристов, таких как, например, я. Черт подери! Я ведь предполагал, что этот вечер плохо кончится! Теперь я в течение двух часов должен слушать вопли поющих кукол, которые трижды свернули шею произведению какого-то достойного сожаления писателя. Грандиозно! Такое случается, когда доверяешься художественному вкусу ужаски. Той, кто предсказывает будущее по экскрементам жабы! Кто пьет в полнолуние собственную мочу! Ужаски этим отличаются! И этой эзотерикой я должен испортить себе вечер. В городе, который полон интересных культурных предложений! Я стал механически жевать большой палец (я всегда это делаю, когда меня злит что-то, чего я не могу изменить). Проклятье! В течение первого акта я был вынужден оставаться в зале, но, может быть, в перерыве мне удастся удрать, сославшись на плохое самочувствие. Ложь – это ведь моя профессия.
На сцене появлялось все больше самых разнообразных персонажей. Они пели, высовываясь из окон и дверей и появляясь из-за стопок книг и ручных тележек, напоминая кукол, надетых на руку. Среди них были марионетки, которые важно шествовали по улице, а также куклы в полный рост, прогуливающиеся возле домов, – кукловоды, которые облачились в костюмы. В течение короткого времени сцена быстро заполнилась гротескными фигурами, являя собой живописную картину, которая очень напоминала жизнь улиц Книгорода: я видел оборванных поэтов с их не пользующимися спросом рукописями под мышкой, бесцеремонно толкающихся агентов-кабанчиковых, сутулых книготорговцев, которые тащили связки антикварных томов от лавки к лавке, удивленных туристов, которые передвигались под фонарными столбами. Разносчики с книжными тележками, ходячие рекламные брошюры, проворные «живые газеты» – и повсюду замаскированные либринавты в полной экипировке. Был даже танцующий трубочист на крыше и поющие крысы в вытяжной трубе. Все было сделано с любовью, согласен, и это многообразие образов, тщательность и комичность в инсценировке вновь вернули бы мое расположение к происходящему, если бы текст не был столь ужасен:
«Книги здесь видят чудесные сны, —
вновь пропели куклы припев. —
О временах, когда были ростками,
Или деревьями, или листами.
В городе этом реальными станут
Рифмы, сюжеты, хмельные мечты!»
Одну минуту! Мне только сейчас пришло это в голову! Ведь это был мой текст! Неудачно сокращенный и переработанный Мифорез! «Книги здесь видят чудесные сны о временах, когда были… деревьями…»
Конечно, это была моя интеллектуальная собственность, это ведь следовало из моего… Я страшно испугался и прервал собственные размышления. Причиной этого было нечто неслыханное, что происходило на сцене: а именно тот факт, что там как раз появился я!
В цамонийской литературе, о мои дорогие друзья, уже неоднократно поднималась эта тема – встреча с собственным двойником, – и, главным образом, это считалось признаком начинающегося безумия. Поэтому я могу только надеяться, что мое следующее замечание не будет толковаться как метафора: так как то, что появилось на сцене, действительно выглядело точно так же как то, что я не без определенного удовлетворения видел в зеркале! Моя точная копия! А когда со своим собственным отражением встречаются не в зеркале, то можно все же отчасти усомниться в том, что с рассудком все в порядке. В течение жуткого отрезка времени мне казалось, что две обезьяны из того номера с трапециями хотели вырвать мой мозг и разделить его на две части, как они сделали это со своей подругой. Я хотел вскочить, убежать, провалиться в кресле, пробудиться от этого кошмарного сна, закричать, раствориться в воздухе, смеяться и плакать одновременно – так, должно быть, на самом деле проявляется безумие! В действительности же я еще больше склонился над парапетом и беспомощно наблюдал за происходящим на сцене, пока толчок в бок не вывел меня из транса.
– Сюрприз удался! – прохрипела ужаска торжествующе. – Я едва не проболталась! Мне пришлось даже прикусить язык. Как тебе кукла Мифореза, а? Согласись, она великолепна! Ты испугался самого себя, как привидения! – Инацея бесчувственно засмеялась.
Меня прошиб холодный пот. Ну, конечно, кукла! И текст был из моих книг. Они инсценировали что-то из моих произведений. Я не потерял рассудок! Мой мозг не был разорван на две части! И я не проведу мою дальнейшую жизнь в камере с мягкими стенами. Как радостно было осознавать это. Я упал в кресло, с трудом переводя дыхание.
– «Город Мечтающих Книг»! – прошептала Инацея, обмахиваясь тонкими пальцами. – Твоя книга о Книгороде! Вот что сегодня будут показывать!
Теперь музыка напоминала темпераментную симфонию «Атлантида» Швенджа Орджирга, которая впервые придала художественную выразительность суете современных цамонийских мегаполисов. По меньшей мере, оркестр пытался осуществить необычную идею – передать шум и мотивы городской жизни музыкальными средствами. Ритмичная игра скрипок и щелканье кастаньет, поддерживаемые духовыми, производили впечатление толчеи и сутолоки, создаваемой кукольной толпой, которая гнала удивленного Мифореза через деловой Книгород. Изображенные на декорациях дома вырастали из пола сцены, упираясь в театральное небо. Кукла, изнуренная всей этой суетой, плелась по улице, напрасно стараясь извлечь из своей прогулки оптимальные впечатления. Ужаска посмотрела на меня с ухмылкой. Я попытался расслабиться, откинувшись назад и сконцентрировавшись на происходящем на сцене.
По ней тяжело шагали охотники за книгами. Марионетки, размером в реальный человеческий рост, свешивающиеся с театрального неба, управлялись с помощью толстых тросов под угрожающие удары тромбона и грохот литавр. Их костюмы удивительно напоминали настоящие – от боевой брони до пугающих шлемов и смертоносного оружия. В свое время они действительно выглядели именно так, насколько я помнил, содрогаясь от ужаса. Механические движения марионеток вполне соответствовали этим бесчувственным воинственным машинам.
– Сейчас будет ольфакторное соло, – объявила ужаска как бы между прочим. – Перед этим тебе лучше еще раз высморкаться! – Она и сама достала носовой платок и прочистила нос. Я заметил, что некоторые зрители сделали то же самое. Потом неожиданно весь зал стал сопеть и фыркать.
– Почему я должен это делать? – спросил я. – У меня нет насморка.
– Ты ничего не ощущаешь? – ответила ужаска вопросом на вопрос.
И точно! Только сейчас я понял, что с тех пор, как началось представление, я ощущаю множество разнообразных запахов. Например, аромат свежеиспеченного хлеба или только что смолотого кофе. Хрустящего бекона к завтраку. Я думал, что эти запахи идут из театрального кафе и лишь по случайному совпадению соответствуют утренней атмосфере, царящей на сцене. Наверное, ужаска имела в виду именно это. Прежде чем я успел спросить ее о чем-либо еще, раздались громкие аплодисменты. Поднялся один из малых занавесов, хотя действие на большой сцене было в самом разгаре. Открылся вид на странные декорации величиной с одноэтажный дом.
Были ли это вообще декорации? Или, может быть, какая-нибудь машина? Это могло быть также частью отопительной системы театра – я не имел об этом ни малейшего представления, мои дорогие друзья! Если это была машина, то ее конструктор проявил определенное чувство юмора, потому что я никогда еще не видел такого потешного аппарата. Он состоял в основном из стекла и металла, из склянок и трубок, из пробирок и баллонов, спиралей и колб, из цилиндров, реторт, охлаждающих змеевиков, воронок и других бесчисленных сосудов, которые замысловатым образом были связаны между собой с помощью трубок и шлангов. Часть этих сосудов была заполнена разноцветными жидкостями, а другая часть – различными агрегатными структурами: то светлыми и жидкими, как туман, то черными и густыми, как чернила, то розовыми и мерцающими, то желтыми и светящимися. Жидкости, газы и туман текли и перекачивались через систему трубок таким занимательным образом, что уже одно это заслуживало того, чтобы наблюдать за таким зрелищем. Но главная притягательность происходящего на этой второстепенной сцене заключалась не в системе труб шокирующей инсталляции. О, нет! А в том, что было непосредственно перед ней. Это был житель Нибельгейма, Туман-города, который стоял у сложного прибора и управлял им.
О да, мои дорогие друзья, вы правильно поняли: это был нибелунг. Вы помните их, не так ли? Вообще-то увидеть на сцене театра Книгорода настоящего нибелунга было так же невозможно, как встретить на улицах города настоящего охотника за книгами, так как и то, и другое было незаконным. Нибелунги сыграли в махинациях Фистомефеля Смейка настолько бесславную роль, что после последнего пожара они все были изгнаны из Книгорода. Этот призрачный тип на сцене не мог быть реальным.
– Это… кукла? – спросил я Инацею неуверенно.
– Нет, – прошипела она в ответ. – Он настоящий.
– Живой нибелунг? Здесь? Я думал, что в Книгороде им запрещено посещать какие-либо заведения.
– Ты действительно давно здесь не был, – прошептала ужаска. – За это время кое-что изменилось, мой дорогой! Книгород – толерантный город. Мы не можем позволить себе изгнать из города целый вид только потому, что несколько их собратьев перешли все границы.
– Перешли все границы? – возмутился я. – Нибелунги помогли Фистомефелю устроить промывание мозгов половине населения этого города! Ты тоже это испытала! На собственной шкуре! Они…
– Успокойся! – попыталась меня утихомирить ужаска. – Этот, на сцене, не был в их числе. В то время он еще не родился! Расслабься! Некоторые вещи нужно уметь забывать.
Я заметил, как некоторые зрители повернули головы в нашу сторону, и услышал, как кто-то нервно прошипел «тс-с-с!». Только одно может быть хуже, чем болтун во время культурного мероприятия: самому оказаться этим болтуном. Я замолчал.
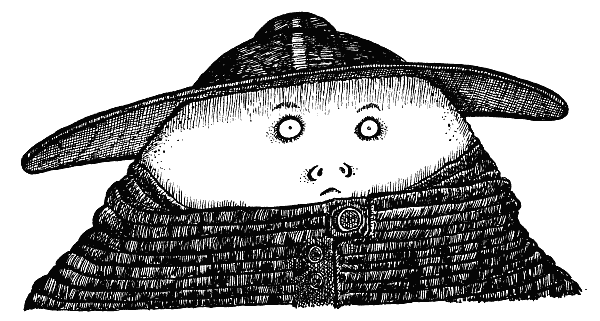
Но нибелунг на сцене все же не давал мне покоя. Он стоял прямо и непоколебимо, как фонарный столб, среди причудливого сплетения покрытых серебром и золотом трубок, оснащенных бесчисленной арматурой, клапанами и кранами, манометрами и термометрами. В соответствии с неизменной модой, принятой у этих зловещих жителей северо-западного цамонийского побережья, он был одет в черный костюм, который, как и плоская шляпа, составлял резкий контраст с его молочно-белой кожей. Позади него веером расходилось множество огромных латунных трубок, устремляющихся под различными углами вверх и заканчивающихся поворотными клапанами, которые непрерывно бесшумно открывались и закрывались. Прямо перед нибелунгом-органистом располагался ступенеобразный пульт управления, и из него торчали минимум две сотни регистровых рычагов с фарфоровыми ручками, которыми тот беспрестанно манипулировал. При этом время от времени он наступал одной ногой на деревянные педали, выступающие из пола сцены. Нибелунг! Я все еще не мог в это поверить.
– Ты счастливчик! – прошептала ужаска, схватив меня за руку. – Это не просто какой-то там нибелунг! За органом Октобир ван Кракенбейн! Лучший аромаорганист во всем Книгороде.
– Орган? – прошептал я в ответ. – Так это музыкальный инструмент? Что такое… что такое аромаорганист?
Ужаска посмотрела на меня тем взглядом, который она держала наготове для туристов из провинции, когда те забегали к ней в лавку и спрашивали дорогу.
– Это ольфакторный аромаорган для создания обоняемой декорации, – объяснила она шепотом. – Он существует только в Книгороде. Только в этом театре! Он дополняет инсценировку не только музыкой, но и запахом. Видеть – слышать – обонять! Даже слепой знает, что происходит на сцене, если используется аромаорган. Игра на этом инструменте – это уже форма искусства сама по себе. В Книгороде всего семь аромаорганистов, но Октобир по своей виртуозности значительно превосходит всех остальных. Он сам изобрел и сконструировал этот инструмент. Великий мастер ольфакторного оформления помещения! Его сочинения имеют самый лучший аромат. Внимание! Соло начинается!
В то время как на главной площадке продолжалась уличная сцена в сопровождении музыки, но без пения, нибелунг не делал ничего, кроме того, что вытягивал рычаги на своем пульте управления и опять их вдавливал, время от времени нажимая на педаль. Он исполнял это со стоическим достоинством, при этом ни разу не изменив серьезное выражение лица, как будто управлял установкой для сжигания в крематории. Жидкости и пары в органе реагировали на это с достойной внимания живостью: они вскипали, сгущались, разжижались, вспыхивали и горели, шипели и бурлили. Запорные клапаны свистков органа открывались и закрывались с такой быстротой, что глаза не успевали за этим следить.
На большой сцене кукла Мифореза продолжала между тем блуждать по улицам Книгорода, виды которого изображались с помощью все новых декораций, мимо которых она проходила. Дома, башни или городские стены вырастали из пола или свешивались с театрального неба, чтобы потом опять исчезнуть и быстро смениться новой декорацией. Дробь литавр стала более частой, а гобои и кларнеты звучали все более суетливо.
Я поднял голову и почувствовал запах. Именно так пахло тогда в городе книг, когда я впервые бродил по его улицам. Пахло только что обжаренными зернами кофе из пакета, которые многие жители Книгорода так любили погрызть во время чтения. Испеченным на противне, дымящимся пирогом с лимонным творогом. Подгоревшим тостом и ванильным чаем. Свежей типографской краской. Ничто не обладает такой памятью, как нос! Аромата мелиссы или смолы, запаха клубники или скошенной травы может быть достаточно, чтобы через десятки лет вернуть меня в прошлое. Но здесь в воздухе было еще больше запахов, значительно больше! Если бы меня спросили, видел ли я на сцене кожевенное производство, оптовый магазин клея или столярную мастерскую, то я бы без колебаний утвердительно ответил на этот вопрос. Кроме того, я был убежден, что на декорациях изображены магазины мыловара, вафельщика и парикмахера, хотя эти изображения отсутствовали. Аромаорган ввел меня в заблуждение запахами дубленой кожи, книжного клея и только что снятой стружки, а также ароматом мыла, испеченных вафель и туалетной воды. Этого было достаточно моему мозгу, чтобы нафантазировать себе целые улицы с витринами и рекламными щитами, которых вовсе не было. Ольфакторное оформление помещения! Архитектура для носа! Теперь я понял, что имела в виду ужаска.
Я видел, как нибелунг обратил свой долгий выразительный взгляд на публику, чтобы потом опять вернуться к своей мудреной аппаратуре и с максимальным хладнокровием вытягивать один за другим регистры на пульте управления. Я задавался вопросом: что за странное смешение запахов я ощутил, когда на зал накатила аромоволна. Это было грандиозно! Мы почувствовали запах каминного дыма и туалетной воды, яичницы и пота подмышек, «убежавшего» молока и машинного масла, кошачьей мочи и лошадиного навоза, ромашкового чая, сгоревшего жира и пленительный аромат срезанных роз из цветочного магазина. Мы ощутили запах остатков пива из пивных погребков, камфары и испарений эфира из аптек, чая «Шляпа колдуньи», супа из черной белены из ужаскомистических травяных лавок, свиной крови из мясной лавки, свежих газет, горячих булочек. Мы вдыхали все те запахи, которые можно ощутить каждое утро в пробуждающемся городе. Но потом появился этот, который нельзя было спутать ни с чем и которого не было ни в одном другом городе Цамонии: запах Мечтающих Книг, который поднимался из «хоботов» Книгорода. Ужаска ткнула меня локтем в бок и ухмыльнулась. Я онемел.
Потом послышались всякие звуки! Я ни в коем случае не намерен оставить без внимания то звукоподражание, которое обеспечили квалифицированные звукооформители театра для сопровождения представления, мои дорогие друзья! Я сознательно говорю «звукоподражание», а не какое-нибудь «скопище звуков» или «шумовой фон», чтобы указать на художественный уровень, которого достигло это ремесло в Кукольном Цирке «Максимус». Каждый удар молота и каждый звук колокола, пение петуха и лай собаки, скрип колес автомобиля на щебне или его стук по булыжной мостовой, щебетанье птиц, детский крик и гул голосов – все это соединялось в отдельные мелодии и ритмы, которые по своей точности и гармонии едва ли уступали музыкальному сопровождению оркестра. Я находился в гигантской, хорошо смазанной, прекрасно работающей театральной машине, в которой все – от мельчайшей детали реквизита до последней трели флейты – было на своем нужном месте.
– В действительности то, что ты видишь, – объяснила мне ужаска насколько можно тихо, – всего лишь небольшая часть инструмента! Вершина айсберга, так сказать. На самом деле связанная с органом система труб проходит через весь театр подобно кровообращению или нервной системе. В полу, в стенах и даже здесь, в ложе, скрываются мельчайшие форсунки, которые орошают нас невидимыми ароматическими веществами. Кибитцер считал, что они, скорее всего, работают на дополнительном газе, который может мгновенно нейтрализовывать и сепарировать запахи. Иначе вся органная система производила бы единый смешанный и, вероятно, невыносимый запах.
– В этом есть доля правды! – прошептал я в ответ. – Кибитцер – это… – Я запнулся. – Я хотел сказать, что у Кибитцера была светлая голова.
– Ходят даже слухи, – проворчала ужаска, – что вообще-то тот инструмент на сцене не настоящий орган, а всего лишь муляж, гламурная машина обмана, а настоящий орган находится где-то в другом месте и выглядит совсем непрезентабельно, и что этот органист вовсе не нибелунг, а мастерски изготовленная кукла.
– Я ведь говорил! – вскричал я торжествующе.
– Но это не так! – ответила Инацея, отмахнувшись. – Это глупости.
– Откуда ты знаешь?
– Ужаски чувствуют это.
Убийственный аргумент ужасок! Когда у них заканчиваются рациональные аргументы, они подключают свои таинственные ощущения! Свои чувства и представления! Свои тайные познания! Дискусии в этом случае бесполезны, потому что оппонент все равно останется в проигрыше. Меня же отчасти беспокоила мысль о том, что органист, возможно, не являлся туманградцем.
Между тем действие на сцене развивалось. Мое первое пребывание в Книгороде было представлено в драматургически сокращенном виде. Целая глава моих описаний была ужата до небольших диалоговых сцен. Например, моя встреча с Овидосом на Кладбище забытых писателей, которая в сценическом варианте продолжалась всего несколько секунд. Или чтение книги Канифолия Дождесвета, которое в действительности продолжалось целую ночь. К тому же показали куклу Мифореза, которая, стоя на улице, изучала описание катакомб, взяв книгу у разносчика, в то время как я честно приобрел ее и читал в кафе. Эта сцена разыгрывалась на фоне огромного, уходящего вниз проспекта размером со стену дома. Его изображение чем-то напоминало карту сокровищ, завещанную мне Кибитцером. Схожесть заключалась главным образом в вертикальном расположении катакомб, но в отличие от точной картографии Дождесвета лабиринты здесь были изображены в соответствии с требованиями средневековья. Здесь можно было увидеть пещеры и туннели в разрезе, в которых на книжных сокровищах располагались такие жуткие чудовища, как драконы, гигантские пауки и тролли, пожирающие охотников за книгами. Или мотивы, напоминающие страшные сказки, в наивной манере ранних книжных иллюстраций с фальшивой перспективой и большим количеством сусального золота. Очень мило! При этом заиграла монотонная музыка, и какой-то голос (возможно, он принадлежал Канифолию Дождесвету) тоном, характерным для баллады, запел о подземных приключениях, в рифмованной и сокращенной форме вспоминая их историю:
«И потом неведомо откуда,
Из далекой, призрачной земли,
Книжники явились, но – о чудо! —
Свои книги спрятали они.
В ящиках без воздуха и света
Те томятся в темной глубине,
Где поныне скрыты, и приметы
Того места сгинули во тьме.
Бесконечен поиск фолиантов,
Бесконечен, неизвестен путь.
Спят они, и свет настольной лампы
Не проникнет в тайную их суть».
Припев был все время один и тот же:
«Лабиринт прекрасен и опасен,
Радость книг в элизиуме. Хлам,
Пыль и переплеты старых басен —
Вниз спускайся и погибни там!»
Это был, конечно, намек на последнюю бессмертную симфонию Евюбета ван Голдвина, из которой была позаимствована и мелодия для баллады. Это, правда, был дерзкий, но все-таки удачный плагиат! Если уж воровать, то только лучшее – таков и мой девиз!
Потом кукла на большой сцене наконец дошла до букинистической лавки Кибитцера. Музыка стала затихать. Большой занавес опустился, а на малой сцене почти одновременно поднялся. И на сцене опять появился я – или мой кукольный двойник. На сей раз в полном одиночестве, при скудном освещении, окруженный темнотой. Но из пола сразу выросли стопки книг, вперед выдвинулись стеллажи, полные фолиантов. Стало немного светлее. Легкая дымка сгустилась в желтые облака, и тогда я ощутил ее запах – уникальный аромат эйдеитической книжной пыли, которую могут порождать только произведения доктора Абдула Соловеймара, профессора.
– Это невероятно! – проговорил я, жадно глотая воздух. – Запах как в букинистической лавке Кибитцера!
Ужаска безмолвно тронула рукой мое плечо. Неожиданно вспыхнула свеча, как будто ее зажгла рука демона, и затем из темноты появился странный образ с огромными светящимися глазами. Хахмед бен Кибитцер, почти как в реальной жизни! Если бы его дух появился в нашей ложе, он вряд ли теперь меня напугал бы. У меня чуть было не вырвался пронзительный крик, и я вдруг снова осознал, на чьем стуле сижу! В глазах моих закипели слезы. Я хотел вскочить, но Инацея остановила меня, успокаивающим жестом взяв меня за руку.
Кукла Кибитцера была действительно призрачной, прежде всего, если знать, что она воплощала умершее существо. Ею управляли с помощью тростей облаченные в черные костюмы кукловоды, которых едва ли можно было разглядеть в сумеречном свете и о которых тотчас забывали, как только кукла начинала исполнять роль. Для меня было загадкой, как они подсвечивали изнутри глаза куклы и так блестяще имитировали дрожащий голос Кибитцера, который был отчетливо слышен в каждом уголке театра, как будто он шептал каждому прямо в ухо! Казалось, что он явился с того света, чтобы самому исполнить свою роль. Послышались потрескивание древоточцев в древесине книжных стеллажей и гудение из тройного мозга Кибитцера. Я почувствовал запах заплесневелой бумаги и старой кожи. В зале стояла полная тишина.
Но потом вместо драматической сцены последовал остроумный юмористический диалог между мной и эйдеитом, которого в действительности не было ни в настоящей жизни, ни в моей книге. Но это вообще не играло никакой роли, так как он не только точно отражал суть наших с Кибитцером воинствующих отношений, но и веселил публику. Диалог завершился тем, что Кибитцер выставил меня за дверь своей лавки, что даже у меня вызвало улыбку.
– Это была любимая сцена Кибитцера, – прошептала ужаска, и у меня вновь на глаза навернулись слезы. Но прежде чем я успел предаться умилению, произошла стремительная смена декораций. Занавесы поднимались и опускались, кукла Мифореза блуждала по ночным улицам под музыку, что своими грохочущими фортепьянными аккордами напоминала мне пугающие композиции Игерда Дьлёти, в которых звуки походят на удары ножа. При этом в напоминающей балет инсценировке я встречался с охотниками за книгами и другими сомнительными образами книгородского полусвета и оказывался в самых подозрительных уголках города, для изображения которых использовались грандиозные декорации. Казалось, что они были позаимствованы из картин ужасов Кикорджо де Джори. Наконец кукла выбралась из опасных ночных теней и отправилась в ярко освещенный трактир. Удручающая музыка стихла.
Один из занавесов опустился на сцену, а другой, рядом с ним, поднялся, и мы уже оказались в центре переполненной многочисленными куклами-статистами закусочной. Это был фрагмент из моей книги, в котором я встретился с коварным литературным агентом Клавдио Гарфенштоком и беседовал с ним, что впоследствии привело меня в лапы Фистомефеля Смейка. Хронологически все тогда происходило иначе, но это теперь не имело никакого значения, так как я тем временем без малейшего возражения следил за легкой драматургией.
Роль Гарфенштока исполняла кукла размером в полный человеческий рост, но, так как он сидел за столом, видеть его можно было только до пояса. Аромаорган источал возбуждающие аппетит запахи жареных колбасок и сала, обжаренного хлеба с чесноком и горохового супа, горячего какао и шалфея в растопленном масле. Звон посуды и дребезжание бокалов, оживленные разговоры и веселый смех создавали иллюзию бойко посещаемого заведения. На столе даже стояла марионетка-гном и в нос декламировала жуткое стихотворение – почти так же, как это было тогда.
Помимо пищевых ароматов в воздухе висел выраженный запах леса и дичи, смолы, еловых иголок и щетины кабана. Это был довольно деликатный момент, так как Гарфеншток был кабанчиковым и действительно производил подобный запах. Даже будучи куклой он имел впечатляющую и устрашающую внешность, хоть и с грубоватым шармом. Меня поражало, насколько убедительно смогли привести в соответствие его внешний вид и черты его характера. Гарфеншток спел свою партию уверенным баритоном, что я, правда, находил несколько нелепым и неадекватным для такого злого и коварного чудовища, но музыка была замечательной и напоминала оперетту Оссиджио Роннакки «Кондитер из Железнограда». Поэтому я благосклонно закрыл на это глаза. Либретто в юмористической форме содержало описание сомнительного ремесла Гарфенштока в роли литературного агента:
«Я механизм в редукторе, я масло,
Ты рифма, слово, я большой прохвост,
И для меня поэма или сказка —
Все равно нелюбимо. Только спрос
Меня интересует. Прибыль, прибыль,
Проценты мне! Тебе же твой успех
И имя в книгах… Каждый из нас выбрал
Свое – и все получит без помех!»
Так самоуверенно Гарфеншток выражал свой взгляд на отношения между литературным агентом и автором. Возможно, это была не лучшая сцена спектакля, но публику она развеселила и способствовала развитию действия. Напоследок Гарфеншток посоветовал Мифорезу найти букиниста Фистомефеля Смейка и дал ему его адрес. Потом опустился занавес. Неприятное происшествие с бутербродом из пчел полностью выпустили, чем я был очень доволен. Правда, не очень понял почему, так как эта сцена наверняка бы вызвала смех в зале.
И вот я уже вновь видел себя на другой сцене, бредущим по узким переулкам Книгорода. Когда же я, наконец, привыкну к тому, что это я там, в кулисах? При каждом новом появлении моей куклы на сцене меня все еще охватывала сильнейшая дрожь. Перед великолепными декорациями, изображавшими старый покосившийся дом, кукла неожиданно остановилась. Вывеску над дверью я смог прочитать даже без бинокля:

– А это моя любимая сцена! – проговорила Инацея притворно сладким тоном мне прямо в ухо. Она положила свою руку на мою и, как завороженная, безотрывно стала смотреть на сцену. В ее глазах искрилась нескрываемая гордость.
Занавес поднялся, и мы оказались в букинистической лавке ужаски. Там стояла Инацея Анацаци, которая в действительности сидела рядом со мной, в виде куклы среди своего ужаскомистического ассортимента. Я был восхищен! Ее букинистический магазин был воспроизведен настолько точно, включая каждую деталь, что можно было подумать, что его просто целиком перенесли на сцену. Аромаорган распространял дурманящую смесь запахов из старой книжной пыли, чая из медвежьего лука, мускусных духов и ужаскомистического травяного супа, что сразу пробудило во мне безотлагательное желание прижать к носу ароматизированный носовой платок. Именно такой запах стоял в букинистических лавках ужасок.
– Артистка, которая говорит моим голосом, целую неделю провела в моем магазине! – прошептала Инацея с гордостью. – Только для того, чтобы изучить модуляции моего голоса.
Этой актрисе с ее изучением модуляций можно было только посочувствовать, о мои дорогие друзья, но это стоило того! Ее задача заключалась, видимо, не в том, чтобы максимально точно сымитировать голос Инацеи, а в том, чтобы соответствовать ужаскомистическому камертону – тому невероятному регистру, который присущ всем ужаскам и звучит как после векового потребления сигар, острого нагноения лобной пазухи или плохо заживаемой раны вследствие трахеотомии. Это удалось.
В этой сцене постановщик разумно отказался от пения и только использовал мотивы из балета Гийнасока Иррвиста «Адский танец», если я правильно идентифицировал музыкальную цитату. Невидимое тремоло литавр и нервные звуки ксилофона, во всяком случае, великолепно соответствовали образу куклы, которая исполняла роль Инацеи. У нее была сухопарая фигура, которая наполовину высовывалась из-за прилавка и которой ловко управляли кукловоды. Черты ее лица были лишь незначительно утрированы – впрочем, что еще можно шаржировать у ужаски? Да, я бы даже сказал, что это легкое преувеличение, пожалуй, льстило Инацее, поскольку в данном случае хорошая карикатура была более лестной, чем реальный портрет. Она произнесла короткий, но содержательный монолог, темой которого были предрассудки пережитой букваримии. Он не только бросал трагическую тень на грядущие события, но и раскрывал пророческие способности ужаски. Хотя этого не было ни в действительности, ни в моей книге, этот монолог стратегически подготавливал появление на сцене Фистомефеля Смейка и создавал спокойную атмосферу между музыкальными номерами. Уголком глаза я заметил, как Инация взволнованно произносит вместе с куклой каждый слог своего текста. Она знала его наизусть.
Театральный зал снова погрузился в темноту. Заиграл оркестр, но музыка звучала так, что казалось, будто музыканты всего лишь настраивают свои инструменты – это было какое-то беспорядочное пиликанье и бренчанье. В полном мраке едва различимые фигуры изображали какой-то танец, и это напоминало обман чувств. Сначала они представлялись мне небрежными схемами и абстрактными узорами, которые иногда можно видеть с закрытыми глазами. Но постепенно я понимал, что это были знаки: буквы, руны, иероглифы, которые качались в воздухе, как марионетки на нитях, и светились изнутри. Потом куклы полетели прямо над головами зрителей, совершая грациозные пируэты или демонстрируя озорные пике, что вызывало переполох и смех, особенно у юных зрителей. Но балет таинственных знаков так же внезапно закончился, как и начался: они исчезли в темноте, шушукаясь и хихикая. Немелодичные звуки смолкли, и в зале стало светлеть. Как фата-моргана, на большой сцене из кулис и реквизита перед зрителями предстала картина пресловутой буквенной лаборатории Фистомефеля Смейка. Да, это была не просто комната, это была целая империя с собственной топографией. Я был потрясен до глубины души.
Буквенная лаборатория сгорела вместе с домом Смейка, со всем переулком Черного Человека и кварталом букваримиков. В моей книге это все подробно описывалось, и художники-декораторы, судя по всему, не только придерживались этого описания, но даже превзошли его. Эта воспроизведенная буквенная лаборатория казалась значительно более впечатляющей, чем реальная. Шестиугольный кабинет прикладной графологии Смейка выглядел довольно живописно, правда, отличался хаотичностью. Но каждый предмет, казалось, находился строго на своем месте и великолепно освещался светом свечей. При виде этой картины хотелось немедленно оказаться там, стать ученым-почерковедом и до конца жизни с помощью имеющихся в распоряжении букваримических приборов проводить графологические анализы и каллиграфическое калибрирование. Я хорошо помнил эту лабораторию, чтобы иметь право утверждать, что реквизит был не бутафорией, а найденными в результате долгих поисков приборами букваримиков, которыми действительно мог пользоваться Смейк: литерный микроскоп и лупы для чтения, счетчик букв и алфавитные спектрографы, чернильные термометры и стихомеры, поэтологические табуляторы, посеребренные слоговые септанты. Здесь была даже антикварная машина для написания романов. Были, конечно, и полки с древними фолиантами, горы рукописей, банок, заполненных разноцветными чернилами, выстроившихся в ряд многочисленных писчих перьев. А между ними множество банок с лейденскими человечками, глядя на которых, я бы не решился сказать, настоящие они или тоже куклы. Во всяком случае, они двигались.
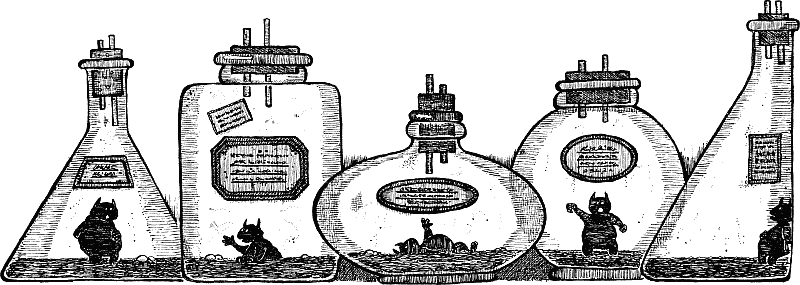
Меня очень волновало мое собственное присутствие в этой лаборатории, в том числе – в качестве куклы. К тому же оркестр перед появлением Фистомефеля Смейка имитировал пугающие фрагменты из «Ночи на Ужасковой горе» Орхора Тецибеля для духовых инструментов, если мне не изменяла моя музыкальная память. И вот в лабораторию вошел самый большой злодей моей книги собственной персоной. И словосочетание «собственной персоной» не было преувеличением, мои дорогие друзья! Кукла, оказавшаяся на сцене и изображавшая коварного букиниста, была настолько жизненно правдивой и реалистичной, что, увидев ее, я почувствовал, как у меня выступил холодный пот.
«Фистомефель!» – прошипел я так громко, что ужаска, сидевшая рядом, вздрогнула, а несколько зрителей повернули головы в мою сторону. Смейк двигался по сцене, как насытившаяся улитка по салатному листу, бормоча, жужжа, лепеча и мурлыча при этом свой текст так же заискивающе и льстиво, как он делал это в жизни. Как только он начал говорить, зазвучала специально подобранная для его массивной фигуры музыка, мощность которой стала постепенно нарастать. Мелодия напоминала знаменитый грациозный «Балет эльфов» Овера Милраса и удивительным образом соответствовала роли Фистомефеля, потому что музыка в чем-то походила на гипнотические мелодии заклинателей змей. А кем, в конце концов, был Смейк, если не гигантской опасной змеей! И гипнотизером одновременно!
Органист за аромаорганом, манипулируя регистрами, произвел цепочку запахов, которые должны были быть знакомы, по крайней мере, опытному ученому мужу или тому, кто лично побывал в лаборатории Смейка, например, мне. Кто мог, скажем, знать уникальный запах волокнистой массы, из которой изготавливают нурнийскую бумагу? Или запах старинных химических средств, которые использовали в Позднее Средневековье для отбеливания бумаги для книг? А запах раствора сернистокислого кальция? Кто мог представить себе, как пахнет папирус? Кроме этого, можно было назвать бесчисленные тонкие оттенки ароматизированной бумаги для письма, букваримические тинктуры или смоляной запах каллитрисового порошка, который сегодня используют разве что эксцентрики для высушивания чернил. Нельзя оставить без внимания и дурманящие газы свежего книжного клея, животные испарения еще не дубленной кожи для переплетов и древний запах расплавленного сургуча прошлых столетий.
Но эти посторонние запахи решительно усиливали угрожающую ситуацию на сцене, создавая ауру недоверия и таинственности. Оторвав взгляд от главной сцены, я увидел нибелунгского органиста, расположившегося на второстепенной площадке и в упоении дергающего регистры своего адского инструмента. Он нагибался и разгибался в такт нарастающей мощи музыки, исполняемой оркестром, как молодое дерево на ветру, и его ароманоты летели в зал. Сейчас, когда мне было известно назначение органа, он со своими светящимися жидкостями выглядел для меня как сокровенная мечта страдающего манией величия алхимика с музыкальными амбициями. Такому инструменту, вообще-то, было место в зале ожидания сумасшедшего дома.
Я испуганно посмотрел в бинокль. При ближайшем рассмотрении куклы Смейка мои опасения не только подтвердились, но и усилились. Кроме того, я отдавал должное создателям куклы! Я не мог понять, из какого материала она была изготовлена, но каждая деталь выглядела как реальная! Кожа казалась упругой и дряблой одновременно, как мясо червяка. Она была слегка прозрачной, и на ней можно было даже разглядеть тонкие голубые венки. Четырнадцать маленьких ручек жестикулировали настолько натурально, что можно было подумать, что они выросли естественным путем. Кто-то, должно быть, прятался в этой обрюзгшей оболочке и управлял ею, но я не знал, что за живое существо это могло быть. Я не знал также, сколько их было, так как один кукловод с этим бы не справился! Не было видно ни нитей, свешивающихся сверху, ни тростей, которые поддерживали бы эту массивную фигуру снизу. Это была сценическая конструкция новейшего образца, которая противоречила всем законам природы. Шедевр пуппетизма! Но я не имел ни малейшего представления о том, как она функционировала. Подавленный, я отложил бинокль, потому что предпочел любоваться этой удивительной куклой и ее виртуозным выступлением издали.
К счастью, постановщики не изуродовали выступление Смейка пением, что испортило бы сцену и исказило бы характер коварного ученого мужа. Таким образом, по мере передвижения Фистомефеля зал охватывал тихий ужас, который вызывала эта фигура. Я видел, как публика заерзала на своих креслах, испытывая отвращение и восторг одновременно, будто она не знала – аплодировать ей или удирать. Я также испытывал подобные чувства: казалось, что я наблюдаю за пауком, вьющим паутину. Было известно, что он работает над инструментом смерти и, тем не менее, нельзя было не восхищаться искусностью и точностью его работы.
Злодеи всегда замечательные актеры! Смейк не был исключением. Моя собственная фигура полностью блекла на фоне харизматичного чудовища, и его мастерски изготовленная кукла без труда оттеснила меня на задний план, и я по-настоящему позавидовал созданию из мертвых материалов, дерева, каучука, проволоки и клея. Я опустился до реплик в ответ на грандиозные монологи Смейка, которые на данный момент были лучшими во всем представлении. Он никогда не произносил этого вслух, но его безумным желанием было путем убийств, интриг и игр власти уничтожить все, над чем он не властен. Он жгуче ненавидел все, что не служило искусству и ему самому, и всем этим была пропитана каждая фраза его гипнотической проповеди. Это был театр в духе «Королевских драм» Уимпшряка! Диалог и игра кукол, музыка и драматургия запахов слились в единое произведение искусства, подобного которому я не видел и не слышал ни на одной сцене, не говоря уже о тех запахах, которые ощущал.
Это напоминало очень медленный, старомодный и официальный танец, исполняемый двумя куклами под балетную музыку, в ходе которого я все больше приближался к откидному люку в полу в центре помещения, пока всем до единого зрителя не стало ясно: Смейк был намерен вынудить своего гостя к тому, чтобы отправиться вместе с ним в подвал. В катакомбы.
И здесь я не без досады впервые заметил, что в действительности этого вовсе не было. Кроме того, существенные фрагменты из моей книги отсутствовали: они сократили оба моих визита к Фистомефелю до одной-единственной встречи, а весь трубамбоновый концерт, на котором я, между прочим, присутствовал, просто выпустили.
Это было смелое и жесткое сокращение. Но впоследствии я отнесся к этому с полным пониманием, так как включение этого эпизода не только бы нарушило действие инсценировки, но и, вероятно, вызвало бы неприемлемую для зрителей затяжку. Ведь публика жаждала того, чтобы действие, наконец, перенеслось в лабиринт. Впрочем, и меня это сокращение занимало не особенно долго, потому что на сцене как раз разыгрывалась сцена принятия решения, имеющего, возможно, самые значимые последствия в моей жизни: обе куклы безмолвно исчезли со сцены через люк в полу. Музыка смолкла. На удивление это совсем не выглядело драматично, но и в действительности данный эпизод не был более впечатляющим. Затем занавес закрылся, и зал погрузился в полную темноту и тишину. Правда, только на несколько мгновений, о мои дорогие друзья! Потому что разразились такие аплодисменты, каких я еще не слышал ни в одном театре. И мое утверждение, что спектакль только сейчас получил настоящее признание, по сути дела, является чрезмерным преуменьшением.
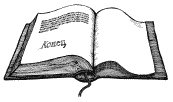
Назад: Театр Мечтающих Кукол
Дальше: Сон во сне

