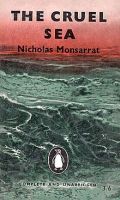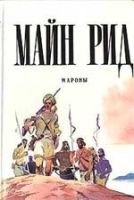Штильмарк Роберт
Волжская метель
Р. ШТИЛЬМАРК
ВОЛЖСКАЯ МЕТЕЛЬ
повесть
Глава первая. ИЗ ЯШМЫ - В ЯРОСЛАВЛЬ
1
Слобода Яшма исстари славилась по всей Верхней Волге красотою, привольем окрестностей и изобильной летней ярмаркой. Еще при Иване III здесь возник яшемский Назарьевский монастырь - монахи, известное дело, худых мест не выбирали!
Бывало, раскидывала ярмарка свои ларьки, палатки и карусели под стенами древнего монастыря. Торговали здесь яйцами и маслом, деревянными ложками, глиняной посудой, конскими сбруями, а более всего кожаными и валяными сапогами, будто бы не знавшими износу ни зимой, ни летом. Еще гордились яшемцы завидными покосами в своей округе, знаменитым медом монастырских пасек и обильными уловами рыбы, которую рыбаки держали живой в деревянных решетчатых садках, прикрепленных якорями к речному дну...
Четыре пароходства держали в Яшме свои пристани. Самой затейливой и нарядной была пристань Самолетская, розовато-палевого цвета, как и пароходы этой компании, отличавшиеся хорошим ходом, удобными каютами и красивыми салонами.
Оригинальности ради пароходство "Самолет" имело особую договоренность с женским Назарьевским монастырем: когда самолетские пароходы приближались к Яшме, на флагштоке дебаркадера поднимался вымпел, а с монастырской колокольни раздавался благовест. Распахивались тяжелые врата, и на верху большой лестницы, ведущей к Волге, появлялся священник в облачении, мать-казначея и монашеский хор человек до двадцати.
Публика с парохода набивалась в пристанскую часовню, и священник служил молебен о плавающих и путешествующих. Смолистый дух речной пристани, запах копченой рыбы и мокрого дерева перемешивались с легким дымком росного ладана. После гудка к отправлению пассажиры попроще исчезали в темном пароходном чреве, а важная публика поднималась на свою чисто вымытую верхнюю палубу. Отсюда были видны белые монастырские стены с башенками-часовнями над крутым береговым откосом. Особенно хороши были старинные шатры яшемских колоколен - кладка ярославская, резные оконца-слухи среди свежей побелки, смелый взлет шатра к облакам - и полное созвучие с таким же смелым взлетом ввысь могучих иссиня-черных елей близкого леса...
Летним утром 1918 года, как раз перед прибытием парохода "Владимир Короленко" в Яшму, роковая случайность положила начало необычайным приключениям и трагическим испытаниям героев нашего повествования.
Началось с пустяка - заело трос вымпела на самолетском флагштоке. Попытки наладить трос никому не удались - вымпел застрял на середине мачты, будто в знак траура. Задувал свежий ветер, и даже пристанский матрос не рискнул лезть на трехсаженную мачту.
Выручил доброволец из любителей утреннего купания, сильный молодой мужчина. Он поплевал на руки и полез на флагшток. Народ, замирая, глядел, как ловко он подтягивается на руках, сжимая ствол мачты пятками босых ног. Верхушка флагштока, укрепленная проволочными расчалками, пружинила и дрожала, пока человек вдевал трос в желобок колесика-бегунца. Наконец верхолаз соскользнул на крышу и поднял вымпел до нужной высоты. Народ на берегу и на пристани одобрительно зашумел. Кто-то крикнул:
- А ну, Сашаня, сигани оттелева!
Многие знали этого удальца - конского табунщика Сашку, лихого гитариста, охотника и запевалу. Деды его, говорят, были на Волге бурлаками. Оттяжки мачты мешали разбегу, но зрители раззадорили молодца. Да и монахини-певчие уже приближались к мосткам пристани, а среди них Сашка углядел одно девичье лицо в лиловой скуфеечке... Девушка тоже, видимо, узнала молодца на крыше, смутилась, потупилась и спряталась было за подруг... Верно, это девичье смущение и решило дело.
Сашка пробежал вдоль кровельного конька, оттолкнулся от свеса кровли, пролетел над головами людей на корме дебаркадера и вошел в воду солдатиком, как стрела, почти без брызг.
Тем временем "Владимир Короленко" развернулся с фарватера. Плицы колес забили назад, гася инерцию судна, взбурлила желтая пена, в стенку дебаркадера глухо ударила легость, которую забрасывают на пристань, чтобы подтянуть канат-чалку - а пловца... как не бывало!
- Сашка утоп! - слышалось в толпе. - Алексашке Овчинникову - царствие небесное!
Мало кто заметил, как побелели щеки юной певчей, той, чей взгляд, видимо, и заставил Сашку рискнуть! Самая ладная из всего хора, она была, как все певчие, в черном подряснике и темно-лиловой скуфье поверх платочка, держалась тише и скромнее других, но публика с пароходов всегда выделяла ее, когда давала она своему голосу полную волю в песнопении... Местные знали: в монастыре она третий год, а зовут Антониной. В обители на нее нарадоваться не могли: расторопна, смирна, трудолюбива. В послух ее приняла сама настоятельница, а была мать игуменья не из простых!..
...Антонина еле на ногах устояла, когда народ закричал о Сашкиной погибели. Вдруг кто-то заметил, что у пристанской якорной цепи чуть побурела вода. Антонина вгляделась, тихонько охнула... И все бабы заголосили,потому что цепь колыхнулась, показалась из воды запрокинутая голова с потемневшими от воды русыми волосами.
- Ишь ты, видать, сам себя с крюка вызволил! На лапу якорную напоролся с налету, и хватило ума цепь нащупать! - удивленно толковал народ о происшествии...
Отзвонил колокол наверху, пароход ушел, а народ на пристани все толпился у мостков, глазел, как тащат монахини пострадавшего наверх, в монастырский приемный покой. Туда нередко доставляли с пароходов людей тяжелобольных, раненых или ослабевших; покой был рядом с пристанями, а земская больница - в двух верстах от слободы...
Дня через три после этого происшествия яшемцы услыхали от водников, что снизу идет пароход "Минин", оборудованный под плавучий госпиталь. Говорили, что подбирает он по всем пристаням раненых и больных военнообязанных, чтобы сдавать их в большие госпитали верхневолжских губернских городов.
Лучше всех был осведомлен насчет плавучего эвакогоспиталя отставной вояка, бывший кавалерист Иван Губанов, потерявший ступню, усердствуя при разгоне солдатского митинга. Работал в монастыре Губанов по найму с начала революции. Откуда он появился в Яшме, никто не знал. Главной его обязанностью было забивать скот на продажу и разделывать туши.
Иван Губанов довольно ловко передвигался на трофейном протезе германской выделки. И нередко доставлял матери игуменье хлопоты излишней своей резвостью, за что и был переведен на жительство подальше от обители, на скотный двор, где трудились лишь старые и сурово-добродетельные черницы.
На скотном дворе он и пострадал: его помял племенной бык, которого Иван Губанов водил на осмотр к ветеринару. Случилось это полтора месяца назад, и уже недельки через две Иван поправился и даже верхом ездил. Но перед приходом плавучего госпиталя Губанов неожиданно снова слег и потребовал отправки его в больницу.
Мать игуменья и второй соборный священник отец Афанасий недоумевали: нешто военное судно согласится принять гражданских больных, тем более из монастырского приемного покоя? Иван же мясник божился, что командование госпиталя не откажет страждущим и непременно согласится принять всех троих лежачих - самого Ивана Губанова, Сашку Овчинникова и даже иеромонаха Савватия, восьмидесятилетнего старца, доставленного с переломом ноги из заволжских скитов, глубоко спрятанных в лесах.
Жили в скитах по суровому уставу схимники и схимницы, исполнявшие подвижнические обеты, - молчальники, столпники, носители вериг. Савватий слыл между ними умнейшим и до своего увечья бывал нередким гостем в монастыре, хотя между скитами и обителью пролегала матушка-Волга, леса и обширное Козлихинское болото с топями.
За сутки до прибытия "Минина" приехал в Яшму на дрожках военный фельдшер, высланный вперед госпитальным начальством для отбора больных. Он побывал в бывшей земской больнице, а к вечеру заглянул и в монастырский приемный покой. Мать игуменья поила его чаем, долго упрашивала принять монастырских больных, вручила перстенек, и военфельдшер сдался, велел доставить всех троих к берегу на тот случай, если на судне окажутся свободные койки.
Ранним утром 5 июля больных перенесли к Самолетской пристани. Пароход подошел, однако, к Русинской пристани. Монахини бегом пустились туда. На задних носилках лежал Иван-мясник, размахивал отстегнутым протезом и скверно ругался, опасаясь, что пароход уйдет без него.
Задыхаясь, прибежали монастырские к пристани, когда на пароход уже принимали раненых из земской больницы. Все они были ходячими. Вопреки обыкновению пароход не причалил к дебаркадеру, а стоял поодаль на якоре. Больных перевозили на борт шлюпкой. У пристанских мостков переговаривались между собою военный врач в гимнастерке под мятым халатом и начальник госпиталя в лихо заломленной фуражке и расстегнутом кожаном пальто рыжего цвета. Давешнего военфельдшера на берегу не оказалось - он еще ночью отбыл на своих дрожках дальше, в Кинешму. Пришлось все объяснять госпитальному начальству заново. Отца Афанасия и мать-казначею, похожую на боярыню Морозову с картины Сурикова, начальники выслушали с ироническими улыбками. Согласились принять Ивана-мясника и Сашку Овчинникова, взять же старца наотрез отказались.
- Товарищ ваше благородие! - взмолился отец Афанасий. - Позвольте пояснить: пароходы ходят произвольно и пассажиров без мандатов не берут. А вы изволите видеть больным и страждущим праведного старца, подвижника. Окажите православным христианам божескую милость - довезите нашего старца до Костромы, где имеется Ипатьевская больница для престарелых. Неужто одного местечка не найдется на целом пароходе?
- Местечко-то, может, и нашлось бы, - в раздумье сказал доктор. - Наш фельдшер запиской предупредил о ваших больных. Но у нас мало санитаров и нет сиделок, а ведь вашему больному нужен особый уход. Примем, если дадите провожатого.
Мать-казначея напомнила, что до Костромы недалеко, верст до сотни, пароход к вечеру уже будет там.
- Да ведь на пристани мы вашего старца не выбросим! - сурово сказал врач. - Кто его в богадельню вашу доставит? Без провожатого не возьму.
И тут монастырские носильщицы услышали тихий голос Савватия, доселе находившегося как бы в забытьи.
- Пусть Антонина проводит. Антонину с нами пошлите.
Мать-казначея взволнованно зашепталась со священником. Прокашлявшись, тот смиренно проговорил:
- Отец Савватий, послушница Антонина молода еще, два года минуло, как из мира пришла, послух приняла. Рановато ей в мир идти, искус тяжел. Лучше мать Софию возьми в провожатые.
Старец отрицательно покачал головой на тонкой шее.
- Говорю вам, а вы внемлите. Без Антонины не поеду! Терпением богата, душой сильна и разумом светла, образованных родителей дочь. Что другой силой не возьмет, она лаской у бога выпросит. Отправляйте с Антониной, а не то назад несите: не поеду!
- Да пускай едет! - махнул рукой Афанасий. - Чай, при старце будет, не одна. А обратно с протоиереем нашим возвернется, он нынче по делам в Костроме.
Мать-казначея зашептала священнику на ухо:
- Так ведь матери игуменьи любимая послушница! Не осерчала бы настоятельница! Чай, этот-то, Алексашка Овчинников, раненый... рядом поедет. Смекаешь, отче?..
Пароход дал продолжительный гудок. Военные стали усаживаться в лодке. Солдат-санитар взялся за весла.
- Стойте! - хором закричали и женщины, и отец Афанасий. - Погодите отваливать! Уж вы их как-нибудь всех вместе при старце поместите... Господи всеблагий, благослови рабу Антонину на подвиг!
После отвала из Яшмы послушница Антонина попросила врача осмотреть ее больных. Врач для начала оценил взглядом саму сиделку, отметил про себя глубокие печальные глаза, разлет тонких черных бровей, изящество движений. Доктор стал весьма любезен и сразу заглянул в каюту. Здесь было шесть коек с тощими рваными тюфяками. Под застиранными простынями и кое-как залатанными одеялами лежали "тяжелые": кроме яшемцев, попали сюда два пожилых ополченца, Шаров и Надеждин - крестьяне из села Солнцева Ярославской губернии, и больной чуваш Василий Чабуев, наживший грыжу на воине, когда вытаскивал из грязи артиллерийское орудие. Ополченцы попали на госпитальное судно "Минин" не без задабривания того же военфельдшера, что согласился принять монастырских больных в Яшме. Надеждин страдал от последствий контузии, у Шарова была недолеченная рана коленного сустава... В селе Солнцеве комбед уже выделил на их долю хорошей земли, отобранной у барина Георгия Павловича Зурова. И толковали ополченцы про справедливые новые порядки, про десятины, пустоши, супеси и суглинки.
Врач велел отнести старца и Сашку в операционную, устроенную в носовом салоне. Ногу старцу закрепили в лубке, у Сашки проверили швы, наложенные яшемской фельдшерицей. Врач сказал, что порваны одни мускулы, кость и главный нерв целы: недельки через полторы можно будет больного поднять.
2
Оказалось, что старец Савватий с переломом и Сашка Овчинников - чуть не единственные тяжелые больные на весь пароход-лазарет. Антонина подивилась: эвакуированные и госпитализированные выглядят здоровыми. Да и весь пароход мало похож на госпиталь: чистота поддерживается слабо, койки разнокалиберные, белье бросовое. И все же этот "Минин" мог бы вместить до сотни больных, а их на борту едва ли четыре десятка.
Пароход тихим ходом подошел к городской пристани Кинешмы. Начальник сошел справиться насчет пополнения. Рядом с ним усиленно жестикулировал военфельдшер, отбиравший раненых. Оба спорили с незнакомым комиссаром на пристани. Спор стал слышен и на пароходе.
- Могу взять только вот этих легкораненых, ходячих, и то лишь потому, что мне уголь грузить в Костроме! - кричал начальник. - У меня персонал трое суток не спит, на пароходе яблоку упасть негде. Пятерых беру, не причаливая! А ну прыгай на борт у колеса, живей! Ты прыгай, ты, ты и те двое! Военфельдшер прыгай за ними! Санитар у трапа, подай руку товарищам, помоги подняться! Все на борту? Пошел, капитан, вперед самым полным!
Начальник с военфельдшером последними вскочили на пароход, и "Минин", расстилая по реке дымный след, отвалил. Во время спора пароход удерживался у пристани на одной наспех поданной кормовой чалке. Антонина снова подивилась: и тесноты нет на недогруженном судне, и уголь уже взят в Томне. Чудные порядки!
До ушей Антонины доходили и еще более странные обрывки разговоров на борту: то французские словечки, то обращение "господа!", то слово "Россия", произносимое с картавинкой.
Девушка-послушница видела лощеных, манерных, барственного вида молодых мужчин, обряженных в солдатское разве что для отвода глаз. Антонина старалась, однако, не обращать внимания на "мирское". Ей хватало забот с пациентами. У Алексашки разбередили рану при переноске.
Врач заглянул с палубы в окно каюты и велел дать больному морфий. После впрыскивания больной приоткрыл синие глаза и улыбнулся побелевшими губами, попросил попить. Врач заметил, как больной придержал руку сиделки и неумело поцеловал запястье, будто к иконе приложился. Потом затих с закрытыми глазами, обведенными тенью. Лицо обрело после впрыскивания выражение покоя и отрешенности; черты, прежде искаженные болью. разгладились...
"Уж не кончается ли?" - испугалась сиделка.
В волнении она чуть не произнесла эти слова вслух, но суеверно спохватилась, даже руку к губам поднесла, как бы рот себе зажать... Ей вдруг припомнились странные и необычные пути, что привели их к знакомству...
...Был уютный просторный дедушкин дом в городе Макарьеве на Унже, была мама, совсем еще молодая и очень красивая, бывали счастливые семейные праздники, когда приезжал к ним папа. Как гордилась им девочка Тоня перед сверстницами! Ведь военный летчик, капитан, приезжает то из Парижа, то из Одессы... Все это оборвалось на тринадцатом году ее жизни, в один день, мгновенно! Пришло известие, что папа арестован как революционер. Будто готовился сбросить со своего аэроплана листовки на город Севастополь. Позднее узнали приговор: тюрьма! В то лето скончался дедушка, жизнь в Макарьеве стала для мамы невыносимой. Узнала, что отбывать тюремный срок мужу предстоит в Ярославле. Продала макарьевское имущество и вместе с Тоней села на унженский пароход. Был он тесным, переполненным, грязным. На борту случился тиф, мама заболела.
Тоня помнила, как на пристани Яшма кричал-надрывался земский медик, требовал у капитана, чтобы больную сняли с парохода. Четыре черные монахини подняли носилки и потащили маму вверх по откосу, в монастырскую больницу.
Закричала и Тоня. Чтобы не разлучали с мамой!
- Тебе нельзя туда, девочка! - сказала одна из монахинь. - Мама твоя больна очень тяжело. Вместе вам нельзя.
Тут случилась на яшемской пристани женщина одна, жена Степана-трактирщика с михайловского постоялого двора, Марфа Овчинникова. На вид веселая, приветливая, одно слово трактирщица! Марфа монахиням и крикнула:
- Дайте мне девочку-красоточку, я ее утешу! Куда вы ее в монастыре денете? Мала еще в послушницы. Возня вам с нею лишняя, а я помощницей своей сделаю, всем рукоделиям, всем песням обучу! Влезай, деточка, в тарантас! Пошел, Артамоша!
Это она кучеру своему. Пыль столбом, и после 20 верст лесной дороги очутилась Тоня в придорожном трактире близ села Михайловского. Слава о трактире шла по всей округе недобрая, прозвал его народ "Лихой привет".
О смерти матери Тоне сказали много времени спустя. И осталась она надолго в придорожном Марфином трактире обучаться искусству угождать постояльцам. Правда, Марфа рукодельница была настоящая и певунья редкая, но радостных дней выпадало у Тони немного! Такого навидалась, о чем никто в ее семье и не думал.
Больше всех уважали хозяева "Лихого привета" своего яшемского родственника Ивана Овчинникова, первого конского барышника на весь уезд! Говорили, что с цыганами знался и законы обходить умел. Яшемцы только у него коней и брали, потому что пошла по селу примета: не возьмешь коня у Ивана, купишь у другого - пропадет лошадь.
Работал на Ивана младший его брат Алексашка. Парень лихой, смелый, но не к тому душа у него лежала, куда ее старший брат гнул. Весь интерес Сашкин - книжки читать, кинематограф в городе поглядеть либо в театр пойти, где он, по собственным его словам, и дела, и даже себя самого позабывал. Но работал на брата истово, коней издалека перегонял, всегда в разъездах, хлопотах. Частенько и в "Лихом привете" останавливался. Вот Марфа, соскучась лесной жизнью, парня приворожить и попыталась. А он все чаще стал на Марфину помощницу, Тонечку молоденькую, поглядывать. Про книжку поговорит, слово незнакомое растолковать попросит, дивится, что девочка в шестнадцать лет больше его, двадцатилетнего, во всем этом смыслит. Случалось ему Тоню за продуктами для трактира до Юрьевца на троечке прокатить, и показалось ему, что Тоня ласковее на него поглядывать стала. А когда потихоньку поцеловать осмелел, такой получил отпор, что в обиду принял. И на глазах у Тони принялся за Марфой напропалую ухаживать, чтобы в девичьей душе ревность пробудить.
А Марфа-трактирщица изо всех женских сил старалась голову Сашке вскружить, ласками его привязать. И вдруг догадалась, что неискренен с ней Александр, что вся его любовь к ней показная, Тоньки ради... Поздно Марфа недосмотр свой прокляла. И не стало для нее ненавистнее человека, чем тихая Тонечка! Недолго думая, отвезла ее в Наэарьевский монастырь, сдала ее монахиням. Священник отец Николай, Тонин духовный наставник, благословил девушку пойти в послушницы.
Дали ей нетрудную работу на пчельнике, в двух верстах от обители. По дороге с пчельника и подстерег ее однажды Сашка Овчинников. Признался, что полюбил навеки, свет клином на ней одной сошелся...
Разговор этот Тоня запомнила слово в слово. Помнила и запахи щедрой весны, тихий шелест свежих, не запыленных еще трав, задеваемых черным подолом ее одежды...
Говорил Сашка тихо, слова искал с трудом. Признался, что дал завлечь себя Марфе, да быстро понял, сколь напрасна эта попытка спастись от любви настоящей, навечной.
Тоня отвечала, что оправдываться ему не в чем, обещаний он никому перед алтарем не давал, да только... поздно, мол, теперь, коли она в монастыре утешение от сердечной горечи нашла, когда его к другой потянуло... Мол, хоть и сурово ласку его отвергла, но с раннего девичества на него одного засматривалась... Потому просит теперь не смущать ее души, на мирское от послуха не отвлекать.
Он же слово взял с нее, что, ежели бы ушла она из обители либо в беду какую попала, ни у кого помощи не просила прежде, чем с ним не повидается.
На том и расстались близ монастыря в леске, и тут же Антонина все до слова пересказала игуменье. Тогда та и перевела свою послушницу с пчельника в приемный покой, к сестре Софии в помощницы. И в певчие определила, к пароходам выходить... С той поры она Сашку ни разу близко не видела, ни словом с ним не обмолвилась...
...Врач все еще стоял у окна. Когда больной уснул, он подманил сиделку и спросил тихо, чтобы другие не слыхали:
- Скажите, насчет своего ранения Овчинников правду рассказывает?
Антонина ответила, что была свидетельницей случая на пристани.
- А сами вы, барышня... Как же вы при такой внешности очутились в... монастыре? Ваше одеяние не маскировка? Ведь вам едва ли больше восемнадцати?
- Мне действительно восемнадцать. Я сирота. Отца, военного летчика, звали Сергеем Капитоновичем Шаниным. Лишившись родителей, я после многих мытарств нашла приют в монастыре и питаю надежду, что на всю жизнь.
Врач покачал головой.
- Но ведь этот... Овчинников... без сомнения, только вами и дышит! Не пара он вам, простой мужик! Не могу ли я чем-либо услужить вам, чтобы тоже обрести право... приложиться к этой ручке?
- Сделайте милость, довезите нас троих, яшемских, монастырских работника Губанова, увечного старца Савватия и меня - до Костромы, помогите и земляка нашего Александра в больницу определить, а более ни о чем не извольте беспокоиться, коли сами вы христианин и людям божиим желаете добра.
Врач хмыкнул разочарованно и отошел от окна.
Пароходик шел быстро, разрезая волну своим острым форштевнем, даже кое-где перекаты срезал, сокращая путь. Успокоительно вздыхала паровая машина бельгийской фирмы. Антонина минуту постояла в каюте над спящим Овчинниковым, прикоснулась к его лбу, не температурит ли. Больной пошевелился и вздохнул во сне... Антонина тотчас отошла и прилегла в плетеном кресле у окна. Поставить сюда кресло распорядился все тот же внимательный доктор Пантелеев. Все больные спали крепким послеобеденным сном.
Пароходные плицы шлепали мерно и глухо. Антонина уснула в кресле и пробудилась от негромкого разговора на палубе, близ ее окна. Створка деревянного жалюзи была закрыта, но сквозь косые прорези Антонина смогла различить головы беседующих - доктора Пантелеева и знакомого военфельдшера, того, что в Кинешме вернулся на борт "Минина". К некоторому удивлению послушницы, беседа велась на французском, довольно ломаном и скверном. Едва ли военные медики могли предположить, что к их беседе сможет прислушаться скромная сиделка...
- Часа через полтора уже Кострома, - говорил военфельдшер врачу. Можно будет сделать остановку и высадить лишних. Так сказать, сбросить балласт.
- Ну и произношеньице у вас, подпоручик! - вздохнул врач. - Перед встречей с французскими союзниками надо поупражняться, а то засмеют, мон ами... Остаются до начала потехи считанные часы. Муравьев в Казани определенно называл восьмое число, потому что союзники в Мурманске должны шестого получить подкрепление и высадить десант в Архангельске. Савинков будто уже роздал полтора миллиона, которые получил от Нуланса, французского дипломатического агента. Все союзные миссии теперь в Вологде, очень кстати. Не опоздать бы к началу. Как-никак доставим неплохое пополнение. Ваш рейд по тылам красных в роли советского военфельдшера можно признать удачным... Но как вы все же полагаете, много ли попало на борт ненадежных?
- Нет, немного. Отбор всюду сделан был заранее - ив Казани, и в Нижнем, и в Юрьевце. Вот в Кинешме чуть не сорвалось - мы рисковали получить целый косяк красных... Ну и нескольких серьезных больных пришлось принять ради соблюдения госпитальной обстановки. Полагаю, надо выкинуть в Костроме больных ополченцев и старика с переломом...
- Знаете, подпоручик, насчет этого старика я иного мнения. Не может ли он пригодиться в качестве... ну, некоего, что ли, идейного подспорья? Для бесед с колеблющимися, вообще верующими из крестьян? Видел я недавно листовки против красных. Немцы на юге отпечатали для русских мужиков: "Бей жида-большевика, морда просит кирпича". Понимаете, с такой пропагандой мы далеко не уедем. Не попытаться ли поставить этого божьего старца на ноги к началу дела?
- Что ж, попробуем подлечить для пользы службы, как говорится. Религиозное подспорье нам, конечно, не помешает.
- Что представляют собою соседи Губанова? Вы их при вербовке прощупывали?
- Нет, в Ямше условия исключали надежную проверку, но коммунистов там, кажется, нет. Пора Губанову потолковать с ними по душам. Пойдемте туда!
Сиделка и опомниться не успела, как оба собеседника вошли в каюту. Сама она решила не шевелиться в кресле и не откидывать простыни, которой прикрылась от мух. В каюте похрапывали спящие больные. Иван Губанов сразу же встрепенулся, как только военфельдшер осторожно тронул его за плечо.
- Тсс! - предостерег его врач. - Пусть соседи поспят еще... Что выяснили о них, подъесаул?
- Фабричных тут нет, - заговорил разбуженный сипло. - Одни мужики. Кто охотой не пойдет, из-под палки заставим. Обратите внимание на сиделку: молода, но старательна.
- Да, медики будут в цене, как говорится... Но ведь она должна проводить старца? - возразил фельдшер.
Доктор Пантелеев усмехнулся и кивнул на спящего Овчинникова:
- Если этот сгодится в дело, ручаюсь, и она не отстанет. Тут, похоже, роман намечается... Однако подходим к Костроме, понимаете? Пока только эта ваша каюта и неясна. Потолкуйте с солдатами, подъесаул, желаем успеха! Пойдемте, подпоручик!
Дверь каюты захлопнулась за врачом и фельдшером. Больные слышали последние, громкие слова разговора. Все пробудились, лежали помрачневшие, озабоченные.
- Слышь, Михей, - заговорил Шаров, солнцевский ополченец. Он хлопнул по плечу контуженного земляка Надеждина. - Оказывается, нами здеся подпоручики и подъесаулы командывают. Вот оно как обернулось!
Надеждин неторопливо уселся на койке.
- Вас лекаря эти подъесаулом величали? - обратился он к яшемскому мяснику. - Из казачьего, стало быть, войска? Покамест скрываться изволили на монастырском дворе? Или как вас еще понимать, ваше благородие?
- Да, ребята, - подъесаул откашлялся и предложил желающим портсигар с махоркой. - Подымим да потолкуем... Большое дело повсеместно затевается, великое, святое дело. России, ребята, порядок нужен. Не тот, что большевики вводят. Они германские агенты, а нам свой, российский закон нужен, чтобы кончить народные бедствия, власть установить для всех справедливую.
- Не знаю, какая власть господам хороша, а нам и нонешняя по душе! тонким резким голосом почти выкрикнул Надеждин. - Только вот войну скончать желательно, торговлишку кое-какую открыть, хозяйство поправить - и живи всяк в свое удовольствие.
- Да кто ее тебе откроет, торговлишку? - рассердился подъесаул. - Кто на липовые деньги товар продаст? Кто фабрики пустит, управлять ими станет? Про такую разруху, как у нас, даже в библии не писано. Народ голодает, одни комиссары в Кремле с девками пируют, а ты говоришь - по душе! Эх, дурачье вы темное! Нынче ты ограбил, а завтра у тебя награбленное отымут. Хоть, к примеру, ту же землю.
- Покамест не отнимают, - заметил Шаров осторожно. - Сеять велят. Не на барина. На себя.
- Теперь за старое в деревне никто не держится, - поддержал товарищей чуваш Василий Чабуев. - Кто и держался за царя по старой памяти, тому напоследок война эта германская и Распутин безобразиями своими показали, что и как есть. Скажите, ваше благородие, господину начальнику, пущай всех нас в Костроме высаживает.
- И дурачьем темным нас, ваше благородие, при Советах-то никто не называл. Отвыкли от офицерского разговору, - съехидничал Надеждин.
Подъесаула взорвало. Он сел на край койки, спустил здоровую ногу на пол, а к другой ноге с отнятой ступней ловко пристегнул протез, В одном белье стал посреди каюты.
- Ну погодите ужо, пропишу я вам клистиры! Отец Савватий, ты-то что молчишь? Или за веру православную постоять страшишься?
- Сказано в писании, - сказал старец скрипучим голосом, - всякую власть приемлем от господа, Не мне, пустыннику, людские распри вершить. От сего мрака в скит ушел еще тому назад сорок лет, насмотревшись на убиенных в турецкую войну. Не тревожь, Иване, сердца малых сих, о душе помысли, не о мести единоплеменникам своим. Ступай с миром, одумайся!
- Та-ак! - насмешливо протянул подъесаул. - Не ожидал от старца измены. Басурманам продался, осквернителям храмов? Ты, как тебя, барыга! Тоже, поди, успел в большевики записаться?
- Покамест не писался, а с тобою рядом и барыге сидеть зазорно! отрезал Овчинников. - К такому кореннику других пристяжных поищи, у твоих господ шаромыжников. Видывал я, как вашего брата и в Дону и в Волге топили. Гляди, на другую не охромей!
- По-нят-но! Понятно, говорю, кто здесь под одно рядно набился! Сестричка! Пора тебе уходить отсюда. Идем со мной к начальнику.
- Куда я от своих больных уйду? Уж лучше сами ступайте от нас, людей на грех не наводите.
Подъесаул рванул и с силой захлопнул дверь. Даже перегородки вздрогнули.
- Ох, ну и беды! - протянул Шаров. - Занесла нелегкая на этот пароход проклятый...
- Быть того не может, что одни контры на пароходе, - начал было Надеждин, но "Минин" стал давать тревожные гудки. Антонина выглянула из окна. Вечерние сумерки только начинали плотнеть. Темно-синяя Волга повторяла небо в тучах. Впереди отсвечивали первые огоньки на костромском левом берегу.
Справа подходила к пароходу лодка бакенщика с зажженным на ней фонариком. Несколько человек прыгнули с лодки на борт парохода. Бакенщик отчалил, машина снова заработала... Значит, Кострому мимо? Высаживать лишних раздумали?..
...В коридоре топот, дверь каюты распахивается. На пороге врач и начальник госпиталя. Позади несколько человек в штатском, но выправка и хватка у них воинская. У некоторых в руках револьверы. Хромой подъесаул Губанов держит обнаженную шашку так, будто готовится срубить голову любому, кто попытается сопротивляться начальству.
- Слушать мою команду! Встать!
Шаров, Чабуев и Надеждин с усилием поднялись и встали босые у своих коек. Начальник сделал шаг назад, как бы освобождая дорогу тем, кто подобру-поздорову пожелает отсюда выйти.
Начальник стал к двери боком, позволяя больным получше рассмотреть свиту в дверях, явно не расположенную шутить со строптивыми. Выдержав паузу, офицер договорил:
- Здесь, на пароходе, оказалось несколько большевистских агентов. Все они разоблачены и обезврежены. В этой каюте с сего часа будет помещение для арестованных, временная тюрьма. Кто из вас, солдаты и граждане, желает выйти и ударить по врагу, бери вещи и... марш отсюда!
Заколебался Шаров. На растерянном лице его читались сомнения: как поступить? Ведь приказывают выйти? Куда же против силы?
В этот миг резко скрипнула койка. Надеждин, не устояв на ногах, навзничь рухнул в припадке. Чабуев подскочил, обхватил контуженного, не дал тому удариться в судорогах головой об стену. Старец Савватий торопливо, в страхе крестился и бормотал молитву - едва ли он хорошенько уразумел речь начальника. Шаров опомнился и стал помогать чувашу уложить Михея Надеждина. Припадочный уже бился на койке. На помощь ему поспешила и сиделка. К двери никто не двинулся.
- Видали притворщиков? - начальник мотнул головой, показывая свите строптивых больных. - Значит, выйти никто не желает? Вы правы, подъесаул: тут свили себе гнездо большевистские агенты. Осудим военно-полевым как дезертиров и лазутчиков врага. Окно забить досками. Дверь на запор! При попытке к бегству - расстрел на месте!
В каюту втолкнули троих новых арестованных. Снаружи на дверь навесили солидный замок, окно заколотили толстыми досками - заготовками для пароходных плиц. Выставили часовых на палубе, под окном, и в коридоре, у двери. Но во всей этой сумятице Антонина не потеряла духа, стала распоряжаться. Двоим новым больным с кровоподтеками от побоев она велела лечь на койку Губанова, а третьего положила вместе с Шаровым. Запретила пить из бачка без позволения - воды могут больше не дать.
Наступила ночь. "Минин", дробно молотя воду плицами, шел вверх мимо темных берегов. Горели сигнальные огни, звучали приглушенные разговоры, команды. Кого-то куда-то назначали, распределяли оружие.
...Так подошел пароход "Минин" на рассвете 6 июля к пригородам Ярославля, миновал зеленую пойму реки Которосли, знаменитую Стрелку с Демидовским лицеем и собором и без гудка причалил к Самолетскому дебаркадеру, под самым Флотским спуском.
3
Арестованные с трудом улавливали обрывки фраз за стенками своей тюрьмы. Но стало ясно, что пароход встречен на пристани местными белогвардейцами. Голос начальника "госпиталя" выделялся среди остальных. По обыкновению он и здесь с кем-то заспорил, доказывая, что его пароходу еще в Казани было приказано прибыть к восьмому июля в Рыбинск.
Вдруг раздраженный, начальственного оттенка бас:
- Поймите же наконец, полковник, пока вы находились в пути, ситуация изменилась. В Рыбинске нашими силами командует капитан Смирнов, а для руководства там Савинков. Вы не поспеете, срок везде перенесен с восьмого на шестое, на двое суток раньше. Выгружайтесь! Это приказ Перхурова.
- Где он сам?
- Уже у Всполья, перед артиллерийскими складами. Приказано сосредоточиться на Леонтьевском кладбище с ночи.
- Простите... но с кем имею честь?
- Генерал Карпов, с вашего позволения.
- Очень рад, ваше превосходительство!.. Господин подъесаул, скомандуйте высадку!
- Позволю себе доложить вашему превосходительству, - прозвучал голос Губанова, - на борту есть арестованные агенты красных. Полагал бы разумным... без промедления...
Чей-то петушиный дискант подсказал:
- Военно-полевым судом...
Бас рассыпался смешком:
- Помилуйте, каким там судом... До того ли. Просто, не поднимая пока лишнего шума... Спешите с высадкой, господа, пока все спокойно! Ого! Ну, благослови господи!
Откуда-то донесло выстрел, другой, третий. Застучал пулемет. Где-то пронзительно вскрикнула женщина... В предрассветный час 6 июля 1918 года в Ярославле начался белый мятеж.
- Сестрица! - шепотом позвал один из новых больных. - Что здесь за народ в арестантской? Коммунисты есть?
Во тьме Антонина перекрестилась. Слово показалось ей таким же страшным, как "безбожник".
Где-то ухнула пушка. В отдалении грянул разрыв.
- Граната, - сказал Чабуев. - Дивизионное, трехдюймовое. - Он был артиллеристом из огневого взвода.
Неподалеку ударил пулемет тремя короткими очередями.
- По кирпичной стене и по булыжнику, похоже, хлещет. Из броневиков, должно быть, - шепотом проговорил Надеждин. - Сам-то ты кто? Коммунист?
- Кандидат еще. Зовут Иван Бугров. Костромич. В Юрьевце был, у тещи, угодил вот, на беду, сюда. Главное, брать меня не хотели, вижу, военфельдшер-то вроде из бывших, я и вверни ему тихонько "ваше благородие". Мигом принял. Вот она куда заводит, угодливость-то, чуешь?
- А с тобой кто, остальные двое?
- Эти из пароходной команды. Как смекнули, что это за госпиталь, задумали сбежать. Офицеры изловили.
Часовой в коридоре услышал голос Бугрова. Грянул винтовочный выстрел.
- Смерти захотели, зашевелились? Получай, сволота красная!
Пуля пробила стенку каюты, прошла на палец от головы Антонины, оставила аккуратную дырочку в стенке. Через эту ровную дырочку ворвался розовый утренний луч. Второй часовой тоже щелкнул затвором, но с мостика прозвучало повелительно:
- Отставить стрельбу на борту! Чего попусту палить, когда город уже наш. Броневики по улицам за красными гоняются.
Перестрелка отдалялась, откатывалась к окраинам. Стреляли и на другом, левом берегу. Антонина помнила, что там находится поселок Тверицы. Рядом железнодорожная станция Урочь. Оттуда слышались гудки паровозов, винтовочные выстрелы и пулеметные очереди.
В каюте стали видны все предметы - золотые лучи тянулись из каждой щели. Сделалось душно, время шло к полудню.
Голос капитана, что утром велел прекратить стрельбу на борту, провозгласил с мостика:
- Внимание, часовые! Пленных к берегу ведут, сюда, под откос, Приготовиться! Сейчас, верно, и за нашими придут.
- Эх, сестрица, - с сожалением проговорил костромич Бугров. - Даже ножки от кровати оторвать не успел, все ж накостылял бы напоследок какому-нибудь благородию... Ну, ребята, чтобы под "Интернационал" у стенки, слышь? Недолго им царствовать, а нас народ не забудет, помянет...
Дверь отлетела в сторону. Крик из коридора: "Выходи!"
Шаров поднялся и шагнул было к выходу, но Бугров спокойно остановил его:
- Постой, постой, не больно спеши! Негоже больных на произвол бросать, парень! Их тут моментом штыками к койкам... Бери лежачих, клади на одеяла, берись за концы. Пошли, ребята, и... без паники!
Так, таща всемером Савватия и Овчинникова, арестанты по трапу сошли на берег. Им помогали ударами револьверов и прикладов. По береговой гальке повели к паромной переправе. С парома перед узниками открывалась панорама Ярославля. Выходя к Волге руслами стародавних оврагов, превращенных в плавные спуски, улицы Ярославля как бы ныряли под каменные арки мостов, протянутых вдоль набережных выше береговых откосов.
Линию этих верхних набережных оттеняла липовая аллея, уходившая вдаль сколько глаз хватал. Торжественно белело на Стрелке здание Демидовского юридического лицея рядом с мощным пятиглавием кафедрального собора. Из густой парковой зелени уютно выглядывали шатры колоколен и главы знаменитых церквей. Вдоль набережной красовались фасады особняков с балконами, резными перилами, итальянскими окнами...
Но шла здесь сейчас кровопролитная, беспощадная война.
За поймой Которосли, слева, отстреливались красные дружины, отступившие к Коровникам. Бой шел за городской мост, прозванный Американским.
Справа, где четко рисовались в небе огромные дуги металлических ферм железнодорожного моста через Волгу, бой кипел с особым ожесточением. Запах пороха и гари достигал парома с узниками.
Кое-где с балконов свисали прежние флаги, бело-сине-красные. Антонина приметила каких-то людей на колокольне затейливой церкви Благовещения с фигурными куполами-"чернильницами". Люди наклонялись к чему-то приземистому, осевшему на задние лапы. Одна из фигурок приставила к глазам бинокль и вытянула руку. Тотчас кургузый зверь у ног фигурки затарахтел, забился и снова смолк. Это действовала пулеметная точка.
Паром с узниками приближался к дровяной барже, поставленной на якорях посреди Волги, против Арсенальной башни. Перевозчики еще не успели подвести паром к барже, как над головами узников с воем прошел пушечный снаряд. Антонина, державшая угол одеяла с неподвижным Сашей Овчинниковым, невольно пригнулась, чуть не выронила ноши. А ее напарник, костромич Бугров, державший одеяло за другой конец, говорил ободряюще:
- Не бойсь, сестричка! Если слышно, как летит, - значит, мимо! Который сюда, того услышать не успеешь.
Пока паром неуклюже маневрировал у баржи, еще один снаряд почти накрыл суденышко, рядом поднялся шумный фонтан, что-то ухнуло глухо, конвойные заругались... Как только паром стукнулся о дерево баржи, охрана - кто прикладом, кто сапогом, кто кулаком - погнала пленников на борт через один из прямоугольных проемов, зачем-то устроенных в борту этого судна.
Паром оказался много ниже баржи, и даже с пароходного трапа трудно было взобраться к проему. Удар прикладом пришелся Антонине между лопатками, она споткнулась и упала лицом вниз на палубу баржи. Бугров же успел один подхватить тяжелого Сашку за талию и подать наверх. Следом таким же порядком забросили вверх старца Савватия. С узкого палубного настила узников согнали вниз, на грязное, залитое водой дно плавучей тюрьмы. Баржа была загружена березовыми дровами на треть или четверть. Среди поленьев и стали располагаться пленники.
Конвойные тотчас отплыли восвояси. Охраны оставлять не требовалось, потому что у Арсенала установили пулемет Расположился за ним опытнейший стрелок, в прошлом подъесаул, хромой пациент Антонины Иван Губанов. Его отлично смазанный, сегодня добытый с бою "максим" надежно обеспечивал охрану баржи с заложниками...
4
Над темно-синими хвойными лесами дальнего северного Подмосковья полосою прошел веселый грозовой ливень.
У летчиков Военного учебно-опытного авиаотряда шли к концу занятия по тактике. Слушатели все чаще отрывались от учебных карт и поглядывали то на полотняный, потемневший от сырости потолок палатки, то на часовые стрелки. Как известно всем слушателям всех учебных занятий в мире, эти стрелки имеют удивительное свойство - застывать на месте минут за десять до конца последнего урока!
Именно в эти мучительные минуты пилоты первой эскадрильи уловили шум штабной "индианы" - кроваво-красного мотоциклета, на котором разъезжал адъютант командира.
С пулеметным треском мотоциклет промчался от зеленого летного поля к палатке, поднял из свежих голубых лужиц два буруна брызг и затормозил перед пологом. Водитель приподнялся в седле, удерживая машину промеж длинных ног, обутых в высокие, зашнурованные от подъема до колена коричневые летные сапоги. Он сдвинул на лоб большие очки-консервы в кожаной оправе и скомандовал дневальному:
- Комэска-один, Петрова, на выход! Срочно!
Петров протянул было руку за штабным пакетом, но адъютант выразительно указал на багажник с засаленной подушечкой.
Водить мотоциклет Петров любил, но притуляться по-женски за спиной водителя терпеть не мог. За адским треском невозможно было говорить. По торопливости адъютанта комэск догадывался, что в штабе ждут его нерадостные новости.
В бревенчатом домике штаба к собравшимся командирам вышел комиссар отряда. Украдкой он взглянул на часы - проверил, сколько времени понадобилось, чтобы собрать весь летный комсостав. Адъютант повесил на школьной доске карту-десятиверстку.
- Обстановка осложнилась, товарищи красные летчики, - начал комиссар. - Здешний глубокий тыл перестает быть тылом. Нашему учебно-опытному отряду предстоит новая, чисто боевая задача... Выделим группу... Начальник штаба, читайте приказ Высшего военного совета республики.
В приказе говорилось, что в нескольких городах Верхнего Поволжья вспыхнули контрреволюционные мятежи.
Слушатели молча глядели на высокого плечистого комиссара. Он был чисто выбрит, подтянут, никогда не перебивал собеседников и не делал замечаний, пока говорили другие. В отряде знали, что еще до войны Сергей Капитонович Шанин выполнял партийные задания, пользуясь командировками во Францию и Италию. Перед началом мировой войны находился в ярославской тюрьме, потерял связь с женой и дочерью, ждет отпуска, чтобы продолжить розыски семьи. Говорили, что он отказался от крупного поста в Петрограде, чтобы не порывать с летным делом и не отвыкать от штурвала. Несмотря на проседь, глядел комиссар еще довольно молодо.
- Насчет общей обстановки много толковать не стану, - сказал он после того, как приказ был оглашен. - Сами знаете: в Мурманске англо-французы ждут подкрепления и пытаются продвинуться на Архангельск, Вологду, Котлас. На Дальнем Востоке японцы высадились недавно. На Украине и на Западе немцы. На Кавказе белые националисты. На Дону генералы Краснов и Мамонтов. На Средней Волге чехословаки, глядя на которых в Сибири и на Урале оживились претенденты на власть. Все они разных оттенков, но преимущественно одной масти - белой.
Покамест лишь у нас, под Москвой, и на Верхней Волге было тихо. Вот господа генералы и решили перекинуть с севера, от интервентов англо-французских, стратегический мостик через Верхнюю Волгу на Среднюю, к чехословакам, то есть связать в один фронт англо-французов и чехословацкий легион К этому приурочен и мятеж левых эсеров в Москве. Теперь вспыхнуло дело в Ярославле. Словом, наша Москва должна свалиться в руки генералов Антанты, как спелая груша...
Комиссар помолчал, обводя взглядом командиров. И хотя он лишь вкратце повторил то, что было нанесено на карту, слушатели потупились: уж очень невеселая складывалась картина! Ведь теперь, внутри сплошного кольца фронтов, появился новый синий флажок: Ярославль!
- Однако, товарищи, поднятые в нашем тылу мятежи не дали противнику желаемых результатов. Показательно, что нигде рабочие и крестьяне не поддержали восставших. В Рыбинске, Костроме, Муроме, Кинешме события не приняли широких масштабов, и в Москве левоэсеровский мятеж угасает. Только в Ярославле контрреволюционерам удалось хорошо подготовить удар, захватить массу оружия, казнить советских руководителей. В городе идут аресты, пытки, убийства наших людей. Заправляют там кадеты, эсеры, меньшевики.
Снова возникла пауза - совсем близко от окон штаба механики отряда завели мотор, пробуя его на малых оборотах. Комиссар закрыл оконную створку и вернулся к карте.
- Товарищи красные летчики! Недаром в старину ярославцы говаривали: Ярославль-городок - Москвы уголок! Эта формула ко многому обязывает. Будем драться за этот уголок Москвы. Пошлем в бой сводную эскадрилью.
Летчики переглянулись. Кто назначен? Кому лететь? Стояла полная тишина, умолк даже мотор за окном.
- Командование сводной эскадрильей доверено мне, - закончил комиссар. - Пойду на "сопвиче" с летнабом Ильиным. Пилотировать "фарман-тридцатку" будет комэск-один Петров, наблюдателем и фотограмметристом слетает с ним замкомэска-два Крылов ввиду особой важности задания. Для связи прибавим еще "Ньюпор-24", пилот Шатунов. Итак, к 18 часам перегнать машины в расположение первой эскадрильи для проверки готовности к вылету. Предварительно получить на складе динамитные бомбы по шести пудов на машину. Действуйте, товарищи!
На следующий вечер в штабе авиаотряда пилоты и летнабы сводной эскадрильи рассматривали при свете керосиновой лампы влажные отпечатки фотографий, снятых с воздуха в районе Ярославля. Летчики сфотографировали город с небольшой высоты ручными камерами. На снимках отчетливо рисовались линии окопов вдоль волжской набережной, огневые точки на подступах к мосту через Волгу и сильные укрепления противника близ станций Филино и Урочь в Заволжье.
В центральной части города чернели на снимках зияющие провалы в жилых кварталах. Улицы с деревянной застройкой выгорели почти наполовину. Дым пожаров скрадывал многое на снимках. Но было установлено, что колокольни служат противнику пулеметными гнездами. Насчитали до 400 пулеметных точек, несколько артиллерийских огневых позиций. Здания духовной семинарии, Вахрамеевской мельницы и в особенности бастионы древнего Спасского монастыря служили противнику крепостями.
Взявши лупу, можно было разглядеть на улицах фигурки в шляпах - это выползли из нор "бывшие". Видны были извозчики. два-три легковых автомобиля, взвод самокатчиков и до эскадрона конницы. Два бронеавтомобиля замечены были около церковного строения; по справочнику установили, что название церкви - Никола Мокрый.
Батарея дивизионных орудий стояла на огневых позициях у Демидовского лицея. Небольшое скопление народа наблюдалось на Некрасовском бульваре около какой-то повозки с плакатом над нею. Лишь позднее перебежчики помогли расшифровать эту часть снимка: оказалось, новые городские власти возили по улицам для устрашения и вразумления граждан тело расстрелянного военного комиссара Семена Нахимсона, брошенное на возок.
На рябоватом просторе Волги было почти пусто. Действовала переправа буксирный пароходик волок плоскодонный паром в заволжский район Тверицы. Какой-то остроносый пароход притулился у Самолетской пристани. И еще одно судно сиротливо чернело на стрежне, против башни Арсенала, между паромной переправой и стрелкой Которосли.
Это была забытая баржа-гусяна, походившая сверху на глубокую лохань. На дне ее валялись дрова, спали вповалку какие-то люди и чуть отсвечивала вода. На снимках баржа вышла плохо - ее заволокло дымом пожаров, полыхавших на обоих берегах Волги.
Рассматривая фотоснимки реки в районе боев, командир сводной эскадрильи Сергей Капитонович Шанин особого внимания на эту баржу не обратил...
Глава вторая. БЕГЛЕЦ
1
Военный врач с парохода "Минин", доктор Пантелеев, в первый же день белого ярославского мятежа был назначен старшим ординатором полевого лазарета. Развернули его наспех, в нижнем этаже школьного здания, недалеко от Ильинской площади. Персонал лазарета - старший и младший врачи-ординаторы, фельдшер, сестра милосердия и две сиделки из офицерских жен - сбился.с ног.
Утром 10 июля доктор Пантелеев устало глядел, как неумелая хирургическая сестра тратит лишние аршины бинта на перевязку пожилого офицера, раненного в бедро. Вспомнился недавний пациент на "Минине" с такой же раной и сиделка-послушница из Яшмы. Вот бы кого сюда в помощницы! Опытная, быстрая, толковая. Красавица к тому же... Надо ли было отсылать ее к смертникам на барже? Подумаешь, красный агент! Впрочем, действительно, за красными своими пациентами в каюте она ухаживала самоотверженно, а к Губанову, да и к самому доктору Пантелееву отнеслась весьма холодно. К белым явно не расположена. Видимо, и в самом деле неспроста!..
- Внимание! Боевая тревога! - орет дневальный по лазарету. Значит, какое-то начальство пожаловало. По всем временным палатам забегали легкораненые. - Всему персоналу, всем ходячим больным немедленно обуться, одеться по форме и выходить во двор на построение!
Явился в лазарет с этим приказом некто поручик Фалалеев, шеф перхуровской полиции. Лучше не спорить! Нашли время для построения, черт побери!
Доктор Пантелеев снял халат, ополоснул под рукомойником руки, подтянул пояс и вышел во двор, внутренне негодуя. Фельдшер, старый служака, уже выстраивал легкораненых. Вид у обеих шеренг был далек от воинского идеала. Поручик Фалалеев верхом на гнедой лошади, нетерпеливо поигрывал шашкой. Как только он убедился, что лазарет строем выходит на улицу, Фалалеев взял лошадь в шенкеля и поскакал на площадь. Сопровождал его вестовой из бывших унтеров.
За углом колонна чуть задержалась, пропуская громыхающие машины бронедивизиона, кое-как державшие равнение. Следом за дивизионом двинулись на площадь конники числом до эскадрона. Пантелеев видел, как эти кавалеристы лихо выскочили на простор, изрядно на ходу растянулись по всей площади и следом за броневиками свернули за ограду Ильинской церкви. Однако вместо того чтобы скакать за машинами, конники по команде эскадронного снова завернули вправо и опять очутились на площади. Они вторично прогарцевали перед зрителями, будто участвовал в параде не один, а два эскадрона. За конниками с тихим лепетом блестящих спиц и шелестом резиновых шин промелькнули велосипедисты-самокатчики. Эти завернули на площадь не дважды, а даже трижды, всякий раз искоса посматривая на начальство: ладно ли делают?
"Кому и кто втирает очки этим парадом? - сердито думал доктор Пантелеев, присматриваясь к этим нехитрым военным уловкам. - Парламентеры красные, что ли, явились для переговоров?" Но тут прозвучала команда, и на площадь вступили "войсковые тылы". В том числе и сам военврач Пантелеев.
Он увидел на тротуаре наспех уложенный дощатый настил, а на этом слабом подобии трибуны группу генералов и полковников. В центре группы важно стояли два иностранных офицера. Их форма была незнакома доктору.
Видимо, ради них и учинен парад перхуровских частей...
Показывать тылы вторично не понадобилось - вид их был слишком невзрачен. Строи повернул налево, к лазарету.
Воротясь в операционную, Пантелеев узнал от сестры, что юнкер, ожидавший операции в паху, тем временем успел истечь кровью прямо на носилках, в коридоре...
Уютный балкон двухэтажного особняка на Волжской набережной завален мешками с песком. Они защищают от шальных пуль зеркальные стекла нижней квартиры. На втором этаже половина стекол выбита. Жильцам пришлось покинуть верхний этаж дома. Это вызывает у хозяев даже чувство злорадства: там разместились зимой по ордерам Ярославского совдепа четыре большевистских рабочих семейства, переселенные из полуразрушенных бараков. Хозяин особняка, польский инженер Здислав Зборович, понимает, что этим людям неважно жилось в ветхих бараках, но... он-то тут при чем? Он-то покупал особняк у полковника Зурова для себя!
Покупку совершили весной 1917 года, и немало приятных гостей перевидал особняк на Волжской набережной за быстротечное лето. Приезжали деловые люди из Москвы, Парижа и Манчестера. Перед ними играли пианисты, танцевали прелестные балерины, читали пророческие стихи поэты Бальмонт и Северянин, пел знаменитый тенор Смирнов. А как шли коммерческие дела, связанные с поставками на союзную армию!.. Потом - переворот в октябре. Чека. Очереди. Уплотнение. А теперь?
В доме не горит электричество, припахивает керосиновым перегаром от ламп, и дамы с тревогой прислушиваются к стрельбе на городских окраинах.
Впрочем, трагические июльские события не были неожиданными для семейства Зборович. Уже с зимы 1917/18 года стали появляться в уплотненном особняке новые приезжие. Они тоже выступали в задних комнатах особняка перед избранным кругом слушателей. Собрания шли, правда, без сверкающих люстр и криков "браво!", но с каким вниманием слушатели ловили каждое слово!
Был среди этих приезжих эсер Борис Викторович Савинков. В недавнем прошлом, при Керенском, Борис Савинков, будучи помощником военного министра, ввел смертную казнь за воинские преступления. Совещались с ним в особняке Зборовичей генералы Гоппер и Карпов, бывали посланцы французских и британских дипломатов.
Хозяйка дома, пани Элеонора, завязала дружеские отношения с артисткой ярославского "Интимного театра" Эльгой Барковской, у которой был поклонник, сыгравший немаловажную роль в подготовке событий, - поручик Фалалеев.
Поручик имел такой простоватый вид и так подчеркивал свой демократизм, что ярославские партийные руководители принимали его за выходца из низов, заслуживающего доверия. Давнишний завсегдатай чайных, бильярдных и трактиров, Фалалеев хвалился особой осведомленностью о делах уголовного мира и предложил уездным властям свои услуги в качестве надежного блюстителя порядка. Ярославские власти поручили ему пост комиссара уездной милиции. Поэтому Перхуров знал обо всех переменах в дислокации частей, обо всех разногласиях в губкоме и губисполкоме, имел адреса руководителей, план караульной службы, сведения обо всех запасах на городских складах.
Самый же младший отпрыск семьи Зборовичей лично участвовал в нанесении первого удара, в захвате артиллерийского склада у Леонтьевского кладбища, на Всполье. Правда, офицерам захват склада удалось произвести почти бескровно, а первыми, кто прискакал из города на рассвете 6 июля по сигналу тревоги, были конные милиционеры поручика Фалалеева. Семнадцатилетний Владек Зборович вернулся домой героем, в офицерской форме с погонами прапорщика, которые будто бы собственноручно укрепил на плечах молодого воителя сам Главноначальствующий!
В уютном особняке Зборовичей приготовили после воинского парада званый ужин, где полковник Перхуров обещал поделиться с почетными ярославскими гражданами радостными новостями о ходе патриотического дела.
2
Главноначальствующий прикатил на Волжскую набережную в потрепанном, но не потерявшем изящества автомобиле "непир". Сопровождали его штабист полковник Зуров и бывший адъютант Зурова подпоручик Михаил Стельцов.
По знаку главы нового городского управления меньшевика Ивана Савинова оркестр сыграл туш. Музыкантов набралось мало, и приветственный туш по случаю прибытия Главноначальствующего получился жидковат. Сидевшие в зале поднялись с мест и наконец увидели главного героя ярославских событий,
Выше среднего роста, смуглый, резкий в движениях, плотно влитый в защитный мундир, Александр Петрович Перхуров пересек зал и поднялся на возвышение, некогда служившее сценой артистам. Чуть сутулясь и ни на ком не останавливая надолго взгляда черных острых глаз, Главноначальствующий поднял руку, как бы протестуя против туша. Кивнул ближайшим знакомым, поклонился артистке Барковской, но вовсе не заметил поручика Фалалеева, державшего артистку под руку. Заговорил отчетливо и резко:
- Господа! Рад возможности известить вас о важном событии на нашем участке борьбы за освобождение России.
Зал замер. Лишь за обоями осыпалась штукатурка от сильных разрывов. Это бил по городу красный бронепоезд.
- Сутки назад отбыли за Волгу квартирьеры французской армии, присланные от главного штаба союзного командования на русском Севере. В ближайшие часы в Архангельском порту высаживается десант экспедиционных англо-французских войск. Мы переживаем исторические минуты.
Как бы подтверждая слова Перхурова, начали бить большие угловые часы в зале. Звон был мягкий, густой и показался всем таким многозначительным, что Перхуров пережидал все восемь ударов. Когда "часы истории" отзвучали, он продолжал:
- Мне сообщили, что после высадки в Архангельске войска союзного десанта проследуют прямо в Вологду, Рыбинск, Ярославль и Муром. Во всех этих городах восстание против большевиков развивается успешно. Через несколько суток по захваченному нами железнодорожному волжскому мосту союзники соединятся с нашей группировкой, и мы вместе двинемся для завершающего удара к Москве.
Публика захлопала в ладоши. Перхуров поманил к себе пана Владека.
- Прапорщик Зборович! За храбрость, проявленную вами при захвате артиллерийских складов, награждаю вас орденом святого Георгия III степени и назначаю адъютантом моего штаба.
Полковник умолчал, правда, о том, что ящик георгиевских крестов был обнаружен на складе, так что новоявленных георгиевских кавалеров в городе заметно прибыло. Присутствующие об этом не ведали и были растроганы. Перхуров закончил так:
- Вас, господа офицеры Зборович и Стельцов, я не хочу похищать нынче у милых барышень в этом зале. Извольте завтра к восьми утра явиться в штаб для исполнения служебного долга. А нам с полковником Зуровым приходится спешить!
И старшие офицеры укатили на своем "непире". Повеселевшие гости устремились к накрытым столам. После ужина гостям был преподнесен сюрприз выступление Барковской...
От выпитого вина, добрых вестей и смелых комплиментов артистка находилась в очаровательном чаду.
К исполнительнице подлетели два офицера с бокалами.
- Вы пригубите? Сочтем за счастье!
- Благодарю вас, господа! Как вас зовут, подпоручик? Михаил Стельцов? Это о вас говорил что-то Главноначальствующий? А вас, пан Владек, я даже не успела поздравить с первым крестом. Уверена, что он не последний. Но здесь так накурено и душно! Хочу на воздух, к реке... Опасно? С такими кавалерами, как Мишель и пан Владек? Разве не за храбрость вам нынче вручен этот крестик? Достаньте лодочку, Владек, мне пришла фантазия покачаться на волнах!
Тихая ночная Волга отражала столько пожаров, что казалось, будто в темных берегах струится багрово мерцающая лава. Стрельба попритихла в глухую пору. Изредка прокатывалась пулеметная дробь или бухало орудие, на миг озаряя волжский мост или тучу над крышами. Вперемежку с орудийными зарницами мелькали грозовые, бледные и слабые в сравнении с артиллерийскими вспышками. Барковская спускалась с откоса, поддерживаемая Стельцовым. Владек был уже внизу. Грозная ночь и легкое опьянение отнимали ощущение реальности.
- Какой мистический вечер! И никого, никого вокруг! Вниз, вниз, вниз! Мишель, ведь я сумасбродка! Смотрите, наш пан Владек и в самом деле поймал какую-то лодку! Он прелесть, этот ребенок, я его расцелую за лодку! Боже мой, но там уже кто-то сидит, в этой лодке? Фу, да это, оказывается, мальчишка. Говори сейчас же, кто ты такой и зачем приплыл сюда... А то эти господа тебя живо... Впрочем, Владек, отведите его наверх, пусть-ка поручик Фалалеев, когда вернется, хорошенько поговорит с этим рыбаком. Мы же с мосье Мишелем покараулим лодку и непременно дождемся вас... Оревуар, Владек!.. Мишель, кажется, собирается гроза. Господи, какое зарево! И уж который день. Я мерзну, садитесь ближе... И не кажется ли вам, что мы сейчас любуемся несчастным Ярославлем, как некогда император Нерон пожаром Рима, им самим подожженного?
3
С того часа, когда партия арестантов попала на борт плавучей тюрьмы, паром приставал к барже еще дважды или трижды, высаживая новых узников, но ни разу заключенным не давали поесть. Потом перестали привозить новых, вести с воли прекратились, надежды на спасение стали гаснуть. О положении в городе гадали по звукам боев. Видеть же люди могли только небо над головами, либо серое, в клочьях грязного дыма, либо черное, в зареве пожаров.
Лежа на штабеле поленьев, Сашка Овчинников в который раз осматривал баржу и думал: как выручить отсюда Антонину?
Уже в первые сутки плена, когда для него и старца Савватия сложили широкую постель из березовых плах, Овчинников не позволил поднимать себя. Превозмогая боль, он сам вскарабкался на приготовленное ложе.
- Хватит нянчиться! - заявил он, красный от смущения. - Небось уж затянуло рану. Пора костыли ладить. Пока могу и ползком.
Антонина только руками всплескивала.
- Не слушайте вы его! Ему еще позавчера вспрыскивания были. На пароходе еле допросилась перевязки. Куда ему ползать, костыли ладить? Погубит себя только!
Иван Бугров ободрял и сиделку и раненого, втолковывал нетерпеливому больному:
- Дуришь, парень! Радуйся, что швы целы и нога в лубке. Силушку береги, война впереди еще долгая.
- Располагать надо не дольше как до часа расстреляния нашего или потопления вкупе с сим ветхим ковчегом! - вмешался как-то в разговор Бугрова с Сашкой увечный старец Савватий. - Прости им, господи, ибо во злобе своей не ведают, что творят и над кем творят,
- Нет, дедушка, - успокаивал старика Бугров. - Для расстреляния нашлась бы стенка и на берегу. И утопить такую лохань середь Волги, на глазах горожан, дело непростое. Потому и толкую - не на час или два здесь располагаться надо. Может, поплавать придется, вот и надо силушку беречь.
Овчинников заметил, что заключенные на барже, не сговариваясь, молчаливо признают некоторых людей как бы за старших. К таким людям принадлежали, скажем, костромич Иван Бугров, рабочий Иван Вагин, губкомовец Павлов, сотрудница военкомата белокурая девушка Ольга. Никто не выдвигал их в начальники, и сами они совсем не выделяли себя, даже не старались распоряжаться, но именно к их словам прислушивались, сообщениям верили, советы исполняли, а поступки их становились примером.
Сашка ощущал не совсем еще понятную силу, сплачивающую этих людей. Она придавала им уверенность и спокойствие, словно они знали что-то такое, во что остальные не посвящены. Сашка про себя называл их "товарищи старшие" и определил, что среди трех сотен узников их едва ли наберется десятка полтора.
В городе все чаще ухали пушки, пулеметные очереди иногда сливались в неумолчный вой. Поблизости от баржи сочно хлюпала вода, заглатывая осколок или пулю. Сашка улавливал, как вдруг смачно чокнет пуля пониже ватерлинии, и вскоре где-то под дровами булькнет струйка... Появились и первые жертвы. При попытке достать из-за борта питьевой воды погиб чуваш Василий Чабуев. Потом удалось найти бидончик, расплести кусок каната и черпать воду уже без особенного риска... Однако не выдержал голода Шаров - попытался кричать из бортового проема: "Хлеба! Хлеба!.:" Выпросил только губановскую пулю, и вскоре в дальнем конце трюма лежало уже пятеро убитых.
Однажды вечером Сашка решил потолковать с Иваном Бугровым. Дескать, голод отнимает последние силы. Пора что-то делать.
Овчинников медленно сполз со своего ложа. Старец Савватий спал. Чернело на груде поленьев монашеское одеяние Антонины - она даже не пошевелилась, когда Сашка, волоча раненую ногу и сгибаясь в три погибели, пустился в первое свое путешествие по барже.
За штабелем на корме шло заседание партийной группы заключенных. Они только что выслушали помощника ярославского губвоенкома Полетаева. Его доставили на борт с последним паромом. Он рассказал о гибели ярославских партийных руководителей Нахимсона и Закгейма, о новых приказах, расклеенных в городе за подписью Главноначальствующего вооруженными силами северной Добровольческой армии Ярославского района полковника Перхурова.
- В Рыбинске, слыхать, то же самое, - вставил рабочий Пронин, металлист из Твериц. - Про это тоже в приказах написано. Бои, похоже, затягиваются. Люди на барже надежду теряют.
- А что, если попытаться как-то с берегом связаться? - высказалась Ольга. - Может, плотик соорудить, послать кого-либо на берег? Знают ли люди, что мы здесь? Неужели никто не добивается, чтобы нам хоть передачи от родных разрешили? Сердце у меня сжимается, как о старушке своей подумаю, ведь ей эту баржу из окошка видно: на набережной дом.
- Что ж, - в раздумье сказал помвоенкома, - может, мысль твоя правильная, подумаем. Но пока надо людей от черных мыслей отвлечь, поднять дух товарищества. Тут на носу мужчина есть в темном пиджаке, работник музея. Я прислушался, как он хорошо про наш город рассказывает. Мне думается, пусть бы погромче, для всех рассказал о земляках наших и про памятники исторические.
- Ну насчет церквух разных старик монах почище того музейщика наплел бы, - заметил Пронин сердито. - Ох, видел я, пока нас сюда из каземата вели, как такой же праведник-монах с колокольни по нашим стрелял.
- Из Спасского монастыря не одни офицеры стреляли, с монахами вместе, - подтвердил и Вагин. - Уже и поговорку кто-то пустил: "Что ни попик - то и пулеметик". Кстати, каким же ветром к нам на баржу монаха и монашку занесло?
- Это я могу объяснить, - сказал Бугров. - Старик попал за то, что офицеру казачьему заявил, не его, мол, дело стариковское в мирские распри вникать и беляков на брань благословлять. Безвредный старик. А сиделка-послушница раненых не покинула, к белякам не пристала. И скажу вам так, товарищи: сиделка, как видите, очень хорошая, заботливая, никому в помощи не отказывает. Не надо бы на каждом шагу повторять: монашка, монашка! Уж случайно ли, нет ли угодила с нами - пусть научится понимать нашего брата, не дичиться нас. Молода еще, жизнь вся у нее впереди.
- Небось приучали ее на нас как на зверье смотреть, - начал было Пронин, как вдруг из-за штабеля высунулась чья-то рука и легла на. плечо Бугрову. Все с удивлением узнали раненого Сашку Овчинникова.
- Ты что, Саша? - в недоумении спросил Бугров; - Чего тебе?
Сашка внимательно посмотрел на серевшие в сумраке лица, дольше всех задержал взгляд на Ольге. У нее был карандашик и книжка курительной бумаги: пока совсем не стемнело, Ольга делала для себя пометки. Овчинников примостился на полене рядом с Ольгой и обратился к помвоенкома Полетаеву:
- Пишете, значит? Что ж, запишите и меня.
- Куда тебя записать, товарищ? - удивился Полетаев. - У нас партийное собрание. Кончим и потолкуем с тобой. Погоди малость.
- Нечего и годить. Пишите и меня в ваше собрание. Чтобы и мне, стало быть, считаться как партейным. Пишите так: Овчинников Александр Васильевич, с 1897 года. Еще чего про меня знать надобно?
- Ты хочешь в коммунисты записаться? Так тебя понять?
- Да. Желаю вступить.
- А ты кем на воле был?
- Крестьянин я. Из села Яшмы.
- Бедняк? Середняк? Ведь крестьяне разные бывают.
- Дед бурлачил, а отец вроде середняком был. Своего хозяйства я не имею, на брата работаю.
- А брат твой?
- Овчинников Иван. Этот справный. Конным делом промышляет. Но я делов его больше знать не хочу. Учиться надумал уйти.
- Ну а в политике разбираешься? Знаешь, что по этой части с коммуниста спрос немалый?
- Разбираюсь плоховато, а научиться желаю. Насчет белых-красных вроде бы разобрался, на то мужику большого ума не надо.
- Газеты читаешь? Ленина знаешь, слыхал?
- Слыхал. Всей красной силе - голова.
- Разрешите мне! - вмешалась Ольга. - Вот, понимаешь, Овчинников, если придут сюда, на баржу, белые офицеры, они раньше всего скомандуют: коммунисты, комиссары, жиды - два шага вперед! Это может случиться ночью, через час, в любую минуту... И должен коммунист, не дрогнув, голову сложить за народ. Ты подумал об этом?
- Как раз об этом и подумал. И так решил: с вами держаться. Все сумею как подобает. Не сумлевайтесь, пишите!
- А в бога ты веруешь, Овчинников?
- Конечное дело, верую. Что же я, зверь?
- А знаешь, что коммунисту верить в бога не положено?
- Стороною слыхал, только не может того быть, чтобы Ленин запрещал человеку в бога веровать, совесть иметь. Никакой цены такой шеромыжник без совести не имеет.
- Видишь, какой ты еще несознательный товарищ? Владимир Ильич, товарищ Ленин, пишет и повторяет, что религия - опиум народа. Буржуазия отравляет дурманом ум трудящихся, чтобы сделать их покорными рабами. И только. Ясно?
- Не, неясно. Много добрых людей верует. Вон хоть Антонина. У нее отец-мать образованные были, а она верует. Человеку понятие надо иметь, что грех, а что дозволено. А без бога как понимать грех? Почему не украсть, не убить, клятвы ложной не дать? А ты - опиум! Выходит, и на присягу плюнуть можно?
- Вот что, Овчинников, - сказал помвоенкома. - Это разговор нужный, но долгий. Сейчас, понимаешь, некогда. Подумать надо, как от пуль защититься, мертвых убрать, надежду укрепить...
- И я про это думаю, планы строю. Имею еще силы немножко. Если надумаете что - и я с вами. Все исполню, что поручите.
- Да ведь ты не с нами, а с господом богом, - сказал Смоляков, металлист со станции Урочь. - Ты богу слуга, а не людям. Держись ближе к Бугрову, он тебе растолкует, чего ты еще не понял.
- Ну а в партию-то вы меня записали?
Смоляков привстал, давая понять Сашке, что он лишний здесь.
- Позвольте мне! - взял слово Бугров. - Парня я знаю. Никак господин подъесаул с ним общего языка не нашел, а мы должны найти. Считаю так, товарищи: надо уважить просьбу! Каждый, кто до смертного часа останется верен делу революции, достоин считаться коммунистом, если сердце его того требует. А билет на берегу выдадим. И оговорку сделаем, чтобы занялся потом изживанием своих предрассудков.
Смоляков с сомнением покачал головой.
- Эдак Бугров и попа и монашку - всех вовлечет.
- Нет, не вовлечет! - горячо возразил Вагин. - Те на барже случайные попутчики наши, а у этого парня просто путаница в башке насчет совести. Я так думаю, что церковной божественности у него и в помине нет, а совесть бедняцкая, рабочая есть. Ставь на голосование. Я. Бугров, Павлов - мы за.
- И я проголосую "за", - сказала Ольга. - Он у нас фронтовик.
- А скажи мне, товарищ Овчинников, еще одну вещь, - остановил голосование помвоенкома. - Если, может, придется нам эту баржу покинуть на лодочке или плоту, кого бы ты первым спасать стал?
Вопрос озадачил Сашку. Было темно, отсветы пожаров и луна позволяли смутно видеть бледные лица "старших". Их-то и надо бы спасать, самых нужных на берегу людей, а не девушку-послушницу, которую он, Сашка, на беду свою, полюбил больше собственной жизни...
- Говори, Овчинников, - поторопил своего подшефного Бугров. - Не смущайся, говори на партийном собрании и везде только правду. Кого, стало быть, в первую очередь?
- Думается, кого... постарше и послабее, - произнес Сашка.
- А может, сами сперва спасемся, а потом придем на выручку слабым, коли не помрут к тому времени? По душе тебе так?
Овчинников уловил иронию и обрадовался:
- Не, сперва слабых!
- А коммунистов-то когда же? Али в последнюю очередь?
- Не, зачем в последнюю... С остальными вместе...
- Запоминай, Александр, - строго сказал помвоенкома. - На поле боя коммунист приходит первым, а покидает его последним. Так впредь сам и живи! Что ж, товарищи, проголосуем. Я лично "за".
Сашка, поддерживаемый Бугровым, добрался до своего березового островка, когда рассвет уже начал брезжить. Антонина примостилась в ногах Савватия и берегла его сон. Надеждин, очень слабый, пробормотал, глядя на Сашку:
- Двужильный ты, что ли, Овчинников? Рана только подживает, а он чуть не приплясывает! Швы пора ему снимать, слышь, сестрица?
Но сиделка в этот раз будто и недослышала. Приподнялась, тихонько скользнула мимо Сашки, повела плечом так, чтобы не коснуться мимоходом его локтя. Когда прикорнула на своей поленнице, Сашка различил глухие рыдания и почти скатился с поленьев.
Он добрался до Тони, но та резко оттолкнула его руку.
- Отойди! Отступник ты... - тело ее сотрясалось в ознобе. - С безбожниками заодно. Вечер целый... в обнимку со стриженой. От совести, от бога отрекся. Знать тебя не хочу!
- Напрасно ты, Тоня. От совести не отрекался и в обнимку не сидел. Ольга - товарищ нам, и мне и тебе. А без тебя мне жизни нету, на том и стою, как стоял.
- Шел бы с миром к себе! Господи, спаси мою грешную душу! Не понял ты, Саша, что у меня нынче на сердце было. Как я тебя ждала!
- Про что ты, Тоня? В толк не возьму! Неужто... обнадеживаешь?
- Грех мне, Саша, но уж и сама противиться не могу! Я ведь тебя не по-божески, по-женски люблю. За счастье считала одним воздухом с тобою дышать, как заезжал к нам на постоялый двор. В монастыре третий год, словечком не перемолвимся, письмеца послать не посмела, все равно не пересилю я это в себе! Старец душу мою как стеклянную насквозь видит. Велел тебе сказать... А ты... к тем, к той.
- Боязно и слушать тебя, Тонюшка! - ошалело пробормотал Сашка.
- Не гляди на меня так, Саша. Старец велел, чтобы я уговорила тебя плыть на берег, ради нашего спасения. А я боюсь, чтобы ты себя смерти подвергал. Уж лучше, если суждено, за руку тебя взявши, вместе и чашу испить общую.
Сашка начал понимать, с чем ждала его Тоня, обиду ее... Он сжал в ладонях исхудавшую девичью руку.
- А что он велит мне делать там, на берегу, если доплыву?
- По усмотрению поступать. Может, с кем из начальства поговорить, убедить отпустить невинных. Или конвою добра посулить, чтобы лодку подал и нескольких спас. А ежели не тронешь ты их сердца, может, сам тайком лодку пригонишь, во тьме или тумане. Словом, коли мы все трое окажемся на берегу, то послух монастырский он с меня снимет. На брак с тобою благословит.
В трюме рассвело, Сашка отодвинулся на самый край Тониной поленницы. Даже не заметил, как здоровая нога погрузилась в воду.
- Ну, а... кабы не вышло у меня дело, тогда как будет? Скажем, белые отпустят или красные спасут - неужто нам опять разлука?
- Ох, Саша, ты говоришь так, будто нам уж ворота отсюда распахнуты, только в троечку твою сесть! Кругом-то голод и смерть.
- Это я, Тоня, понимаю. Да ведь и с теми, "старшими", про то же толковали, только подкладка у ихнего разговора иная. Говорят, перво-наперво увозить надо с баржи больных и старых, а сами - последними останемся, такая доля партейная. Это как считать, Тоня, безбожники они али нет?.. Так скажи ты мне прямо - если живы будем, ждать ли тебя с троечкой-то?
- Да уж видно, Саша, сам понять должен, какая из меня теперь послушница, если сама в любви тебе призналась. Быть мне либо... в черном скиту молчальницей, либо уж... за тобою, Саша!
...Рассвет, очень чистый и ясный, набирал силу и обещал жаркий день. Над баржей и во всех бортовых проемах сияло розовое и голубое небо. Стрельба как будто поутихла, ветерок отогнал дымовые облака.
Внезапно в левом проеме Антонина, не сомкнувшая глаз после объяснения с Сашкой, увидела в небе что-то похожее на светлый крест.
Он вырастал и перемещался, а одновременно Антонина различила странный стрекочущий звук. Он по-хозяйски вторгался в утреннее затишье, стал требовательно громким, пока серо-голубой крест шел наискось над баржей. Мелькнули красные звезды на крыльях, лучистый диск впереди, похожий на сияющий нимб святого. На единый миг, при легком крене аппарата, показалась очкастая голова в гладком блестящем шлеме.
- Аэроплан! - сообразила Антонина, когда от проплывающего креста отделился какой-то маленький темный предмет.
Аппарат скрылся за выступом кормы, и тут же донесло сильный тугой звук, от которого дрогнула земля и качнулась баржа с узниками. Эхо разнесло грохот взрыва далеко вниз и вверх по реке, но в треске пулеметных очередей стрекочущий звук не пропал, а лишь отдалялся постепенно. И Тоня вдруг, впервые за много лет, отчетливо вспомнила лицо своего отца, будто сам он внезапно предстал перед нею, в таком же очкастом шлеме... Фотография отца была у мамы еще на пароходе "Кологривец"... Снова раздался взрыв авиационной бомбы. Стрекотание мотора слышалось еле-еле. Изможденные узники баржи даже не пробуждались от этих новых звуков войны, и лишь Сашка, уснувший в волнении, при взрывах динамитных бомб приоткрывал и сразу же вновь смыкал глаза.
На барже начались уже шестые сутки плена. От голода и пуль погибли десятки человек. Утром 11 июля участники совещания - Вагин, Смоляков, Павлов, Бугров, Полетаев, Ольга и Сашка - подняли узников на постройку бруствера из поленьев. Их выкладывали впритык к борту, делали правильные "перевязки", чтобы баррикада не осыпалась. Артельное дело пошло быстрее, чем надеялись инициаторы.
Вместе с другими трудился работник музея, знаток города. Он рассказал, что в библиотеку Демидовского лицея, саму по себе драгоценную, буквально на днях привезли из осажденного Петрограда еще более ценные рукописи и книги. Думали, Ярославль надежнее!
К вечеру бруствер был готов. Под его защитой стало возможно похоронить убитых.
Отодрали от борта широкую доску. Первым положили тело Василия Чабуева, застреленного в начале плена. Под защитой бруствера выдвинули доску с телом за борт. Помвоенкома негромко сказал:
- Прощай, товарищ! Пролетарский гимн и салют над тобою и всеми борцами за Революцию прозвучат после нашей полной победы!
Два человека шестом снизу приподняли край доски.
Как только за бортом раздался всплеск, с берега ударил пулемет. Пули вспарывали обшивку баржи, били по торцам поленьев, поднимали брызги у борта, но никто из пленников не был задет.
За тусклой дымовой завесой к горящему городу неслышно подкрались мглистые сумерки. Резкие хлопки выстрелов казались совсем близкими. Все чаще край неба подергивался багровым пламенем, где-то на улицах раздавался грохот, будто на булыжник обрушивается целый дом.
Антонина лежала на спине и не спускала глаз с Сашки. Вдвоем с Бугровым они готовились плыть к берегу и наблюдали за рекой из оконного проема под кормовой полупалубой.
Течением несло бревна, поваленные деревья и столбы с обрывками проводов. Иногда проплывал мимо баржи вырванный с корнем куст или измочаленная крона ивы - следы пушечного обстрела берегов.
Ольга дала им адрес: бывший особняк полковника Зурова на Волжской набережной, на втором этаже, спросить бабку Пелагею Петровну, ткачиху, Олину мать. Она поможет раздобыть хлеба у городских пекарей. Только осмотрительнее с нижними жильцами. Если придется с ними разговаривать надо обратиться либо к прислуге, либо к девочке Ванде. Хуже всех сама пани Элеонора, эта обязательно выдаст!
Днем Антонина подозвала Сашку к старцу Савватию. Узнав, что Сашка поплывет, как стемнеет, старец опустил руку в карман рясы и извлек нечто бесценное: просфору и два кусочка сахару!
- С самой Яшмы сберегаю! - шепнул он Сашке, пораженному неслыханной щедростью. - Монастырские перед отъездом подарили. Господь подсказал приберечь до крайности. Подкрепишь силы! Может, и я сподоблюсь пчельничек свой скитский узреть, если господь тебе воспоспешествует!
Сашка попытался подсунуть подарок старца Антонине, но та пригрозила, что пожалуется Савватию: не ей задано Волгу переплыть. Она сама обняла его на прощание, поцеловала крепко и спрятала голову на его широкой груди. Когда простилась, стала глядеть, как Сашка с Бугровым присели на краю поленницы по обычаю русских людей перед дальней дорогой, а потом полезли на верх бруствера.
Наверху пловцы съели до мельчайшей крошки разломанную просфору, успевшую почти окаменеть в кармане Савватия, и сжевали сахар. Пустые желудки, растревоженные малой порцией еды, больно заныли, но уже через десяток минут оба признались друг другу, будто и в самом деле силушки несколько прибыло.
Оба наблюдателя выросли на реке, они сразу распознавали любой предмет, проносимый течением. Почти одновременно разглядели, что сверху, из-под моста, плывет челнок или лодка. Пустая ли?
Сашка ухватился за стойку проема, но бдительный пулеметчик Иван Губанов заметил движение и полоснул по окну очередью. Сашка мигом скатился на бревна бруствера, Антонина внизу лежала бледная, будто неживая. Бугров потянул Сашку на кормовую полупалубу.
- Может, за рулями сумеем спуститься!
Они по-пластунски добрались до погребальной доски, оставленной наверху, перешли вдоль фальшборта к рулевым брусьям. Ступая на палубный настил, Овчинников последний раз махнул Антонине - он терял ее теперь из виду.
На рябоватой, уже темнеющей поверхности Волги они отыскали знакомую лодочку. Скоро поравняется с носом баржи...
- Плыть надо за нею как можно дольше. Хорошо бы с поленом! - шепнул Сашка напарнику. - Как выйдем из-под обстрела - заберемся в лодку.
На корме валялось несколько иссохшихся поленьев. Сашка выбрал сучковатую, очень сухую лесину. Бугров полена не взял: буду, мол, отдыхать на спине. С поленом слезать неловко.
Глубоко внизу, между громоздкими лопастями рулей, булькала и быстро струилась маслянисто-черная в тени баржи вода. Глядя сверху на воду между рулями, легко было поддаться иллюзии, будто баржа плывет. Но оба посланца хорошо знали, что судно намертво закреплено двумя якорями. Стальной трос, носовой, был туго натянут, пеньковый, кормовой, давал слабину.
- Пошли! - прошептал Бугров. - А то лодку упустим!
Прячась за рулевыми брусьями, оба слезли вниз, к воде... Сашка спустил полено, потом окунулся сам. Волжская вода показалась обжигающе холодной. Бугров тихонько охнул, пускаясь вплавь. Течение сразу подхватило обоих.
На барже отрядили наблюдателей. К верхним проемам поднялись Смоляков и Павлов. Они сообщали остальным пленникам:
- Нырнули оба. Шибко их несет. Уже, верно, на сотню сажен. Рябь на воде, темнеет, видать плоховато. С берегов и подавно!
Но наблюдатели ошибались!
Подъесаул-пулеметчик давно обратил внимание на лодку вдали и следил в бинокль, не покажется ли на воде голова подозрительного пловца, какого-нибудь смельчака из числа смертников с баржи. И вот не одна, а две головы среди ряби.
Вражеский пулеметчик был терпелив и хитер. Перхуровское начальство знало, кому доверить старшинство на посту, охраняющему баржу с заложниками! В темное время при любых подозрительных признаках подъесаул сам ложился за пулемет и не спускал глаз с баржи.
Сейчас он выжидал долго, желая успокоить беглецов, обмануть мнимой безнаказанностью. И рассчитал он верно.
Беглецы, еще не выйдя из зоны прицельного обстрела, пошли на сближение с лодкой. Ветер дул с верховьев, лодка могла далеко опередить пловцов.
И когда лодка заметно качнулась - это Сашка первым прицепился к ее корме, - стрелок взял ее точно на мушку, заранее определив расстояние с помощью сетки бинокля. В следующее мгновение Бугров ухватился за борт, и Сашка с воды подсадил его в лодку. Потом и Сашкина голова показалась над бортом...
Смоляков успел бодрым голосом воскликнуть: "Сели! В лодку наши сели!" - как пулеметчик Иван Губанов дал длинную, точную очередь. Пробитая десятком пуль лодочка стала тонуть: несколько мгновений она продержалась на поверхности, сильно кренясь вправо, и через минуту ушла под воду.
При звуке пулемета Антонина вскочила с места и, спотыкаясь в длинном своем одеянии, бросилась наверх. Смоляков быстро подтянул ее к себе, и девушка, не таясь, ничем не маскируясь, выглянула из проема.
Она сперва ничего не поняла из того, что творилось там, ниже по течению, в отсветах городских пожаров. Потом догадалась: плавный веер всплесков на поверхности Волги - это работа пулеметчика с берега. Она увидела, как среди этих непрерывных всплесков на миг показалось и опять погрузилось в воду что-то черное, очевидно днище лодки. Больше там, рядом, ничего не было - взблескивала вода, и плыло в некотором отдалении от всплесков белое полено.
Застигнутые в лодке смертоносной свинцовой струёй гребцы погибли, и Волга взяла их на дно, к остальным жертвам с баржи?..
Пулеметчик на берегу приостановил огонь и вглядывался в смутную даль, гордясь отличной своей работой. И вдруг он услышал пронзительный женский крик, прозвеневший в сумерках, доселе наполненных только звуками боя и привычными шумами реки. Крик долетел со стороны баржи. Пулеметчик повел стволом налево, нащупал темную массу баржи и дал по ней короткую очередь: тах-тах-тах!
Может быть, ему требовалось сменить ленту или остудить воду в кожухе, только очередь по барже не повторилась. Да и сделалось там по-прежнему тихо. Кричавшую, видно, уняли свои...
...Угодив под пулеметную струю, Сашка нырнул. Он еще не успел совсем забраться в лодку, выпал из нее мгновенно, а под водою сразу метнулся в сторону.
Но очередью его задело. Только пуля потеряла в воде силу и вошла Сашке в правое плечо уже ослабленной. Все же удар был тяжел, тупая боль сразу ошеломила Сашку. Правая рука онемела и сделалась чужой. Сгоряча он уходил под водой от новых пуль, загребая одной левой, и старался как можно дольше не выныривать на поверхность - это было единственное, что остаток сознания велел ему.
Пловцу ненадолго хватило дыхания, и он поднялся наверх, когда веер пуль еще добивал лодку. Сашка видел и тонущую лодку, и лежавшее на дне ее тело Бугрова. Когда лодка с трупом черпнула всем бортом, Сашку немного отнесло от места крушения, куда упорно продолжал бить пулеметчик. Долетел до Сашки и женский крик над водой, но сознание работало так смутно, что он не узнал голоса и даже не подумал об Антонине...
Вокруг него сделалось тихо/
Пулеметчик внезапно перенес огонь. Александр Овчинников и не ведал, что это Тоня отвлекла от него огонь на себя...
Без поддержки не поплывешь с онемевшим плечом. Где полено? Пловец увидел его чуть впереди, добрался до него, приладил между сучьями раненую руку, а левой стал выгребать прочь от опасного правобережья.
Прояснились мысли. Значит, Бугров, верный товарищ, погиб, и он, Сашка, с незажившим бедром и новой пулей в плече, очутился в одиночестве посреди Волги. На нем - ответственность за Тоню и всех людей на барже, понадеявшихся на него.
Справа - Стрелка Которосли. Ярко пылает красивое здание со многими колоннами. В воздухе сгущается запах жженой бумаги. Вот что-то вроде хлопьев черного снега оседает на воду близ Сашкиной головы. Он сообразил, что пылающее здание - это Демидовский лицей с драгоценной библиотекой и редкими рукописями, перевезенными из Питера, а черный снег - пепел от сгоревших книг. Сашка подумал, что его собственная смерть значила бы мало в сравнении с гибелью таких сокровищ.
Пловец не сразу заметил, как поравнялся с песчаным Нижним островом. Заросший ивняком, похожий на отмель, остров темнел слева, однако Сашка обращал все внимание на правый берег, где не стихал огневой бой. Течением пловца несло к отлогой песчаной косе острова, но мысли Сашкины мутились и гасли.
Полено прошуршало по песку. Сознание смутно запечатлело на миг темный рыбачий шалашик повыше отмели. У самой воды что-то темное... Небольшая человеческая фигурка... Чайник в руках... Подошел воды зачерпнуть из Волги?..
Явь или бред? Мальчишка-то знакомый, яшемский, Макаркой зовут, попадьи тамошней племянник. Откуда он здесь, в Ярославле?..
Сашка очнулся в шалаше. Тупая боль давила тело, а нога и плечо были словно накачаны этой болью. Давешнее видение яшемца Макарки оказалось не бредовым - вот он, живой, вихрастый, в ситцевой рубашке, несет весла к большой лодке. Придерживает лодку женщина - не Макаркина мать ли? Двое незнакомых мужчин неумело ладили Сашке перевязку и пытались о чем-то расспросить спасенного Но он ничего-ничего не мог припомнить.
И вдруг его озарила мысль о Тоне, о людях на барже... Только бы не потерять эту нить, ведь он - посланец смертников. Он должен вспомнить адрес, который давала девушка Ольга...
Перебарывая надвигающееся беспамятство, он напрягает все силы. И трое Сашкиных спасителей слышат его шепот:
- Особняк на Волжской набережной, у паромной переправы, близко от Флотского спуска... На втором этаже спросить бабку Пелагею, ткачиху, Ольгину мать. Поможет хлеба добыть для родной дочери и остальных смертников на барже. Осторожнее с нижними жильцами: нынешний владелец зуровского особняка - спекулянт-поляк. Пусть вон Макарушка сплавает... Довериться можно паненке Ванде, она добрая. Только хозяйке не открывайся, пани Элеоноре, беспременно выдаст...
Опять валится Сашка в черную пропасть, и она поглощает его всего целиком.
Глава третья. ПОСЛЕ ПРОРЫВА
1
На пустынных ночных улицах Ярославля щелкали пули, пахло гарью, в воздухе носился тополиный пух, перемешанный с пеплом, будто ветер крутил над городом странную метель, алую в отсвете пожаров.
Гости пана Зборовича уходили с банкета обнадеженные докладом полковника Перхурова о блестящих делах Добровольческой армии на Севере, и в Поволжье, но здесь, на темных улицах, под обстрелом, их снова охватила паника. Слыша отдаленные перекаты грома, они не могли уверенно судить, какая новая напасть надвигается на Ярославль: грозовая ли туча с градом, красный ли бронепоезд?
Перед полуночью, когда в особняке остались только близкие, а прислугу отправили спать, очнулся задремавший ненароком в кресле пан Владек. Георгиевский кавалер страдал с той минуты, когда красавица артистка пренебрегла его обществом, отправила эскортировать задержанного мальчика. Покараулить с пани Барковской лодку было бы куда заманчивее!
Тем временем вернулся из ночного похода поручик Фалалеев. Вызывали его к зданию Государственного банка, где группа офицеров-патриотов пыталась взломать двери кладовой, чтобы поставить банковские ценности на службу... родине и свободе.
Поручик бывал у Зборовичей запросто и сразу прошел на кухню умыться. Кран бездействовал. Владек ковшом слил воды на руки Фалалееву и заодно окатил собственную голову.
- Где пани Барковская? - осведомился шеф перхуровской полиции.
- Ее, вероятно, уже проводил домой подпоручик Стельцов! - злорадно отвечал кавалер. - Вас она просила поговорить с задержанным рыбаком. Он у нас, в швейцарской.
Помрачневший Фалалеев, придерживая шашку, шагнул через.порог прихожей и в крошечной каморке швейцара, примыкавшей к передней, увидел понурого подростка лет четырнадцати в синей рубахе, как бы осыпанной белым горошком. Тот сразу вскочил и вытянулся "смирно". В нем угадывалась выправка кадета.
- Ты здешний? Полное имя как?
- Владимирцев, Макарий. Прибыл от своего опекуна господина Коновальцева, с корзиной рыбы для пани Зборович. Бакенщик Семен должен получить за нее солью и продуктами. Но меня никто здесь не стал слушать, а рыбу отобрали на кухне.
- Что-то я вас плохо понимаю, молодой человек! Кто же вас сюда снаряжал: Коновальцев или бакенщик? Бакенщик Семен мне известен, Коновальцева не знаю.
- Он управляющий поместьем Солнцево полковника Зурова, моего троюродного дяди. Прячется на Нижнем острове в шалаше бакенщика Семёна. Меня послали с двумя поручениями - отвезти рыбу пани и записку полковнику Зурову. Велено сразу плыть обратно, у них все запасы кончились, ни соли нет, ни муки.
- О запасах потом... Ваш троюродный дядя, говорите. А вы в лицо его знаете? Извольте указать, который здесь полковник Зуров.
Фалалеев достал из бумажниика групповой снимок перхуровского штаба, сделанный несколько дней назад, в начале событий.
Мальчик недолго вглядывался в лица офицеров и безошибочно указал своего дальнего родственника. Фалалеев спрятал фотографию.
- Записка полковнику Зурову от господина Коновальцева при вас?
- Так точно. Только вручить ее господину полковнику мне велено лично.
- Хм! Первый час, полковник в штабе... Но это недалеко, гимназия Корсунской... Придется дойти!
Дежурный по штабу проводил обоих к полковнику Зурову.
Георгий Павлович держал трубку полевого телефона и делал пометки на оперативной карте. Воспаленными от бессонницы глазами он глянул на троюродного племянника, пробежал записку своего бывшего управляющего и... снова обратился к карте. Макар понял, что телефонные вести тревожны. Зуров положил трубку.
- Значит, матушка твоя и господин Коновальцев остались на Нижнем острове, в шалаше бакенщика, и ждут тебя?
В комнату вошел сам главноначальствующий Перхуров. Георгий Павлович извинился и на обороте коновальцевской записки написал несколько беглых ответных строк: советовал отвезти юношу Макария и его матушку назад, в Яшму или Кинешму, пока события не прояснятся.
- Дай бог тебе нынче же благополучно воротиться к матери и опекуну! шепнул он Макару, выпроваживая его из кабинета вместе с Фалалеевым. Затем, прикрыв дверь, два полковника склонились над оперативной картой.
В особняке Зборовича собирали продукты для юного гребца. Фалалеев советовал отправить его назад, на Нижний остров, до рассвета, под ливнем и молниями. Прислуга давно спала, Ванда, хозяйская дочка, сама привела его в кладовую за кухней и очень удивилась, когда робкий мальчишка вдруг таинственно понизил голос и приложил палец к губам:
- Тсс! Главное, чтобы ваша мама... ничего не узнала!
И Макарка торопливо пересказал девушке все, что знал о страшном положении пленников на дровяной барже. Мол, подруга Ванды - девушка Ольга, тоже томился в этой плавучей тюрьме среди смертников.
- Надо уговорить ваших друзей, Ванда, помочь им, послать на баржу хотя бы хлеба. Только мне... велели опасаться вашей мамы, уж простите!
- Ох, это правда, мама так ненавидит всех красных! Она не станет за них заступаться... Олину мать, тетю Пелагею, давно отсюда выселили, не знаю куда... Бедная Оленька!.. Но я знаю, кого попросить. Пани Барковскую, артистку. Она может заставить начальника полиции Фалалеева накормить узников хлебом... А вот вам продукты для ваших островитян. Берите побольше. Только как же вы поплывете под такой ужасной грозой?
Утром, после грозы, заключенные на барже услышали новый, забытый за неделю плена звук на реке: пьяные голоса и скрип лодочных уключин.
Из-за баррикады выглянул Смоляков.
К барже приближалась гребная лодка. На веслах сидели крепкозадые унтеры в галифе. Высокая женщина в открытом вечернем платье и в шляпе с вуалеткой сидела, подобрав ноги, на носу. Рулем правил бывший комиссар уездной милиции Фалалеев. В женщине Смоляков узнал артистку Барковскую.
Когда лодка подошла к борту баржи, двое военных стали подавать артистке круглые караваи белого печеного хлеба. Таких караваев на дне лодки лежало пять.
Артистка подняла один каравай и неумело швырнула на баржу. Каравай шлепнулся о сухую смоленую древесину, упал в воду и поплыл по течению. Унтер удержал его веслом, выловил и легко забросил на баржу.
Офицер и остальные унтеры стали ломать хлеб на куски и подавать женщине. Она была слегка пьяна, пьяны были и ее спутники. Женщина делала взмах рукой, кусок летел через борт и падал в тухлую жижу на дне баржи или на поленья близ умирающих с голоду.
От этой возни, от запаха свежего хлеба, от чужих голосов под бортом узники начали пробуждаться от забытья.
Куски хлеба, описывая широкую дугу, летели и летели через борт. Десятки рук рванулись к хлебу. Уже больше половины заключенных участвовало в этой ловле. Стали раздаваться жалобные крики: людям невыносимо было видеть, как ломти падают в нечистоты, в лужи... Помвоенкома Полетаев сумел поймать два, и обе девушки, Ольга и Антонина, съели по куску печеного хлеба, не ведая, что самому Полетаеву хлеба не досталось.
Лодка повернула и стала отдаляться. И тогда вослед пьяным благотворителям впервые за все время плена раздались с тюремной баржи стоны страдания и выкрики проклятий.
Еще через три дня нежданный гость принес в особняк Зборовичей недобрую, грозную весть...
Этим гостем был капитан Павел Георгиевич Зуров, единственный сын полковника Зурова. Еще 8 июля капитан Зуров бежал в Рыбинске из окружения. В числе прочих участников рыбинского дела капитан Зуров в ночь на 8 июля находился согласно приказу Савинкова и Перхурова на подступах к рыбинскому гарнизонному складу. Однако захват офицерам не удался. Все они во главе с капитаном Смирновым угодили в ловушку, расставленную чекистами. Мятежники очутились в огневом мешке. Лишь немногим удалось выбраться.
- Значит, пан капитан утверждает, что в Рыбинске мы не имели успеха? дивился полненький пан Здислав Зборович, взирая спросонья на ночного пришельца. - Мы тут слышали другое...
Капитан был точно осведомлен о запасах военного снаряжения, сданных при расформировании 12-й армии на рыбинские склады: миллион артиллерийских снарядов всех калибров, десятки миллионов патронов, винтовки, пулеметы, орудия - все в образцовой воинской сохранности. Вот почему провал рыбинской операции подрывал стратегические планы Перхурова.
- Слушайте, пан капитан, - опасливо спрашивал пан Здислав. - А как же французы? Почему задерживается их экспедиционный корпус? Ведь железнодорожный волжский мост был наш, теперь же он снова потребует от нас тяжелых жертв,
- Союзники... предали нас. Ярославская операция оказалась преждевременной. Никаких иностранных судов в Архангельске нет. Десант, обещанный к восьмому июля, туда не прибыл...
Капитан Зуров привскочил со стула, потому что потрясенный пан Здислав Зборович, патриот белого Ярославля, лишился чувств.
...В тот же вечер отец и сын Зуровы впервые за долгие месяцы разлуки оказались с глазу на глаз в своем старом доме.
- Знаешь, Паша, кого нынче похоронили на волжском берегу? Помнишь Коновальцева?
- Твоего управляющего пли его сына? Росли вместе...
- Сына. Николку. Смелый был офицерик... А старшего, Бориса Сергеевича, я отправил по нашим делам. Про сына он еще ничего не знает. Жаль его. Я в начале событий велел привезти сюда из Яшмы того юношу, Макария Владимирцева, на чье имя я после февральской перевел наше Солнцево... Как-никак формальный "владелец" всего нашего недвижимого.
- Мне сдается, папа, напрасно ты их сюда раньше времени вызывал. Не до них пока. Коновальцев стар, Макарий юн.
- Французы подвели! Были надежды, что совдепия рухнет. Вот и хотел мальчишку поближе под рукой иметь, чтобы кто другой не воспользовался его наивностью. Теперь пусть едут назад, в Кинешму. Коновальцев за мальчиком присмотрит.
- Что решил нынче военный совет, папа?
- Понимаешь, положение становится трудным. Если изолированно держаться в городе - сомнут. И вот Александр Петрович предложил выход. План таков, Паша: создаем отряд, человек в пятьдесят, самых надежных и решительных офицеров. Может быть, пристегнем какого-нибудь социалиста из меньшевиков, но с ними масса мороки. Народ же идет за ними слабовато, ну да еще посмотрим! Во главе отряда станет Перхуров. Мы - Афанасьев, Ливенцев, Гоппер - сами это предложили Александру Петровичу.
- Кто же будет командовать обороной здесь, в городе?
- Очевидно, генерал Карпов. Позиции отличные, тут кто хочет удержится, пока боеприпасы есть. Но их мало, одной обороной мы войска свои не выручим. Перхуровский отряд выйдет красным в тыл и окажется на оперативном просторе. Поднимет крестьян в северной и восточной частях уезда. Отряд станет ядром белого партизанского движения, эдакой, понимаешь, поволжской вандеи. Силами крестьянской вандеи мы выручим блокированные в городе войска и соединимся с чехословаками или с союзниками на Севере.
- Знаешь, папа, если бы я сомневался в Александре Петровиче, то... просто назвал бы эту затею авантюрой, предпринятой с единственной целью: сберечь шкуру! По сути, это дезер...
- Не договаривай, Паша! Дело, разумеется, несколько... щекотливое, но иного выхода нет Лучше какое-нибудь решение, чем никакого. Что ни говори даже при частичном успехе сохраняется некий офицерский костяк. А знаешь, как в народе говорят: были бы кости целы, а мясо нарастет! Но ты не думай, будто я. считаю шансы плана низкими. Кого-кого, а уж Перхурова мужички послушают. Я верю в Александра Петровича!
Капитан привздохнул. Вспомнились ночлеги по деревням на пути из Рыбинска в Ярославль. Какими только словами не честили эти "мужички" белых заговорщиков! Чтобы этих-то крестьян удалось бросить в бой против красных, отдавших "мужичкам" помещичью землю?!
- Когда намечен прорыв?
- Очевидно, послезавтра на рассвете. Отчасти это зависит от погоды. Александр Петрович завтра обеспечит деньги для отряда - управляющий банком выдал миллион и обещает еще полтора. Стельцов подготовит боеприпасы и оружие. Ради секретности придется на несколько часов сосредоточить оружие здесь, в подвале нашего, вернее бывшего нашего, особняка.
- Решено ли, где прорываться? Огонь на всех участках плотнее час от часу.
Полковник перешел на шепот:
- Перхуров рассчитывает прорываться... пароходом. Завтрашний день уйдет на подготовку, а на рассвете семнадцатого... Если туман поможет...
- Значит, вниз по матушке по Волге?
- Нет, не вниз, а вверх по матушке...
2
Днем 16 июля немало офицеров разных рангов являлись в особняк Зборовича, оставляли тяжелые свертки и мешки в маленьком дворике, а подпоручик Стельцов с прапорщиком Владеком Зборовичем уносили эти грузы в подвал особняка.
После полудня сам полковник Георгий Павлович Зуров пришел в особняк со странной ношей, завернутой в старый плащ. С трудом протиснул он неудобный сверток в дверной проем. Следом с таким же узлом протиснулся офицер в форме военного врача с серебряными погонами. Хозяевам он отрекомендовался доктором Пантелеевым и тут же откланялся, чтобы воротиться на позиции.
Свертки, доставленные Зуровым и Пантелеевым, содержали нечто особенно ценное: личное оружие генералов и полковников Добровольческой армии. Решили, идя на опасное дело, закопать это оружие, слишком нарядное и дорогое, чтобы им драться, и слишком почетное, чтобы бросить его на произвол, судьбы...
В гостиной бродили из угла в угол перепуганные, осунувшиеся, заплаканные барыни и седые господа с профессорскими бородками. Подпоручик Стельцов шушукался с Барковской. Она пошла к роялю, а подпоручик стал счищать обрывком портьеры мусор с крышки инструмента. От этого в гостиной поднялась такая пыль, что полковник Зуров закашлялся.
Он ждал сына Павла с позиций. Они условились встретиться здесь. За стенами особняка бушевал огненный шквал. Не верилось, что еще так недавно к особняку мог с шиком подкатить автомобиль "непир"!
Капитан Зуров нес взрывчатку для накладных зарядов: надо было надежно запастись для будущих партизанских действий в красном тылу! Полковник представлял себе весьма отчетливо, как его Паша пробирается сейчас под огнем с опаснейшим грузом за плечами... Приготовления Стельцова у рояля раздражали полковника, он курил папиросу за папиросой. Наконец капитан Па пел Зуров, невредимый, появился в гостиной. Стельцов тотчас же снес в подвал увесистый заплечный мешок капитана. Затем трое младших офицеров Павел Зуров, Михаил Стельцов и Владек Зборович отправились во двор закапывать генеральское оружие. Нижнему чину такую операцию не поручишь!
Рокот орудий, частые разрывы, зловещий шум обвалов мешали разговаривать тихо, приходилось кричать и жестикулировать. Офицеры взяли лопаты, огляделись. Выбрали укромное местечко у каменной ограды с решеткой. Она отделяла двор от небольшого сада. Старые липы и две серебристо-синие ели то и дело вздрагивали от разрывов, а под самой оградой зияла свежая воронка: фугасный снаряд выметнул землю из-под большой купы сирени.
Втроем подтащили к яме корыто с пушечным салом. Зуров развернул сверток с оружием. Великолепные эфесы шашек и сабель с золотыми насечками и тончайшими узорами на ножнах блеснули на солнце. Сабельные.эфесы с дужками, рукояти шашек, металлические ножны сабель, кожаные - шашек, клинки, способные рассечь шелковый платочек в воздухе... со всем этим богатством приходилось прощаться!
Офицеры торопливо извлекали сверкающие клинки, окунали их в пушечное сало, вкладывали обратно в тесные темницы ножен и погружали один за другим в густую смазку. Затем осторожно опустили корыто на дно воронки, прикрыли сверху промасленной бумагой и двумя слоями досок крест-накрест. В таком виде оружие могло пролежать здесь десятилетия! Наконец воронку завалили землей и щебнем. Со стороны могло показаться, будто офицеры похоронили в садике своего товарища. Это никого не удивило бы в июльский день 1918-го...
Он выдался жарким. Работа шла к концу - оставалось заровнять засыпку и сделать метку, чтобы в будущем найти тайник.
Из дома, через заваленные щебнем окна, урывками, сквозь пулеметную дробь, доносился надтреснутый звук рояля и голос госпожи Барковской. Стельцов сообразил: на струны концертного "Стейнвея" насыпалась пыль, они дребезжали, но певица пытается что-то исполнить, может быть, для него...
Капитан и прапорщик отерли лбы, понимающе переглянулись с подпоручиком, но тотчас домашнюю музыку заглушило новым, тревожащим сердце звуком. Он доносился с реки: со стороны Заволжья показались аэропланы противника.
Офицеры побросали лопаты, Зуров стал ловить в цейсовский бинокль неприятельские воздушные аппараты.
Они шли треугольником, хорошо держали строй и равнение, притом так уверенно, словно показывали, что они-то и есть полновластные хозяева неба со всеми его облаками, ошалелыми птицами и блеклой июльской голубизной.
Подойдя к правому берегу и городскому центру, аэропланы снизились. Раздался отчетливый свист и сильный взрыв. Второй! Третий - ближе! Вот и четвертый разрыв, совсем рядом. И снова воющий свист... Трое офицеров упали ничком на землю, под защиту каменной ограды и решетки над нею. И тут же убийственный грохот оглушил лежащих. Щебенка и пыль густо засыпали им спины.
...Зуров очнулся первым, прочистил уши, глаза, Из носа шла кровь. Он увидел рядом Стельцова и Владека, будто вжатых в землю и запорошенных известкой. Все вокруг было завалено каменным ломом. Решетка покосилась, но устояла - иначе всех троих задавило бы.
Капитан помог Стельцову сесть. Зашевелился и Владек. Потом они медленно поднялись на ноги. Держались за вывороченные прутья решетки, оглядывались. Самолеты ушли Стало потише. А что в доме?
На месте особняка дымилась яма. Над нею садилось облако пыли и дыма. Все вокруг засыпал мусор. Динамитная бомба с аэроплана угодила в подвал, где офицеры всего на несколько часов сложили боеприпасы и взрывчатку для группы прорыва.
...Глубокой ночью к сборному пункту на волжском берегу явились из особняка Зборовича вместо шести человек только трое. Они были контужены и плоховато держались на ногах.
Александр Петрович Перхуров, приняв от капитана Зурова рапорт о случившемся, снял фуражку... Потом вся "группа прорыва", прикрываясь сырою мглою, бесшумно погрузилась на маленький остроносый пароходик... Человек десять офицеров разделись до пояса и взялись с усердием за непривычное дело - шуровать топку!
Им повезло. На рассвете 17 июля Волгу затянуло таким туманом, что в пяти шагах было трудно разглядеть человека. Пламя пожаров и утренняя заря просвечивали будто сквозь грязно-розовую кисельную гущу. Туман пропах гарью, порохом и речной сыростью.
Пароходик не зажег сигнальных огней, не дал гудка. Он тихо отошел от самолетской пристани, оставаясь невидимым не только для красных стрелков, но и для собственных воителей. Лишь осторожное шлепанье плиц по воде различили красноармейцы, охранявшие отбитый у белых волжский мост. Кто-то оттуда окликнул судно.
Еще темнее сделалось над головами, и еще глуше зазвучали шлепающие удары по воде. Значит, под мостом... Пронеси, господи, мимо каменных опор!.. Кажется, сверху стреляли, но неуверенно и неприцельно, никого не задело. Теперь полный вперед!
Когда туман совсем рассеялся, толгские крестьянки пришли с вальками и корзинами белья на реку и увидели остроносый пароходик, засевший на левобережной отмели.
Сперва никто не отважился подойти, а когда в конце концов мальчишки полезли на борт, оказалось, что пароход совершенно пуст. На нем не встретилось ни одной живой души, хотя в топках еще дотлевал уголь, а в котлах постукивал и вздыхал остывающий пар.
3
В бывшей земской больнице села Солнцева имелась палата, официально именуемая "второй терапией". Няни и сиделки называли ее слабой, а больные сочувственно вздыхали, когда врач Сергей Васильевич Попов переводил туда пациента: "Теперя каюк! В потерпию сволокли!"
Кабинет врача находился рядом с "потерпией", и доктор чаще всего заглядывал именно в эту палату. Своих больных солнцевский доктор знал только по диагнозам и в лицо - на имена у него памяти не было. Не потрудился он даже упомнить имена-отчества обоих помещиков, построивших солнцевскую больницу, - богача Зурова и средней руки барина Букетова, чьи владения сходились недалеко от зуровского села Солнцева. Мужики побаивались и уважали доктора. Отличался он некоторой угрюмостью характера, люто ненавидел притворщиков, издевался над "нежностями", и лишь больные ребятишки и замученные крестьянским трудом солдатки-вдовы, которых чуть не силком приводили к сердитому доктору, знали, какой запас терпения и доброты был у "ругателя и резателя": так называл доктора Попова солнцевский священник, отец Федор.
Сразу после начала июльских событий больница стала наполняться беженцами. На вторую неделю белой власти прискакал нарочный с приказом очистить больницу от посторонних и приготовить все места под раненых перхуровцев. Зуров приложил личную записку врачу - наконец-то, мол, больница, созданная солнцевским владельцем, послужит истинным патриотам!
Попов еще перечитывал предписание, а перед окнами остановилась телега с раненым. Фельдшер пошел узнать, в каком состоянии вновь привезенный.
- Вертайсь, ребята! - сказал он угрюмо. - И класть некуда, и кормить нечем. Вертайсь!
Лошадью правил прусовский мужик Семен, за телегой шел подросток лет четырнадцати, а на задке сидела женщина в темном. Она старалась подправлять изголовье у больного. Возница запротестовал:
- Ты, мил человек, не того... Самого дохтура нам представь. Наш больной плох очень. Еле довезли. Беспременно положить надо.
- Сказано: нету местов! - повысил голос фельдшер, но уже сам Сергей Васильевич явился взглянуть, кого привезли. Доктор узнал ярославского бакенщика Семена, прусовского жителя, и велел открыть лицо больного. Вид больного поразил врача.
- Кто это? - спросил врач отрывисто. - Из какой тюрьмы? Сразу сказывайте: где подобрали?
Таиться было бесполезно. Семен-бакенщик рассказал правду: дескать, бежал заключенный с арестантской баржи, где людей морят голодом неделю. А этот еще и ранен в ногу и плечо.
- Как он, говоришь, назвал себя? Овчинников Александр? Член партии большевиков?
Макаркина мать испуганно вскрикнула:
- Да не думайте ничего такого, господин доктор! Мы с сыном давно знаем Александра Овчинникова, никогда за ним такого в Яшме не водилось...
Семен только руками развел:
- Да сам вроде бы сказывал, партейный он. Бумаг при нем никаких. Кличет в бреду Антонину-сестрицу, суженую свою, что ли. Благоволите уж определить куда ни то. Сделайте милость.
- Милость! Куда ни то! На читай, коли грамотен, что мне из города пишут. Полсотни белых офицеров сюда везут, в мою больницу.
- Вот эт-то да! - протянул бакенщик Семен в досаде. - Вез ли, значит, человека от тюрьмы и обратно привезли к тюрьме. Что ж, Макарий, - сказал он подростку, - коли так, давай заворачивать оглобли. Только не сдюжит он, не довезем и до Прусова. Прощевайте, господин дохтур!
- Стой! - рассердился и Попов. - Я тебе для чего бумагу показал? Чтобы ты уразумел, какая беда больным нашим грозит. И твоему партийному тоже. В лес придется больных перенести, в шалаши, что ли... А пока мигом его в приемный покой! Потом сразу во вторую терапию!
Больные в палатах сочувственно качали головами: плох человек, ежели его сразу в "потерпию"!
- А за офицерами, как в лес перейдем, пусть здесь кто угодно ухаживает! - сердито толковал доктор бакенщику и фельдшеру. - А впрочем, насмешливо повернулся он к матери Макария, - может, вы бы, сударыня, согласились?
- Нет, что вы, - лепетала бедная женщина, вовсе сбитая с толку. - У нас в Прусове попутчик остался, господин Коновальцев, нам с ним в Кинешму пора...
- А кто мне поможет больных накормить? - опять резко закричал доктор бакенщику. - Больных везете, а мне их шишками питать или древесиной?
- Пришлем тебе рыбки, Сергей Васильевич, за твою доброту. Ужо вон с Макаркой мешок доставлю. А иного чего - не могим. Да и с поста бакенщицкого надолго не уйдешь - того гляди, пароходы пойдут...
На двух парных подводах ехали лесным солнцевским проселком вооруженные люди. На них стволами назад стояло по пулемету "максим". Верстах в пяти от Солнцева подводы свернули с проселка на заброшенную, неторную тропу. Еще полверсты тянулись лесом, минуя буераки и болотные мочажины. Когда ехать стало нельзя, люди выпрягли лошадей и в пешем строю добрались до глухого лесного угла. Место называлось Баринов, или Волчий, овраг. Телеги и коней спрятали поблизости.
Давно здесь не рубили леса, не косили трав, не собирали даже ягод и грибов. Старый владелец, полковник Зуров, любил облавную охоту на волков с гончими, и некогда здесь, в овраге, постоянно держались два-три волчьих выводка, наводя страх на окрестных крестьян. За годы войны охотиться здесь было некому, и "серых бар" даже прибавилось против прежнего.
Еще до сумерек приехавшие улеглись спать, выставив караульного. А тот, кого они признавали за старшего, собрался в ночной поход.
Солнцевский священник отец Федор уже забылся сном, когда попадья Анна Ивановна, так и не заснувшая с вечера от беспокойства, уловила постукивание в оконце. Отец Федор сразу стряхнул сон. Крестясь и холодея от страха, слез с кровати, натянул брюки и босиком заторопился к сенцам. Боязливая же Анна Ивановна в одной сорочке подбежала к запертым дверям маленькой горницы, где до отъезда в город жила дочка Наденька. Зашептала в дверную щелку:
- Слышите, что ли, стучат? Бегите в подпол прятаться!
За дверью Надиной горницы мужской голос произнес зло: "Кажется, дождались!" - и сразу щелкнул отпираемый замок. Двое мужчин метнулись из дверей, пробежали на кухню и нырнули в подпол. Анна Ивановна едва прикрыла дверцу люка, как отец Федор ввел в тесную переднюю незнакомого человека в картузе и пиджаке. Пришелец шепотом назвал священника по имени... Господи, кажется, под благословение подошел! Неужто пронесло беду? Отец Федор подозвал жену.
- Видишь, Анна, еще одного гостя из города привел господь. Узнаешь ли?
Незнакомец снял картуз, и Анна Ивановна увидела сильно похудевшего, возмужалого, но по-прежнему мальчишески стройного Пашу Зурова, очень похожего на отца, Георгия Павловича, бывшего здешнего владельца.
- Разве у вас еще гости из города были? - тревожно осведомился переодетый капитан.
- Были! Кабы только были! А то ведь и сейчас есть! - сокрушенно промолвил отец Федор. Он зашел в кухне за печь, потянул кольцо люка и проговорил куда-то в темноту подвала: - Вылезайте господа! Гость прибывший - одного с вами поля ягода. Пожаловал их благородие капитан Зуров.
Под полом что-то прошуршало. Два человека выбирались из-под мешков и рогож, сваленных у мучного ларя. Потом из люка показались две всклокоченные головы. Капитан выжидательно молчал, пока отец Федор помогал обоим очистить их городскую одежду от сора.
- Вот, Павел Георгиевич, изволите видеть перед собой молодого господина Букетова. Племянником приходится соседу нашему по имению.
- Поручик Букетов! - представился соседский племянник капитану.
Отец Федор пояснил, почему молодой человек попал в этот дом.
- Отважился юноша сей поискать пристанища в бывших дядиных владениях, но едва не был схвачен крестьянами для предания властям красным. Обратился ко мне напоследок, уповая на свое знакомство с дочерью моей Наденькой. Уехала дочка наша в Иваново-Вознесенск поступать на учение в коммерческое училище, посему Христа ради я сам спрятал гонимого, а заодно уж и друга его.
- Ротмистр Сабурин! - отрекомендовался второй офицер.
Отметая всякое покушение на фамильярность, Зуров сухо осведомился:
- Па-азвольте спросить, господа офицеры, когда вы изволили оставить позиции в Ярославле и по какой причине?
Ротмистр Сабурин, живой и смешливый, опешил от этого тона, потом желчно рассмеялся. Ответил, передразнивая манеру капитана:
- Па-азиции в Ярославле, с па-азволения господина капитана, были оставлены нами на целых четверо суток позднее, чем их бросил наш главнокомандующий месье колонель Пэ-эрхуров! А что до причины, то она известна господину капитану не хуже, чем мне.
- Попросил бы оставить ернический тон и с подобающим уважением говорить о Главноначальствующем. Я простился с ним у Толгского монастыря утром семнадцатого июля. Ныне возглавляю особый офицерский отряд, на который командующий возложил определенные поручения. В силу данных мне полномочий имею честь приказать вам, господин ротмистр, и вам, господин поручик, считать себя в составе моего отряда.
- Дайте-ка папироску, капитан! - сказал Сабурин, крутя в пальцах зажигалку. - Впрочем, что до вашего отряда, то какие могут быть у нас с поручиком возражения? Отряд так отряд! Задание так задание! Назвался груздем - полезай в кузов. Спасибо, кузовок подвернулся, а то в этом патриотическом домике, да еще в отсутствие девицы Наденьки мы за двое суток чуть не околели от сплина.
- Всецело к вашим услугам, капитан, - проговорил молодой Букетов - Мы с Сабуриным тут действительно было загрустили.
- Ох, господа мои хорошие! - горестно вмешался глава дома. - Какой уж из меня патриот! Сиротеет паства, коли Духовные отцы в светские дела вмешиваются. Примером тому - горькая участь моего родного брата, священника церкви Владимирской богоматери, что близ Всполья в Ярославле. Получил скорбную весть: брата моего казнили всего дней десять назад.
- Большевики расстреляли? - заинтересовался Зуров.
- Истинно так, и даже господа вот эти могут подтвердить сие как очевидцы, только не знали они, что расстрелянный был мне родным братом. Под этим кровом вместе выросли, царствие ему небесное, страдальцу!
- Да, мы знаем этот случай, - подтвердил Букетов. - Ив газетах про это было.
- За что же могли казнить священника? Это же чудовищно!
- Священник-патриот встретил наступавшие на город красные части пулеметным огнем с колокольни своей церкви, - пояснил Сабурин.
- Да, настоящий воитель! Что ж, память ему вечная! - сказал Зуров. Рассчитываю поэтому и на вашу помощь, отец Федор. Вы родной брат героя. Сам митрополит Агафангел благословил священство на брань с красными.
- Силы мои невелики, Павел Георгиевич, - хмуро возразил священник. Семьей обременен и приходом. Со страху не спим с попадьей третьи сутки пока гости такие в доме. Не вам, православному офицеру, объяснять, чего от нас сан требует.
- Особых тягот не возложим, отец Федор, но, - в голосе Зурова стал ощутим как бы отдаленный гром, - гостей вроде нас... изредка принимать придется... Позвольте спросить, господин ротмистр, каковы последние сведения о Ярославле? Не поверю, чтобы мы потеряли сторонников, каких имели. Наш героизм видели все. Убежден: скоро там все опять закипит!
- Если вы, капитан, умеете оценивать события реально, то придете к иному заключению. Мы сами сперва французов ждали, а потом немцу на шею кинулись. Полагаю, вы осведомлены, кому сдались офицеры-перхуровцы в Ярославле вечером двадцатого июля?
- Стороной слышал.
- То-то стороной! А вот мы с Букетовым в этом участвовали. Комедия была фантастическая! Помните ту германскую комиссию № 4 по репатриации немецких военнопленных из России согласно брестскому договору? Командовал у нас в Ярославле этой комиссией некто лейтенант Бальг. Помните?
- Смутно. Я ведь недолго пробыл в городе.
- Был он тише воды, ниже травы во время июльских событий - ведь мы в Архангельск союзников ждали, а те, как известно, брестского договора признавать не желают. Они же Мурманск и Архангельск якобы не от большевиков, а от немцев спасти стремились. Ну и как бы попутно, неофициально, так же и от Советов... Стало быть, и мы, перхуровцы, себя в состоянии войны с немцами считали.
Капитан Зуров морщился. Мол, тема скользкая. Ближе к делу.
- Но вот становится ясным, что мы терпим поражение. И в канун разгрома вижу я этого Бальга в германском военном мундире, при ордене, с саблей на одном боку и с парабеллумом на другом. Знаете, почему он так воинственно преобразился?
- Кажется, догадываюсь. Только просил бы... покороче!
- Скоро догадались и мы, рядовые перхуровцы. Как выяснилось, генерал Карпов и все прочее начальство, не сбежавшее с месье Перхуровым из города, кинулось к немцу с просьбой: "SOS! Спасите от соотечественников! Французы подвели - пусть кайзер выручает!" И повели нас, грешных, полтысячи офицеров, сдаваться этому лейтенантишке паршивому... Мне же и господину Букетову крупно повезло: выпало нам почетное задание - найти в домах побольше простыней, разодрать их на полосы и развесить утром двадцать первого июля на крышах руин. Утречком смотрим: входят победители, полки, дружины с комиссарами и дивятся: где побежденные? Навстречу красным войскам выступает в полной форме лейтенант Бальг, гордо возвещает: "Те русские, что вели военные действия, сдались мне, представителю кайзеровского командования и Германии. Как немецкие военнопленные они подлежат эвакуации нах Дойчланд. Мои вооруженные силы охраняют их в здании Волковского театра".
Действительно, видим: торчат около театра у всех входов какие-то плешивые немцы в жеваных шинелишках, все из лагеря военнопленных, и держат винтовочки российские, еще тепленькие от наших рук офицерских...
- Ну и что было дальше?
- Эх, дальше!.. Разумеется, красные предъявили ультиматум, немцы-военнопленные смирнехонько винтовочки наши положили и затопали в свой лагерь. Ну а голубчиков наших - из театра, да прямо за город, по одному адресу с владимирским священником, отца Федора братом. Тот, кстати, оказался смелее нас, офицеров, а конец все равно один был. Насчет нас с Букетовым народ подтвердил; дескать, мирные обыватели, белые флаги развешивали. Нас и отпустили.
Зуров, не глядя ротмистру в глаза, сказал по прежнему сухо:
- Благодарю за подробности, но просил бы среди офицеров моего отряда не утруждать себя подобными воспоминаниями. Переходящих в лагерь врага мы будем уничтожать без пощады, колеблющихся - привлекать. Будем, как некогда в 1812-м, готовить партизанские действия, убеждать людей в правоте и непобедимости белого движения. Отец Федор, кто может реально поддержать нас здесь, в Солнцеве, сейчас?
На главную: Предисловие