Книга: ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Назад: Энн, Эмили, Шарлотта БРОНТЕ ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Барбара ФОРД РОЖДЕСТВО В ИНДИИ
Дальше: Глава 2
Шарлотта БРОНТЕ
Джейн Эйр
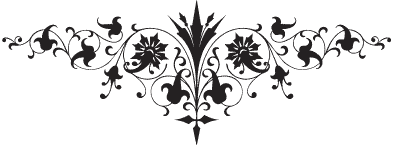
Глава 1
Пойти гулять после обеда в тот день было никак нельзя. Утром мы около часа бродили по садовым дорожкам среди оголившихся кустов, но к обеду (миссис Рид, если не было гостей, обедала рано) ледяной зимний ветер нагнал такие хмурые тучи и захлестал таким дождем, что ни о каких прогулках и речи быть не могло.
А я обрадовалась. Долгие прогулки, особенно в сырые знобкие дни, мне никогда не нравились. И каким мучительным было возвращение домой в промозглых сумерках, когда пальцы на руках и ногах совсем немели, а сердце сжимала тоска из-за сердитого ворчания Бесси, няньки, и еще от сознания, насколько я физически слабее, чем Элиза, Джон и Джорджиана Риды.
Теперь указанные Элиза, Джон и Джорджиана ласкались в гостиной к маменьке: она полулежала на кушетке у камина и, окруженная своими ангельчиками (в эту минуту они не ссорились и не плакали), выглядела безоблачно счастливой. Меня к их кружку она не подозвала, сказав, что сожалеет о необходимости держать меня поодаль, но, пока не услышит от Бесси и собственными глазами не убедится, насколько искренне и усердно я стараюсь обрести детскую общительность и приветливость, сделаться более милой и резвой, стать веселой, непосредственной — ну, словом, более естественной, — она вынуждена отказывать мне в тех удовольствиях, какие предназначены только для детей, всем довольных и счастливых.
— А что Бесси наговорила, будто я сделала?
— Джейн, я не терплю хныканья и дерзких вопросов, к тому же ребенок, столь грубо говорящий о старших, поистине невыносим. Поди отсюда, посиди где-нибудь и помолчи, пока не научишься быть вежливой.
К гостиной примыкала малая столовая для завтраков, и я ускользнула туда. Там стоял книжный шкаф, и минуту спустя я уже держала в руке толстый том, в котором, как я предусмотрительно убедилась, было много картинок. Забравшись на диванчик в оконной нише, я поджала ноги по-турецки, почти совсем задернула гардину из красного штофа и оказалась в убежище, укрытом почти со всех сторон.
Справа меня прятали алые складки гардины, слева прозрачные стекла служили мне защитой от унылого ноябрьского дня, не загораживая его. Время от времени, переворачивая страницу книги, я поглядывала в окно на открывавшийся за ним вид — вдали белесой пеленой висел туман, смыкаясь с тучами, вблизи долгие порывы стонущего ветра гнали нескончаемые дождевые струи над мокрой лужайкой и гнущимися ветками деревьев и кустов.
Я вернулась к моей книге — «Истории британских птиц» Бьюика. Печатный текст меня, вообще говоря, интересовал мало, однако некоторые страницы введения я, хотя и была еще совсем маленькой, не могла просто перелистнуть, не прочитав. Те, что посвящены местам обитания морских птиц, «пустынным скалистым островкам и обрывистым мысам», приюту лишь их одних, — побережью Норвегии, где таких островков и обрывов множество, от мыса Линнеснеса на юге и до Нордкапа на самом севере,
Где Северный вскипает Океан
Вокруг нагих унылых островов
Далекой Туле; где на грозные Гебриды
Гнев рушат атлантические волны.
Не могли не привлечь моего внимания и описания суровых, мрачных берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии — все эти «необъятные протяжения Арктической зоны, эти неисследованные области, гнетуще безлюдные, это вечное царство морозов и снегов, где крепкие ледяные поля, творение неисчислимых столетий зимы, окружают полюс, громоздя ледяные горы одну выше другой, и сосредоточивают в себе все угрозы лютых холодов». У меня сложился собственный образ этих мертвенно-белых царств: смутный, как все лишь полупонятные представления, что неясными тенями скользят в детском мозгу, но странно убедительный. Слова на страницах введения связывались с иллюстрациями книги и придавали особое значение одинокой скале среди валов, взметающих фонтаны брызг, разбитой лодке на пустынном берегу, холодной жуткой луне, поглядывающей сквозь разрывы туч на тонущий корабль.
Не могу выразить, какую меланхолию будило изображение заброшенного кладбища, надгробной плиты с чьим-то именем, калитки, двух деревьев, заслоняющей даль полуразрушенной ограды, узкого серпа восходящего месяца — указания на наступление ночи.
Два судна, скованные штилем на зеркальной глади дремлющего океана, я сочла морскими призраками.
Страницу, на которой дьявол крепко держал вора за его суму, я тут же перевернула, холодея от ужаса.
Как и другую, где на вершине скалы сидел кто-то черный и рогатый, глядя на толпу вдалеке, окружающую виселицу.
Каждая картинка содержала какую-то историю, часто загадочную для моего неразвитого ума и детских чувств и все же необычайно интересную — не меньше рассказов Бесси в зимние вечера, когда она бывала в добром расположении духа и ставила свой столик для утюжки у камелька в детской. Разрешив нам усесться вокруг, она разглаживала кружевные рюши на платьях миссис Рид, плоила ее ночные чепцы и потчевала нас перипетиями любви и приключений, заимствованными из старинных сказок и еще более старинных баллад, а то и (как я поняла позднее) из «Памелы» или «Повести о Генри, графе Морленде».
С Бьюиком на коленях я была счастлива, то есть счастлива на свой лад. И боялась только одного: что мне помешают, как и произошло слишком скоро. Дверь отворилась.
— Ба! Госпожа Нюня! — раздался голос Джона Рида и тотчас умолк, так как комната оказалась пустой. — Куда, прах ее побери, она подевалась? — продолжал он. — Лиззи! Джорджи! — позвал он сестер. — Джоан тут нет! Скажите маменьке, что она убежала под дождь, дрянь этакая!
«Хорошо, что я задернула гардину», — подумала я, лихорадочно надеясь, что он не обнаружит мой тайник. И Джон Рид меня не нашел бы — он был туп и ненаблюдателен, но Элиза только заглянула в дверь и сразу сказала:
— Она за гардиной, Джек, где ей еще быть?
И я сразу вышла в комнату, дрожа при одной мысли, что упомянутый Джек вытащит меня оттуда насильно.
— Чего вам? — спросила я с неловкой робостью.
— Ну-ка скажи: «Что вам угодно, мастер Рид?» — последовал ответ. — А угодно мне, чтобы ты подошла сюда!
Он плюхнулся в кресло и жестом приказал, чтобы я встала перед ним. Джон Рид был четырнадцатилетним школьником (на четыре года старше меня, так как мне было тогда всего десять), крупным и плотным для своего возраста, с землистой нездоровой кожей, грубыми чертами широкого лица, толстыми руками и большими ступнями. За столом он обжирался, и из-за постоянного несварения желудка глаза у него были мутными и тусклыми, а щеки дряблыми. Собственно, ему полагалось бы сейчас быть в школе, но его маменька забрала его домой на месяц-два «по причине деликатного здоровья». Мистер Майлс, директор школы, объяснил, что Джон был бы совсем здоров, если бы ему из дома присылали поменьше бисквитов и сластей, однако материнское сердце не приняло столь сурового суждения, склоняясь к более возвышенному убеждению, что дурной цвет лица Джона свидетельствует о чрезмерном прилежании, а возможно, и о том, что мальчик тоскует по дому.
Джон питал очень мало любви к матери и сестрам, а ко мне — живейшую антипатию. Он издевался надо мной и бил меня — и не два-три раза в неделю, не раз-другой на дню, но непрерывно: каждый мой нерв изнывал от страха перед ним, и все мое существо сжималось при его приближении. Бывали минуты, когда я совсем терялась от ужаса, который он мне внушал. Ведь у меня не было никакой защиты ни от его угроз, ни от перехода от слов к делу. Слуги не хотели идти наперекор молодому хозяину, вступившись за меня, а миссис Рид оставалась слепа и глуха: она не видела, как он меня бьет, не слышала, как он осыпает меня бранью, даже если он расправлялся со мной, не стесняясь ее присутствия. Правда, чаще это происходило у нее за спиной.
Привычно подчиняясь Джону, я подошла к его креслу. Примерно три минуты он потратил на то, что показывал мне язык, высовывая его настолько, насколько было возможно, не повредив корня. Я знала, что потом он меня ударит, и хотя очень боялась удара, думала о том, как отвратителен и уродлив тот, кто сейчас его нанесет. Возможно, он прочитал эти мысли по моему лицу, потому что внезапно без единого слова ударил меня так сильно, что я зашаталась, однако удержалась на ногах и попятилась.
— Это тебе за то, что ты дерзко отвечала маменьке в гостиной, — сказал он, — и за то, что ты подло пряталась за занавеской, и за то, как ты на меня смотрела две минуты назад, слышишь, крыса!
Я давно привыкла к грубостям Джона Рида, и мне в голову не приходило возражать ему. Меня заботило лишь то, как перенести удар, который неизбежно должен был последовать за бранью.
— Что ты делала за занавеской? — спросил он.
— Читала.
— Покажи книгу.
Я вернулась к окну и принесла ее.
— Ты не смеешь брать наши книги; мама говорит, что ты приживалка; у тебя нет денег, твой отец тебе ничего не оставил; тебе бы надо милостыню клянчить, а не жить здесь с детьми джентльмена, есть то же, что едим мы, и носить одежду, за которую платит маменька. Ну, я проучу тебя, как рыться на моих книжных полках! Они ведь мои, весь дом мой — или станет моим через несколько лет. Иди встань у двери, подальше от зеркала и окон.
Я послушалась, не сообразив сначала, что он задумал. Но когда увидела, как он поднял книгу, прицелился и вскочил, чтобы швырнуть ее, я инстинктивно с испуганным криком кинулась в сторону. Но опоздала. Том уже был брошен, обрушился на меня, сбил с ног, и я стукнулась головой о косяк. Из ссадины потекла кровь. Боль была настолько сильной, что мой ужас внезапно прошел, сменившись другими чувствами.
— Гадкий, злой мальчишка! — крикнула я. — Ты как убийца, ты как надсмотрщик над рабами, ты как римские императоры!
Я читала «Историю Рима» Голдсмита и имела свое суждение о Нероне, Калигуле и прочих. И про себя проводила параллели, хотя вовсе не собиралась вот так выложить их вслух.
— Как! Как! — завопил он. — Она сказала мне такое? Вы ее слышали, Элиза и Джорджиана? Ну, я скажу маменьке, но сперва…
Он ринулся на меня. Я почувствовала, как он ухватил меня за волосы и за плечо… но он напал на существо, доведенное до отчаяния. Я правда видела в нем тирана, убийцу. Я чувствовала, как у меня по шее сползают капли крови, испытывала острую боль, и все это на время возобладало над страхом. Я сопротивлялась как безумная. Не знаю, что делали мои руки, только он охнул: «Крыса! Крыса!» и завопил во всю мочь. Но ему недолго пришлось ждать спасения. Элиза с Джорджианой уже сбегали за миссис Рид, которая поднялась в свой будуар, и теперь она явилась на поле боя в сопровождении Бесси и Эббот, своей камеристки. Нас растащили. Я услышала слова:
— Подумать только! Набросилась на мастера Джона, как помешанная!
— Просто невообразимо, до чего она разъярилась!
А затем миссис Рид приказала:
— Уведите ее в Красную комнату и заприте там!
В меня тотчас вцепились две пары рук и понесли наверх.
Назад: Энн, Эмили, Шарлотта БРОНТЕ ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Барбара ФОРД РОЖДЕСТВО В ИНДИИ
Дальше: Глава 2

