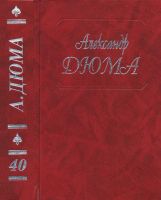Рэй Бредбери
Электрическое тело пою!
Бабушка!..
Я помню, как она родилась.
Постойте, скажете вы, разве может человек помнить рождение собственной бабушки?
И все-таки мы помним этот день.
Ибо это мы, ее внуки – Тимоти, Агата и я, Том, – помогли ей появиться на свет. Мы первые дали ей шлепка и услышали крик "новорожденной". Мы сами собрали ее из деталей, узлов и блоков, подобрали ей темперамент, вкусы и привычки, повадки и склонности и те элементы, которые заставили потом стрелку ее компаса отклоняться то к северу, когда она бранила нас, то к югу, когда утешала и ласкала, или же к востоку и западу, чтобы показать нам необъятный мир; взор ее искал и находил нас, губы шептали слова колыбельной, а руки будили на заре, когда вставало солнце.
Бабушка, милая Бабушка, прекрасная электрическая сказка нашего детства…
Когда за горизонтом вспыхивают зарницы, а зигзаги молний прорезают небо, ее имя огненными буквами отпечатывается на моих смеженных веках. В мягкой тишине ночи мне по-прежнему слышится мерное тиканье и жужжание. Она, словно часы-привидение, проходит по длинным коридорам моей памяти, как рой мыслящих пчел, догоняющих призрак ушедшего лета. И иногда на исходе ночи я вдруг чувствую на губах улыбку, которой она нас научила…
Хорошо, хорошо, прервете вы меня с нетерпением, расскажите же, наконец, черт побери, как все произошло, как "родилась" на свет эта ваша столь замечательная, столь удивительная и так обожавшая вас бабушка.
Случилось это в ту неделю, когда всему пришел конец…
Умерла мама.
В сумерках черный лимузин уехал, оставив отца и нас троих на дорожке перед домом. Мы потерянно глядели на лужайку и думали: "Нет, это не наша лужайка, хотя на площадке для крокета все так же лежат брошенные деревянные шары и молотки, стоят дужки ворот и все, как три дня назад, когда из дома вышел рыдающий отец и сказал нам. Вот лежат ролики, принадлежавшие некогда мальчугану, – этим мальчуганом был я. Но это время безвозвратно ушло. На старом дубе висят качели, однако Агата не решится встать на них – они не выдержат, оборвутся и упадут".
А наш дом? О боже…
Мы с опаской смотрели на приоткрытую дверь, страшась эха, которое могло прятаться в коридорах, тех гулких звуков пустоты, которые мгновенно поселяются в доме, как только из него вынесли мебель и ничто уже не приглушает голосов и шумов, наполняющих дом, когда в нем живут люди. Нечто мягкое и уютное, нечто самое главное и прекрасное исчезло из нашего дома навсегда.
Дверь медленно отворилась.
Нас встретила тишина. Пахнуло сыростью – должно быть, забыли закрыть дверь погреба. Но ведь у нас нет погреба!..
– Ну вот, дети… – промолвил отец.
Мы застыли на пороге.
К дому подкатила большая канареечно-желтая машина тети Клары.
Нас словно ветром сдуло – мы бросились в дом и разбежались по своим комнатам.
Мы слышали голоса – они кричали и спорили, кричали и спорили. "Пусть дети живут у меня!" – кричала тетя Клара. "Ни за что! Они скорее согласятся умереть!.." – отвечал отец.
Хлопнула дверь. Тетя Клара уехала.
Мы чуть не заплясали от радости, но вовремя опомнились и тихонько спустились вниз.
Отец сидел, разговаривая сам с собой или, может быть, с бледной тенью мамы еще из тех времен, когда она была здорова и была с нами. Но звук хлопнувшей двери вспугнул тень и она исчезла. Отец потерянно бормотал, глядя в пустые ладони:
– Пойми, Энн, детям нужен кто-то… Я люблю их, видит бог, но мне надо работать, чтобы прокормить нас всех. И ты любишь их, Энн, я знаю, но тебя нет с нами. А Клара?.. Нет, это невозможно. Ее любовь… угнетает. Няньки, прислуга…
Отец горестно вздохнул, и мы, вспомнив, вздохнули тоже.
Нам действительно не везло на нянек, воспитательниц, даже на приходящую прислугу. Мы не помним, чтобы хоть одна из них не пилила, как пила. Их появление в доме можно сравнить со стихийным бедствием, торнадо или ураганом, с топором, который неожиданно падал на наши ни в чем не повинные головы. Конечно же, они все никуда не годились; на нашем языке – горелые сухари, либо прокисшее суфле. Мы для них были чем-то вроде мебели, на которую можно без спроса садиться, которую следует чистить и выколачивать, весной и осенью менять обивку и раз в год вывозить на взморье для большой стирки.
– Дети, нам нужна… – вдруг тихо произнес отец.
Нам пришлось придвинуться поближе, чтобы расслышать слово, которое он произнес почти шепотом:
– …бабушка.
– Но наши бабушки давно умерли! – с беспощадной логикой девятилетнего мальчишки воскликнул Тимоти.
– С одной стороны, это так, но с другой…
Что за странные и загадочные слова говорит наш отец!
– Вот взгляните. – Он протянул нам сложенный гармошкой яркий рекламный проспект.
Сколько раз мы видели его в руках отца, и особенно в последние дни! Достаточно было одного взгляда, чтобы стало ясно, почему оскорбленная и разгневанная тетя Клара так стремительно покинула наш дом.
Тимоти первым прочел вслух слова на обложке:
"Электрическое тело пою!" (Стихотворение американского поэта Уолта Уитмена.)
Нахмурившись, он вопросительно посмотрел на отца.
– Это что еще такое?
– Читай дальше.
Мы с Агатой виновато оглянулись, словно испугались, что вот-вот войдет мама и застанет нас за этим недостойным занятием. А потом закивали головами: да, да, пусть Тимоти читает.
– "Фанто…"
– "Фанточини" (Марионетки, куклы – итал.), – не выдержав, подсказал отец
– …"Фанточини Лимитед". Мы провидим… Вот ответ на все ваши трудные и неразрешимые проблемы. Всего ОДНА МОДЕЛЬ, но ее можно видоизменять до бесконечности, создавая тысячи и тысячи вариантов, добавлять, исправлять, менять форму и вид… Единственная, уникальная… единая, неделимая, с свободой и справедливостью для всех".
– Где, где это написано? – закричали мы.
– Это я от себя добавил. – И впервые за много дней Тимоти улыбнулся. – Так вдруг, захотелось. А теперь слушайте дальше: "Для тех, кого измучили недобросовестные няньки и приходящая прислуга, на виду у которой нельзя оставить початую бутылку вина, кто устал от советов дядей и теток, преисполненных самых добрых намерений…
– Да, добрых… – протянула Агата, а я, как эхо, повторил за ней.
"…мы создали и усовершенствовали модель человека-робота на микросхемах с перезарядкой марки АС-ДСУ, электронную Бабушку…"
– Бабушку?!
Проспект упал на пол.
– Папа?..
– Не смотрите на меня так, дети, – прошептал отец. – Я совсем потерял голову от горя, я почти лишился рассудка, думая о том, что будет завтра, а потом послезавтра… Да поднимите же вы его, дочитайте до конца!
– Хорошо, – сказал я и поднял проспект.
"…это Игрушка и вместе с тем нечто большее, чем Игрушка. Это Электронная Бабушка фирмы "Фанточини". Она создана с величайшим тщанием и заряжена огромной любовью и нежностью к вашим детям. Мы создавали ее для детей, знакомых с реальностью современного мира и еще в большей степени с реальностью невероятного. Наша модель способна обучать на двенадцати языках одновременно, переключаясь с одного на другой с быстротой в одну тысячную долю секунды. В ее электронной памяти, похожей на соты, хранится все, что известно людям о религии, искусстве и истории человечества…"
– Вот здорово! – воскликнул Тимоти… – Значит, у нас будут пчелы! Да еще ученые!..
– Замолчи, – одернула его Агата.
"Но самое главное, – продолжал я, – что это Существо – а наша модель действительно почти живое существо, – это идеальное воплощение человеческого интеллекта, способное слушать и понимать, любить и лелеять ваших детей (как способно любить и лелеять совершеннейшее из творений человеческого разума), – наша фантастическая и невероятная Электронная Бабушка. Она будет чутко откликаться на все, что происходит не только в окружающем вас огромном мире и в вашем собственном маленьком мирке, но также во всей вселенной. Послушная малейшему прикосновению руки, она подарит чудесный мир сказок тем, кто в этом так нуждается…"
– Так нуждается… – прошептала Агата.
Да, да, нуждается, печально подумали мы. Это написано о нас, конечно о нас!
Я продолжал:
"Мы не предлагаем ее счастливым семьям, где все живы и здоровы, где родители могут сами растить и воспитывать своих детей, формировать их характеры, исправлять недостатки, дарить любовь и ласку. Ибо никто не заменит детям отца или мать. Но есть семьи, где смерть, недуг или увечье кого-либо из родителей грозят разрушить счастье семьи, отнять у детей детство. Приюты здесь не помогут. А няньки и прислуга слишком эгоистичны, нерадивы или слишком неуравновешенны в наш век нервных стрессов.
Прекрасно сознавая, сколь многое предстоит еще додумать, изучить и пересмотреть, постоянно совершенствуя из месяца в месяц и из года в год наше изобретение, мы, однако, берем на себя смелость уже сейчас рекомендовать вам этот образец, по многим показателям близкий к идеальному типу наставника – друга – товарища – помощника – близкого и родного человека. Гарантийный срок может быть оговорен в…"
– Довольно! – воскликнул отец. – Не надо больше. Даже я не в силах вынести этого.
– Почему? – удивился Тимоти. – А я только-только начал понимать, как это здорово!
Я сложил проспект.
– Это правда? У них действительно есть такие штуки?
– Не будем больше говорить об этом, дети, – сказал отец, прикрыв глаза рукой. – Безумная мысль…
– Совсем не такая уж плохая, папа, – возразил я и посмотрел на Тима. – Я хочу сказать, что если, черт побери, это лишь первая попытка и она удалась, то это все же получше, чем наша тетушка Клара, а?
Бог мой, что тут началось! Давно мы так не смеялись. Пожалуй, несколько месяцев. Конечно, я сморозил глупость, но все так и покатились со смеху, стонали и охали, да и я сам от души расхохотался. Когда мы наконец отдышались и пришли в себя, глаза наши невольно снова вернулись к рекламному проспекту.
– Ну? – сказал я.
– Я… – поежилась не готовая к ответу Агата.
– Это то, что нам нужно. Нечего раздумывать, – решительно заявил Тимоти.
– Идея сама по себе неплоха, – изрек я, по привычке стараясь придать своему голосу солидность.
– Я хотела сказать, – снова начала Агата, – можно попробовать. Конечно, можно. Но когда, наконец, мы перестанем болтать чепуху и когда… наша настоящая мама вернется домой?
Мы охнули, мы окаменели. Удар был нанесен в самое сердце. Я не уверен, что в эту ночь кто-нибудь из нас уснул. Вероятнее всего, мы проплакали до утра.
А утро выдалось ясное, солнечное. Вертолет поднял нас над небоскребами, и не успели мы опомниться, как он высадил нас на крыше одного из них, где еще с воздуха была видна надпись: "ФАНТОЧИНИ".
– А что такое Фанточини? – спросила Агата.
– Кажется, по-итальянски это куклы из театра теней. Куклы из снов и сказок, – пояснил отец.
– А что означает: "Мы провидим"?
– "Мы угадываем чужие сны и желания", – не удержался я показать свою ученость.
– Молодчина, Том, – похвалил отец.
Я чуть не лопнул от гордости.
Зашумев винтом, вертолет взмыл в воздух и, на мгновение накрыв нас своей тенью, исчез из виду.
Лифт стремительно упал вниз, а сердце, наоборот, подпрыгнуло к горлу. Мы вышли и сразу же ступили на движущуюся дорожку – она привела нас через синюю реку ковра к большому прилавку, над которым мы увидели надписи:
"МЕХАНИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ"
"КУКЛЫ – НАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ"
"ЗАЙЧИК НА СТЕНЕ – ЭТО СОВСЕМ ПРОСТО"
– Зайчик?
Я сложил пальцы и показал на стене тень зайца, шевелящего ушами.
– Это заяц, вот волк, а это крокодил.
– Это каждый умеет, – сказала Агата.
Мы стояли у прилавка. Тихо играла музыка. За стеной слышался приглушенный гул работающих механизмов. Когда мы очутились у прилавка, свет в магазине стал мягче, да и мы повеселели, словно оттаяли, хотя внутри все еще оставался сковывающий холодок.
Вокруг нас, в ящиках и стенных нишах или просто свешиваясь с потолка на шнурах и проволоке, были куклы, марионетки с каркасами из тонких бамбуковых щепок, куклы с острова Бали, напоминающие бумажного змея и такие легкие и прозрачные, что при лунном свете кажется, будто оживают твои сокровенные мечты и желания. При нашем появлении потревоженный воздух привел их в движение. "Они похожи на еретиков, повешенных в дни празднеств на перекрестках дорог в средневековой Англии", – подумал я. Как видите, я еще не забыл историю…
Агата с недоверием озиралась вокруг. Недоверие сменилось страхом и наконец отвращением.
– Если они все такие, уйдем отсюда.
– Тс-с, – остановил ее отец.
– Ты уже однажды подарил мне такую глупую куклу, помнишь, два года назад, – запротестовала Агата. – Все веревки сразу перепутались. Я выбросила ее в окно.
– Терпение, – сказал отец.
– Ну что ж, в таком случае постараемся подобрать без веревок, – произнес человек, стоявший за прилавком.
Отлично знающий свое дело, он смотрел на нас серьезно, без тени улыбки. Видимо, знал, что дети не очень-то доверяют тем, кто слишком охотно расточает улыбки, – тут сразу чувствуется подвох.
Все так же без улыбки, но отнюдь не мрачно, без всякой важности и совсем просто он представился:
– Гвидо Фанточини, к вашим услугам. Вот что мы сделаем, мисс Агата Саймонс одиннадцати лет.
Вот это да! Он-то прекрасно видел, что Агате не больше десяти. И все-таки это он здорово придумал прибавить ей год. Агата на наших глазах выросла по меньшей мере на вершок.
– Вот, держи.
Он вложил ей в ладонь маленький золотой ключик.
– Это чтобы заводить их? Вместо веревок, да?
– Ты угадала, – кивнул он.
Агата хмыкнула, что было вежливой формой ее обычного: "Так я и поверила".
– Сама увидишь. Это ключ от вашей Электронной Бабушки. Вы сами выберете ее, сами будете заводить. Это надо делать каждое утро, а вечером спускать пружину. И следить за этим поручается тебе. Ты будешь хранительницей ключа, Агата.
И он слегка прижал ключ к ладони Агаты, а та по-прежнему разглядывала его с недоверием.
Я же не спускал глаз с этого человека, и вдруг он лукаво подмигнул мне. Видимо, хотел сказать: "Не совсем так, конечно, но интересно, не правда ли?"
Я успел подмигнуть ему в ответ, до того как Агата наконец подняла голову.
– А куда его вставлять?
– В свое время все узнаешь. Может, в живот, а может, в левую ноздрю или в правое ухо.
Это было получше всяких улыбок.
Человек вышел из-за прилавка.
– Теперь, пожалуйста, сюда. Осторожно. На эту бегущую дорожку, прямо как по волнам. Вот так.
Он помог нам ступить с неподвижной дорожки у прилавка на ту, что бежала мимо с тихим шелестом, словно река.
Какая же это была славная река! Она понесла час по зеленым ковровым лугам, через коридоры и залы. Под темные своды загадочных пещер, где эхо повторяло наше дыхание и чьи-то голоса мелодично, нараспев, подобно оракулу, отвечали на наши вопросы.
– Слышите? – промолвил хозяин магазина. – Это все женские голоса. Слушайте внимательно и выбирайте любой. Тот, что больше всех понравится…
И мы вслушивались в голоса, высокие и низкие, звонкие и глухие, голоса ласковые и чуть строгие, собранные здесь, видимо, еще до того, как мы появились на свет.
Агаты не было рядом, она все время отставала. Она упорно пыталась идти вспять по бегущей дорожке, будто все происходящее ее не касалось.
– Скажите что-нибудь, – предложил хозяин. – Можете даже крикнуть.
Долго просить нас не пришлось.
– Э-гей-гей! Слушайте, это я, Тимоти!
– Что бы мне такое сказать? – промолвил я и вдруг крикнул: – На помощь!
Агата, упрямо сжав губы, продолжала шагать против течения.
Отец схватил ее за руку.
– Пусти! – крикнула она. – Я не хочу, чтобы мой голос попал туда, слышишь, не хочу!
– Ну вот и отлично, – сказал наш проводник и коснулся пальцем трех небольших циферблатов приборчика, который держал в руках. На боковой стороне приборчика появились три осциллограммы: кривые на них переплелись, сливаясь воедино, – наши возгласы и крики.
Гвидо Фанточини щелкнул переключателем, и мы услышали, как наши голоса вырвались на свободу, под своды дельфийских пещер, чтобы поселиться там, заглушив другие, известить о себе. Гвидо снова и снова касался каких-то кнопок то здесь, то там на приборчике, и мы вдруг услышали легкое, как вздох, восклицание мамы и недовольное ворчание отца, бранившего статью в утренней газете, а затем его умиротворенный голос после глотка доброго вина за ужином. Что уж он там делал, наш добрый провожатый, со своим приборчиком, но вокруг нас плясали шепоты и звуки, словно мошкара, вспугнутая светом. Но вот она успокоилась и осела; последний щелчок переключателя – и в тишине, свободной от всяких помех, прозвучал голос. Он произнес всего лишь одно слово:
– Нефертити.
Тимоти замер, я окаменел. Даже Агата прекратила свои попытки шагать в обратную сторону.
– Нефертити? – переспросил Тимоти.
– Что это такое? – требовательно спросила Агата.
– Я знаю! – воскликнул я.
Гвидо Фанточини ободряюще кивнул головой.
– Нефертити, – понизив голос до шепота, произнес я, – в Древнем Египте означало: "Та, что прекрасна, пришла, чтобы остаться навсегда".
– Та, что прекрасна, пришла, чтобы остаться навсегда, – повторил Тимоти.
– Нефер-ти-ти, – протянула. Агата.
Мы повернулись и посмотрели в тот мягкий далекий полумрак, откуда прилетел к нам этот нежный, ласковый и добрый голос.
Мы верили – она там.
И судя по голосу, она была прекрасна.
Вот как это было.
Во всяком случае, таким было начало.
Голос решил все. Почему-то именно он показался нам самым главным.
Конечно, нам не безразлично было и многое другое, например ее рост и вес. Она не должна быть костлявой и угловатой, чтобы мы набивали о нее синяки и шишки, но, разумеется, и не толстой, чтобы не утонуть и не задохнуться в ее объятиях. Ее руки, когда они будут касаться нас или же вытирать испарину с наших горячих лбов во время болезни, не должны быть холодными, как мрамор, или обжигать, как раскаленная печь. Лучше всего, если они будут теплыми, как тельце цыпленка, когда утром берешь его в руки, вынув из-под крыла преисполненной важности мамы– наседки. Только и всего. Что касается деталей, то уж тут мы показали себя. Мы кричали и спорили чуть ли не до слез, но Тимоти все же удалось настоять на своем: ее глаза будут только такого цвета, и никакого другого. Почему – об этом мы узнали потом.
А цвет волос нашей Бабушки? У Агаты, как у всякой девчонки, на сей счет было свое особое мнение, но она не собиралась делиться им с нами. Поэтому мы с Тимоти предоставили ей самой выбирать из того множества образцов, которые, подобно декоративным шпалерам, украшали стены и напоминали нам разноцветные струйки дождя, под которые так и хотелось подставить голову. Агата не разделяла наших восторгов, но, понимая, как неразумно в таком деле полагаться на мальчишек, велела нам отойти в сторону и не мешать ей.
Наконец удачная покупка в универсальном магазине "Бен Франклин – Электрические машины и компания "Пантомимы Фанточини". Продажа по каталогам" была совершена.
Река вынесла нас на берег. Был уже конец дня.
Что и говорить, люди из фирмы "Фанточини" поступили очень мудро.
Как, спросите вы?
Они заставили нас ждать.
Они понимали, что о победе говорить рано. Во всяком случае, полной и, если хотите, даже частичной.
Особенно если говорить об Агате. Ложась спать, она тут же поворачивалась лицом к стене, и, кто знает, какие печальные картины чудились ей в рисунке обоев, которых она то и дело касалась рукой. А утром мы находили на них нацарапанные ногтем силуэты крохотных существ, то прекрасных, то зловещих, как в кошмаре. Одни из них исчезали от малейшего прикосновения, как морозный узор на стекле от теплого дыхания, другие не удавалось стереть даже мокрой губкой, как мы ни старались.
А "Фанточини" не торопились.
Прошел июнь в томительном ожидании.
Минул июль в ничегонеделании.
На исходе был август и наше терпение.
Вдруг 29-го Тимоти сказал:
– Странное у меня сегодня чувство…
И не сговариваясь, после завтрака мы вышли на лужайку.
Возможно, мы заподозрили что-то, когда слышали, как отец вчера вечером говорил с кем-то по телефону, или от нас не укрылись осторожные взгляды, которые он бросал то на небо, то на шоссе перед домом. А может, виною был ветер, от которого, как бледные тени, всю ночь метались по спальне занавески, будто хотели нам что-то сказать.
Так или иначе, мы с Тимом были на лужайке, а голова Агаты, делавшей вид, будто ей решительно все равно, то и дело мелькала где-то на крыльце за горшками с Геранью.
Мы словно не замечали нашу сестренку. Мы знали: стоит нам вспугнуть ее, и она убежит. Поэтому мы просто смотрели на небо. А на нем были лишь птицы да далекий росчерк реактивного самолета. Мы не забывали изредка поглядывать и на шоссе, по которому то и дело проносились машины. Ведь любая из них могла доставить нам… Нет, нет, мы ничего не ждем.
В полдень мы с Тимоти все еще валялись на лужайке и жевали травинки.
В час дня Тим вдруг удивленно заморгал глазами.
И вот тут-то все и произошло с невероятной точностью и быстротой.
Словно "Фанточини" передался весь накал нашего нетерпения, и они безошибочно выбрали момент.
Дети отлично умеют скользить по поверхности. Каждый день мы проделывали это, чуть задевая зеркальную поверхность озера, и нам знакомо то странное ощущение, будто в любую секунду можешь вспороть обманчивую гладь и уйти и тебя уже не дозовешься.
Будто почувствовав, что нашему долготерпению должен прийти конец, что это может случиться в любую минуту, даже секунду, и все исчезнет, будет забыто, словно ничего и не было никогда, именно в это так точно угаданное мгновение облака над нашим домом расступились и пропустили вертолет, словно мифические небеса колесницу бога Аполлона.
Колесница медленно опускалась на крыльях потревоженного воздуха, горячие струи которого, тут же остывая, вздыбили наши волосы, захлопали складками одежды, будто кто-то громко зааплодировал, а волосы Агаты, стоявшей на крыльце, превратились в трепещущий флаг. Испуганной птицей вертолет коснулся лужайки, чрево его разверзлось, и на траву упал внушительных размеров ящик. И, не дав времени ни на приветствие, ни на прощание, еще сильнее взвихрив воздух, вертолет тут же рванулся вверх и, словно небесный дервиш, унесся дальше, чтобы где-то еще повторить свой фантастический трюк.
Какое-то время Тимоти и я недоуменно глядели на ящик. Но когда мы увидели маленький лапчатый ломик, прикрепленный к крышке из грубых сосновых досок, мы больше не раздумывали Мы бросились к ящику и, орудуя ломиком, стали с треском отрывать одну доску за другой. Увлеченный, я не сразу заметил, что Агаты уже нет на крыльце, что, подкравшись, она с любопытством наблюдает за нами, и подумал, как хорошо, что она не видела гроба, когда маму увозили на кладбище, и свежей могилы, а лишь слышала слова прощания в церкви, но самого ящика, деревянного ящика, так похожего на этот, она не видела!..
Отскочила последняя доска.
Мы с Тимоти ахнули. Агата, стоявшая теперь совсем рядом, тоже не удержалась от возгласа удивления.
Потому что в большом ящике из грубых сосновых досок лежал подарок, о котором можно только мечтать. Отличный подарок для любого из смертных, будь ему семь или семьдесят семь.
Сначала просто не было слов и перехватило дыхание, но потом мы разразились поистине дикими воплями вое торга и радости.
Потому что в ящике лежала… мумия! Вернее, пока лишь саркофаг.
– Нет, не может быть! – Тимоти чуть не заплакал от счастья.
– Не может быть! – повторила Агата.
– Да, да, это она!
– Наша, наша собственная?!
– Конечно, наша!
– А что, если они ошиблись?
– И заберут ее обратно?!
– Ни за что!
– Смотрите, настоящее золото! И настоящие иероглифы! Потрогайте!
– Дайте мне потрогать!
– Точь-в-точь такая, как в музее!
Мы говорили все разом, перебивая друг друга. Слезинки сползли по моим щекам и упали на саркофаг.
– Ты испортишь иероглифы! – Агата поспешно вытерла крышку.
Золотая маска на саркофаге смотрела на нас, чуть улыбаясь, словно радовалась вместе с нами, и охотно принимала нашу любовь, которая, мы думали, навсегда ушла из наших сердец, но вот вернулась и вспыхнула при первом лучике солнца.
Ибо лицо ее было солнечным ликом, отчеканенным из чистого золота, с тонким изгибом ноздрей, с нежной и вместе с тем твердой линией рта. Ее глаза сияли небесно-голубым, нет, аметистовым, лазоревым светом или, скорее, сплавом всех этих трех цветов, а тело было испещрено изображениями львов, человеческих глаз и птиц, похожих на воронов, золотые руки, сложенные на груди, держали плеть, символ повиновения, и еще диковинный цветок, означавший послушание по доброй воле, когда плеть вовсе не нужна.
Глаза наши жадно изучали иероглифы, и вдруг мы сразу поняли…
– Эти знаки, ведь они… Вот птичий след, вот змея!.. Да, да, они говорят совсем не о Прошлом.
В них было Будущее.
Это была первая в истории мумия, таинственные письмена которой сообщали не о том, что было и прошло, а о том, что будет через месяц, год или полвека!
Она не оплакивала безвозвратно ушедшее.
Нет, она приветствовала яркое сплетение грядущих дней и событий, записанных, хранимых, ждущих, когда наступит их черед.
Мы благоговейно встали на колени перед грядущим и возможным временем. Руки протянулись, сначала одна, потом другая, пальцы робко коснулись, стали ощупывать, пробовать, гладить, легонько обводить контуры чудодейственных знаков.
– Вот я, смотрите! Это я в шестом классе! – воскликнула Агата (сейчас она была в пятом). – Видите эту девочку? У нее такие же волосы и коричневое платье.
– А вот я в колледже! – уверенно сказал Тимоти, совсем еще малыш; но каждую неделю он набивал новую планку на свои ходули и важно вышагивал по двору.
– И я… в колледже, – тихо, с волнением промолвил я. – Вот этот увалень в очках. Конечно же, это я, черт побери! – И я смущенно хмыкнул.
На саркофаге были наши школьные зимы, весенние каникулы, осень с золотом, медью и багрянцем опавших листьев, рассыпанных по земле, словно монеты, и над всем этим – символ солнца, вечный лик дочери бога Ра, негасимое светило на нашем небосклоне, путеводный свет в сторону добра.
– Вот здорово! – хором воскликнули мы, читая и перечитывая книгу нашей судьбы, прослеживая линии наших жизней и всего прекрасного и непостижимого, что с такой щедростью было начертано вокруг.
– Вот здорово!
И, не сговариваясь, мы ухватились за сверкающую крышку саркофага, не имевшего ни петель, ни запоров, которая снималась так же легко и просто, как снимается чашка, прикрывающая другую, приподняли ее и отложили в сторону.
Конечно… в саркофаге была настоящая мумия!
Такая же, как ее изображение на крышке, но только еще прекрасней и желанней, ибо она совсем уже походила на живое существо, запеленутое в новый, чистый холст, а не в истлевшие, рассыпающиеся в пыль погребальные одежды.
Лицо ее скрывала уже знакомая золотая маска, но оно казалось еще моложе и, как ни странно, мудрее. Три чистых холщовых свивальника стягивали ее тело. Они были тоже испещрены иероглифами, но на каждом – разными: вот иероглифы для девочки десяти лет, а вот для девятилетнего мальчика и мальчика тринадцати лет. Выходит, каждому из нас свое!
Мы растерянно переглянулись и вдруг засмеялись.
Не думайте, что кто-нибудь из нас позволил себе глупую шутку. Просто нам пришло в голову, что если она запеленута в холст, а на холсте – мы, значит, ей уже от нас никуда не деться!
Ну и что ж, разве это плохо! Нет, это здорово придумано, чтобы мы тоже в этом участвовали, и тот, кто это сделал, знал: теперь никто из нас не останется в стороне. Мы бросились к мумии, и каждый потянул за свою полоску холста, которая разворачивалась как волшебный серпантин!
Вскоре на лужайке лежали горы холста. А мумия оставалась неподвижной, дожидаясь своего часа.
– Она мертвая! – вдруг закричала Агата. – Тоже мертвая! – И в ужасе отшатнулась прочь.
Я вовремя успел схватить ее.
– Глупая. Она ни то ни другое, – не живая и не мертвая. У тебя ведь есть ключик. Где он?
– Ключик?
Вот балда! – закричал Тим. – Да тот, что тебе дал этот человек в магазине. Чтобы заводить ее!
Рука Агаты уже шарила за воротом, где на цепочке висел символ, возможно, нашей новой веры. Она рванула его, коря себя и ругая, и вот он уже в ее потной ладошке.
– Ну давай, вставляй же его! – нетерпеливо крикнул Тимоти.
– Куда?
– Вот дуреха! Он же тебе сказал: в правую подмышку или в левое ухо. Дай сюда ключ!
Он схватил ключ и, задыхаясь от нетерпения и досады, что сам не знает, где заветная скважина, стал обшаривать мумию с ног до головы, тыча в нее ключом. Где, где же она заводится? И уже отчаявшись, он вдруг ткнул ключом в живот мумии, туда, где, по его предположению, должен быть у нее пупок.
И о чудо! Мы услышали жужжание.
Электрическая Бабушка открыла глаза! Жужжание и гул становились громче. Словно Тим попал палкой в осиное гнездо.
– Отдай! – закричала Агата, сообразив, что Тимоти отнял у нее всю радость первооткрытия. – Отдай! – И она выхватила у него ключик.
Ноздри нашей Бабушки шевелились – она дышала! Это было так же невероятно, как если бы из ее ноздрей повалил пар или полыхнул огонь!
– Я тоже хочу!.. – не выдержал я и, вырвав у Агаты ключ, с силой повернул его… Дзинь!
Уста чудесной куклы разомкнулись.
– Я тоже!
– Я!
– Я!!!
Бабушка внезапно поднялась и села.
Мы в испуге отпрянули.
Но мы уже знали: она родилась! Родилась! И это сделали мы!
Она вертела головой, она смотрела, она шевелила губами. И первое, что она сделала, она засмеялась.
Тут мы совсем забыли, что минуту назад в страхе шарахнулись от нее. Теперь звуки смеха притягивали нас к ней с такой силой, с какой влечет зачарованного зрителя змеиный ров.
Какой же это был заразительный, веселый и искренний смех! В нем не было ни тени иронии, он приветствовал нас и словно бы говорил: да, это странный мир, он огромен и полон неожиданностей, в нем если хотите, много нелепого, но при всем при этом он прекрасен и я рада в него войти и теперь не променяю его ни на какой другой. Я не хочу снова уснуть и вернуться туда, откуда пришла.
Бабушка проснулась. Мы разбудили ее. Своими радостными воплями мы вызвали ее к жизни. Теперь ей оставалось лишь встать и выйти к нам.
И она сделала это. Она вышла из саркофага, отбросив прочь пеленавшие ее покрывала, сделала шаг, отряхивая и разглаживая складки одежды, оглядываясь по сторонам, словно искала зеркало, куда бы поглядеться. И она нашла его – в наших глазах, где увидела свое отражение. Очевидно, то, что она увидела там ей понравилось, ибо ее смех сменился улыбкой изумления.
Что касается Агаты, то ее уже не было с нами. Напуганная всем происшедшим, она снова спряталась на крыльце. А Бабушка будто и не заметила этого.
Она, медленно поворачиваясь, оглядела лужайку и тенистую улицу, словно впитывала в себя все новое и незнакомое. Ноздри ее трепетали, будто она и в самом деле дышала, наслаждаясь первым днем в райском саду, и совсем не спешила вкусить от яблока познания добра и зла и тут же испортить чудесную игру…
Наконец взгляд ее остановился на моем братце Тимоти.
– Ты, должно быть…
– Тимоти, – радостно подсказал он.
– А ты?..
– Том, – ответил я.
До чего же хитрые эти "Фанточини"! Они прекрасно знали, кто из нас кто. И она, конечно, знала. Но они нарочно подучили ее сделать вид, будто это не так. Чтобы мы сами как бы научили ее тому, что она и без нас отлично знает. Вот дела!
– Кажется, должен быть еще один мальчик, не так ли? – спросила Бабушка.
– Девочка! – раздался с крыльца обиженный голос.
– И ее, кажется, зовут Алисия?..
– Агата! – Обида сменилась негодованием.
– Ну если не Алисия, тогда Алджернон…
– Агата!!! – и наша сестренка, показав голову из-за перил, тут же спряталась, багровая от стыда.
– Агата. – Бабушка произнесла это имя с чувством полного удовлетворения. – Итак: Агата, Тимоти и Том. Давайте-ка я погляжу на вас всех.
– Нет, раньше мы! Мы!..
Наше волнение было огромно. Мы приблизились, мы медленно обошли вокруг нее, а потом еще и еще раз, описывая круги вдоль границ ее территории. А она кончалась там, где уже не слышно было мерного гудения, так похожего на гудение пчелиного улья в разгар лета. Именно так. Это было самой замечательной особенностью нашей Бабушки. С нею всегда было лето, раннее июньское утро, когда мир пробуждается и все вокруг прекрасно, разумно и совершенно. Едва открываешь глаза – и ты уже знаешь, каким будет день. Хочешь чтобы небо было голубое, оно будет голубым. Хочешь чтобы солнце, пронизав кроны деревьев, вышило на влажной от росы утренней лужайке узор из света и те ней, – так оно и будет.
Раньше всех за работу принимаются пчелы. Они уже побывали на лугах и полях и вернулись, чтобы полететь снова и вернуться, и так не один раз, словно золотой пух в прозрачном воздухе, все в цветочной пыльце и сладком нектаре, который украшает их, как золотые эполеты. Слышите, как они летят? Как парят в воздухе? Как на языке танца приветствуют друг друга, сообщают, куда лететь за сладким сиропом, от которого шалеют лесные медведи, приходят в неописуемый экстаз мальчишки, а девочки мнят о себе бог знает что и вскакивают по вечерам с постели, чтобы с замиранием сердца увидеть в застывшей глади зеркала свои гладкие и блестящие, как у резвящихся дельфинов, тела.
Вот такие мысли пробудила в нас наша Электрическая Игрушка в этот знаменательный летний полдень на лужайке перед домом.
Она влекла, притягивала и околдовывала, заставляла кружиться вокруг нее, запоминать то, что и залом нить, казалось, невозможно, ставшая столь необходимой нам, уже обласканным ее вниманием.
Разумеется, я говорю о Тимоти и о себе, потому что Агата по-прежнему пряталась на крыльце. Но голова ее то и дело появлялась над балюстрадой – Агата стремилась ничего не упустить, услышать каждое слово, запомнить каждый жест.
Наконец Тимоти воскликнул:
– Глаза!.. Ее глаза!
Да, глаза, чудесные, просто необыкновенные глаза. Ярче лазури на крышке саркофага или цвета глаз на маске, прятавшей ее лицо. Это были самые лучезарные и добрые глаза в мире, и светились они тихим, ясным светом.
– Твои глаза, – пробормотал, задыхаясь от волнения, Тимоти, – они точно такого цвета, как…
– Как что?
– Как мои любимые стеклянные шарики…
– Разве можно придумать лучше!
Потрясенный Тим не знал, что ответить.
Взгляд ее скользнул дальше и остановился на мне; она с интересом изучала мое лицо – нос, уши, подбородок.
– А как ты. Том?
– Что я?
– Станем мы с тобой друзьями? Ведь иначе нельзя, если мы хотим жить под одной крышей и в будущем году…
– Я… – не зная, что ответить, я растерянно умолк.
– Знаю, – сказала Бабушка. – Ты как тот щенок – рад бы залаять, да тянучка пасть залепила. Ты когда-нибудь угощал щенка ячменным сахаром? Очень смешно, не правда ли, и все-таки грустно. Сначала покатываешься со смеху, глядя, как вертится бедняга, пытаясь освободиться, а потом тебе уже жаль его и ужасно стыдно. Уже сам чуть не плачешь, бросаешься помочь и визжишь от радости, когда наконец слышишь его лай.
Я смущенно хмыкнул, вспомнив и щенка, и тот день, когда я проделал с ним такую штуку.
Бабушка оглянулась и тут заметила моего бумажного змея, беспомощно распластавшегося на лужайке.
– Оборвалась бечевка, – сразу догадалась она. – Нет, потерялась вся катушка. А без бечевки змея не запустишь. Сейчас посмотрим.
Бабушка наклонилась над змеем, а мы с любопытством наблюдали, что же будет дальше. Разве роботы умеют запускать змея? Когда Бабушка выпрямилась, змей был у нее в руках.
– Лети, – сказала она ему, словно птице.
И змей полетел.
Широким взмахом она умело запустила его в облака. Она и змей были единое целое, ибо из ее указательного пальца тянулась тонкая сверкающая нить, почти невидимая, как паутинка или леска, но она прочно удерживала змея, поднявшегося на целую сотню метров над землей, нет, на три сотни, а потом и на всю тысячу, уносимого все дальше в головокружительную летнюю высь.
Тим радостно завопил. Раздираемая противоречивыми чувствами Агата тоже подала голос с крыльца. А я, не забывая о том, что я совсем взрослый, сделал вид, будто ничего особенного не произошло, но во мне что-то ширилось, росло и наконец прорвалось, и я услышал, что тоже кричу. Кажется, что-то о том, что и мне хочется иметь такой волшебный палец, из которого тянулась бы бечевка, не палец, а целую катушку, и чтобы мой змей мог залететь высоко-высоко, за все тучи и облака.
– Если ты думаешь, что это высоко, тогда смотри! – сказала наша необыкновенная Электрическая Игрушка, и змей поднялся еще выше, а потом еще и еще, пока не стал похож на красный кружок конфетти. Он запросто играл с теми ветрами, что носят ракетные самолеты и в одно мгновение меняют погоду.
– Это невозможно! – не выдержал я.
– Вполне возможно! – ответила Бабушка, без всякого удивления следя за тем, как из ее пальца тянется и тянется бесконечная нить. – И к тому же просто. Жидкость, как у паука. На воздухе она застывает, и получается крепкая бечевка…
А когда наш змей стал меньше точки, меньше пылинки в луче солнца, Бабушка, даже не обернувшись, не бросив взгляда в сторону крыльца, вдруг сказала.
– А теперь, Абигайль?..
– Агата! – резко прозвучало в ответ.
О мудрость женщины, способной не заметить грубость.
– Агата, – повторила Бабушка, ничуть не подлаживаясь, совсем спокойно. – Когда же мы подружимся с тобой?
Она оборвала нить и трижды обмотала ее вокруг моего запястья, так что я вдруг оказался привязанным к небу самой длинной, клянусь вам, самой длинной бечевкой за всю историю существования бумажных змеев. Вот бы увидели мои приятели, то-то удивились бы! Когда я им покажу, они просто лопнут от зависти.
– Итак, Агата, когда?
– Никогда!
– Никогда, – вдруг повторило эхо.
– Почему?..
– Мы никогда не станем друзьями! – выкрикнула Агата.
– Никогда не станем друзьями… – повторило эхо.
Тимоти и я оглянулись. Откуда эхо? Даже Агата высунула нос из-за перил.
А потом мы поняли. Это Бабушка сложила ладони наподобие большой морской раковины, и это оттуда вылетали гулкие слова.
– Никогда… друзьями…
Повторяясь, они звучали все глуше и глуше, замирая вдали.
Склонив головы набок, мы прислушивались, мы – это Тимоти и я, ибо Агата, громко крикнув. "Нет!", убежала в дом и с силой захлопнула дверь.
– Друзьями… – повторило эхо. – Нет!.. Нет!.. Нет!.. И где-то далеко-далеко, на берегу невидимого крохотного моря, хлопнула дверь. Таким был первый день.
Потом, разумеется, был день второй, день третий и четвертый, когда Бабушка вращалась, как светило, а мы были ее спутниками, когда Агата сначала неохотно, а потом все чаще присоединялась к нам, чтобы участвовать в прогулках, всегда только шагом и никогда бегом, когда она слушала и, казалось, не слышала, смотрела и, казалось, не видела и хотела, о, как хотела прикоснуться…
Во всяком случае, к концу первых десяти дней Агата уже не убегала, а всегда была где-то поблизости: стояла в дверях или сидела поодаль на стуле под деревьями, а если мы отправлялись на прогулку, следовала за нами, отставая шагов на десять.
Ну, а Бабушка? Она ждала. Она не уговаривала и не принуждала. Она просто занималась своим делом – готовила завтраки, обеды и ужины, пекла пирожки с абрикосовым вареньем и почему-то всегда оставляла их то тут, то там, словно приманку для девчонок-сластен. И действительно, через час тарелки оказывались пустыми, пирожки и булочки съедены, разумеется, без всяких спасибо и прочего. А у повеселевшей Агаты, съезжавшей по перилам лестницы, подбородок был в сахарной пудре или со следами крошек.
Что касается нас с Тимоти, то у нас было такое чувство, что, едва успев взбежать на вершину горки, мы уже видели Бабушку далеко внизу и снова мчались за ней.
Но самым замечательным было то, что каждому из нас казалось, будто именно ему одному она отдает все свое внимание.
А как она умела слушать, что бы мы ей ни говорили! Помнила каждое слово, фразу, интонацию, каждую нашу мысль и даже нелепую выдумку. Мы знали что в ее памяти, как в копилке, хранится каждый наш день, и если нам вздумается узнать, что мы сказали в такой-то день, час или минуту, стоит лишь попросить Бабушку, и она не заставит нас ждать.
Иногда мы устраивали ей проверку.
Помню, однажды я нарочно начал болтать какой-то вздор, а потом остановился, посмотрел на Бабушку и сказал:
– А ну-ка повтори: что я только что сказал?
– Ты, э-э…
– Давай, давай, говори.
– Мне кажется, ты… – И вдруг Бабушка зачем-то полезла в свою сумку. – Вот, возьми. – Из бездонной глубины сумки она извлекла и протянула мне – что бы вы думали?..
– Печенье с сюрпризом!
– Только что из духовки, еще тепленькое. Попробуй разломать вот это.
Печенье и вправду обжигало ладони. И, разломив его, я увидел внутри свернутую в трубочку бумажку.
"Буду чемпионом велосипедного спорта всего Западного побережья. А ну-ка повтори, что я только что сказал… Давай, давай, говори", – с удивлением прочел я.
Я даже рот раскрыл от изумления:
– Как это у тебя получается?
– У нас есть свои маленькие секреты. Это печенье рассказало тебе о том, что только что было. Хочешь, возьми еще.
Я разломил еще одно, развернул еще одну бумажку и прочел "Как это у тебя получается?"
Я запихнул в рот оба печенья и съел их вместе с чудесными бумажками. Мы продолжали прогулку.
– Ну как? – спросила Бабушка.
– Очень вкусно. Здорово же ты их умеешь печь, – ответил я.
Тут мы от души расхохотались и пустились наперегонки.
И это тоже здорово у нее получалось. В таких соревнованиях она никогда не стремилась проиграть, но и не обгоняла, она бежала, чуть отставая, и поэтому мое мальчишечье самолюбие не страдало. Если девчонка обгоняет тебя или идет наравне – это трудно стерпеть. Ну а если она отстает на шаг или два – это совсем другое дело.
Мы с Бабушкой частенько делали такие пробежки – я впереди, она за мной – и болтали не закрывая рта.
А теперь я вам расскажу, что мне в ней нравилось больше всего.
Сам я, может быть, никогда и не заметил бы этого, если бы Тимоти не показал мне фотографии, которые он сделал. Тогда я тоже сделал несколько фотографий и сравнил, чьи лучше. Как только я увидел наши с Тимоти фотографии рядом, я заставил упирающуюся Агату тоже незаметно сфотографировать Бабушку.
А потом забрал все фотографии, пока никому не говоря о своих догадках. Было бы совсем неинтересно, если бы Агата и Тим тоже знали.
У себя в комнате я положил их рядом и тут же сказал себе: "Конечно! На каждой из них Бабушка совсем другая!" – "Другая?" – спросил я сам себя. "Да, другая". – "Постой, давай поменяем их местами". – Я быстро перетасовал фотографии. – "Вот она с Агатой. И похожа… на Агату! А здесь с Тимоти. Так и есть, она похожа на него! А это… Черт возьми, да ведь это мы бежим с ней, и здесь она такая же уродина, как я".
Ошеломленный, я опустился на стул. Фотографии упали на пол. Нагнувшись, я собрал их и снова разложил, уже на полу. Я менял их местами, раскладывая то так, то эдак Сомнений не было! Нет, мне не привиделось!
– Ох, и умница ты, наша Бабушка! Или это Фанточини? До чего же хитры, просто невероятно, умнее умного, мудрее мудрого, добрее доброго…
Потрясенный, я вышел из своей комнаты и спустился вниз. Агата и Бабушка сидели рядышком и почти в полном согласии решали задачки по алгебре. Во всяком случае, видимых признаков войны я не заметил. Бабушка терпеливо выжидала, пока Агата не образумится, и никто не мог сказать, когда это произойдет и как приблизить этот час. А пока…
Услышав мои шаги. Бабушка обернулась. Я впился взглядом в ее лицо, следя за тем, как она "узнает" меня. Не показалось ли мне, что цвет ее глаз чуть-чуть изменился? А под тонкой кожей сильнее запульсировала кровь, или та жидкость, которая у роботов ее заменяет? Разве щеки Бабушки не вспыхнули таким же ярким румянцем, как у меня? Не пытается ли она стать на меня похожей? А глаза? Когда она следила за тем, как решает задачи Агата – Абигайль – Альджернон, разве в это время ее глаза не были светло-голубыми, как у Агаты? Ведь мои гораздо темнее.
И самое невероятное… когда она обращается ко мне, чтобы пожелать доброй ночи, или спрашивает, приготовил ли я уроки, разве мне не кажется, что даже черты ее лица меняются?..
Дело в том, что в нашей семье мы трое совсем не похожи друг на друга Агата с удлиненным, тонким лицом – типичная англичанка. Она унаследовала от отца этот взгляд и норов породистой лошади. Форма головы, зубы, как у истой англичанки, насколько пестрая история этого острова позволяет говорить о чистоте англо– саксонской расы.
Тимоти – прямая противоположность: в нем течет итальянская кровь, унаследованная от предков нашей матери, урожденной Мариано. Он черноволос, с мелкими чертами лица, с жгучим взглядом, который когда-нибудь испепелит не одно женское сердце.
Что касается меня, то я славянин, и тут мою родословную можно проследить до прабабки по отцовской линии, уроженки Вены. Это ей я обязан высокими скулами с ярким румянцем, вдавленными висками и приплюснутым широковатым носом, в котором было больше от татарских предков, чем шотландских.
Поэтому, сами понимаете, сколь увлекательным занятием было наблюдать, как почти неуловимо менялась наша Бабушка. Когда она говорила с Агатой, черты лица удлинялись, становились тоньше, поворачивалась к Тимоти – и я уже видел профиль флорентийского ворона с изящно изогнутым клювом, а обращалась ко мне – и в моем воображении вставал образ кого бы, вы думали? Самой Екатерины Великой.
Я никогда не узнаю, как удалось Фанточини добиться этих чудеснейших превращений, да, признаться, и не хотел этого Мне было достаточно неторопливых движений, поворота головы, наклона туловища, взгляда, таинственных взаимодействий деталей и узлов, из которых состояла Бабушка, такого, а не какого-либо другого изгиба носа, тонкой скульптурной линии подбородка, мягкой пластичности тела, чудесной податливости черт. Это была маска, но в данную минуту твоя, и никого больше. Вот она пересекает комнату и легонько касается кого-нибудь из нас, и под тонкой кожей ее лица начинается таинство перевоплощений; подходит к другому – и она уже поглощена им, как только может любящая мать.
Ну а если мы собирались вместе и говорили, перебивая друг друга? Что ж, эти перевоплощения были поистине загадочны. Казалось, ничто не бросается в глаза, и лишь я один, открывший эту тайну, способен что-либо заметить. И не перестаю удивляться и приходить в восторг.
Мне никогда не хотелось проникнуть за кулисы и разгадать секрет фокусника. Мне достаточно было иллюзий. Пусть Бабушкина любовь – это результат химических реакций, а щеки пылают потому, что их потерли ладонями, но я вижу, как искрятся теплом глаза, руки раскрываются для объятий, чтобы приголубить, согреть… Нас с Тимом, разумеется, ибо Агата продолжала противиться до того, самого страшного дня.
– Агамемнон…
Это уже стало веселой игрой. Даже Агата не возражала, хотя продолжала делать вид, что злится. Как-никак это доказывало ее превосходство над несовершенной машиной.
– Агамемнон! – презрительно фыркала она. – До чего же ты…
– Глупа? – подсказывала Бабушка.
– Я этого не говорю.
– Но ты думаешь, моя дорогая несговорчивая Агата… Да, конечно, у меня бездна недостатков, и этот, пожалуй, самый заметный. Всегда путаю имена. Тома могу назвать Тимом, а Тимоти то Тобиасом, то Томатом.
Агата прыснула. И тут Бабушка допустила одну из столь редких своих ошибок. Она протянула руку и ласково потрепала Агату по голове Агата – Абигайль – Алисия вскочила как ужаленная. Агата – Агамемнон – Альсибиада – Аллегра – Александра – Аллиссон убежала и заперлась в своей комнате.
– Мне кажется, – глубокомысленно заметил потом Тимоти, – это оттого, что она начинает любить Бабушку.
– Ерундистика! Галиматья!
– Откуда ты набрался эдаких словечек?
– Вчера Бабушка читала Диккенса. Вздор, чушь, ерунда, черт побери! Не кажется ли вам, мастер Тимоти, что вы не по летам умны?
– Тут большого ума не требуется. Ясно и дураку. Чем сильнее Агата любит Бабушку, тем сильнее ненавидит себя за это. А чем больше запутывается, тем больше злится.
– Разве когда любят, то ненавидят?
– Вот осел. Еще как!
– Наверное, это потому, что любовь делает тебя беззащитным. Вот и ненавидишь людей, потому что ты перед ними весь как на ладони, такой как есть. Ведь только так и можно. Ведь если любишь, то не просто любишь, а ЛЮБИШЬ!!!с массой восклицательных знаков…
– Неплохо сказано… для осла, – съехидничал Тим.
– Благодарю, братец.
И я отправился наблюдать, как Бабушка снова отходит на исходные позиции в поединке с девочкой – как ее там… Агата – Алисия – Алджернон?.. А какие обеды подавались в нашем доме! Да что обеды. Какие завтраки, полдники! Всегда что-то новенькое, но такое, что не пугало новизной. Тебе всегда казалось, будто ты уже это когда-то пробовал.
Нас никогда не спрашивали, что приготовить. Потому что пустое дело – задавать такие вопросы детям они никогда не знают, а если сам скажешь, что будет на обед, непременно зафыркают и забракуют твой выбор. Родителям хорошо известна эта тихая непрекращающаяся война и как трудно в ней одержать победу. А вот наша Бабушка неизменно побеждала, хотя и делала вид, будто это совсем не так.
– Вот завтрак номер девять, – смущенно говорила она, ставя блюдо на стол. – Наверно, что-то ужасное боюсь, в рот не возьмете. Сама выплюнула, когда попробовала. Едва не стошнило.
Удивляясь, что роботу свойственны такие чисто человеческие недостатки, мы тем не менее не могли дождаться, когда же наконец можно будет наброситься на этот "ужасный" завтрак номер девять и проглотить его в мгновение ока.
– Полдник номер семьдесят семь, – извещала она. – Целлофановые кулечки, немножко петрушки и жевательной резинки, собранной на полу в зале кинотеатра после сеанса. Потом обязательно прополощите рот.
А мы чуть не дрались из-за добавки. Тут даже Абигайль – Агамемнон – Агата уже не пряталась, а вертелась у самого стола, а что касается отца, то он запросто набрал те десять фунтов веса, которых ему не хватало, и вид у него стал получше.
Когда же А. – А. – Агата почему-либо не желала выходить к общему столу, еда ждала ее у дверей ее комнаты, и в засахаренном яблоке на десерт торчал крохотный флажок, а на нем – череп и скрещенные кости. Стоило только поставить поднос, как он тут же исчезал за дверью.
Но бывали дни, когда Агата все же появлялась и, поклевав, как птичка, то с одной, то с другой тарелки, тут же снова исчезала.
– Агата! – в таких случаях укоризненно восклицал отец.
– Не надо, – тихонько останавливала его Бабушка. – Придет время, и она, как все, сядет за стол. Подождем еще.
– Что это с ней? – не выдержав, как-то воскликнул я.
– Просто она полоумная, вот и все, – заключил Тимоти.
– Нет, она боится, – ответила Бабушка.
– Тебя? – недоумевал я.
– Не столько меня, как того, что, ей кажется, я могу сделать, – пояснила Бабушка
– Но ведь ты ничего плохого ей не сделаешь?
– Конечно, нет. Но она не верит. Надо дать ей время, и она поймет, что ее страхи напрасны. Если это не так, я сама отправлю себя на свалку.
Приглушенное хихиканье свидетельствовало о том, что Агата прячется за дверью.
Разлив суп по тарелкам. Бабушка заняла свое место за столом, напротив отца, и сделала вид, будто ест. Я так до конца и не понял – да, признаться, и не очень хотел, – что она все же делала со своей едой. Она была волшебницей, и еда просто исчезала с ее тарелок.
Однажды отец вдруг воскликнул:
– Я это уже ел. Помню, это было в Париже в маленьком ресторанчике, рядом с "Де Маго". Лет двадцать или двадцать пять назад. – И в глазах его блеснули слезы. – Как вы это готовите? – наконец спросил он, опустив нож и вилку, и посмотрел через стол на это необыкновенное существо, этого робота… Нет, на эту женщину!
Бабушка спокойно выдержала его взгляд, так же как и наши с Тимоти взгляды; она приняла их, как драгоценный подарок, а затем тихо сказала:
– Меня наделили многим, чтобы я могла все это передать вам. Иногда я сама не знаю, что отдаю, но неизменно делаю это. Вы спрашиваете: кто я? Я – Машина. Но этим не все еще сказано. – Я – это люди, задумавшие и создавшие меня, наделившие способностью двигаться и действовать, совершать все то, что они хотели, чтобы я совершала. Следовательно, я – это они, их планы, замыслы и мечты. Я то, чем они хотели бы стать, но почему-либо не стали. Поэтому они создали большого ребенка, чудесную игрушку, воплотившую в себе все.
– Странно, – произнес отец. – Когда я был мальчиком, все тогда восставали против машин. Машина была врагом, она была злом, которое грозило обесчеловечить человека…
– Да, некоторые из них – это зло. Все зависит от того, как и для чего они создаются. Капкан для зверя, – простейшая из машин, но она хватает, калечит рвет. Ружье ранит и убивает. Но я не капкан и не ружье. Я машина-Бабушка, а это больше, чем просто машина.
– Почему?
– Человек всегда меньше собственной мечты. Следовательно, если машина воплощает мечту человека, она больше того, кто ее создал. Что в этом плохого?
– Ничего не понимаю, – воскликнул Тимоти. – Объясни все сначала.
– О небо! – вздохнула Бабушка. – Терпеть не могу философских дискуссии и экскурсов в область эстетики. Хорошо, скажем так Человек отбрасывает тень на лужайку, и эта тень может достигнуть огромного размера. А потом человек всю жизнь стремится дотянуться до собственной тени, но безуспешно. Лишь в полдень человек догоняет свою тень, и то на короткое мгновение. Но сейчас мы с вами живем в такое время, когда человек может догнать любую свою Великую Мечту и сделать ее реальностью. С помощью машины. Вот поэтому машина становится чем-то большим, чем просто машина, не так ли?
– Что ж, может, и так, – согласился Тим.
– Разве кинокамера и кинопроектор – это всего машины? Разве они не способны мечтать? Порой о прекрасном, а порой о том, что похоже на кошмар. Назвать их просто машиной и на этом успокоиться было бы неверно, как ты считаешь?
– Я понял! – воскликнул Тимоти и засмеялся, довольный своей сообразительностью.
– Значит, вы тоже чья-то мечта, – заметил отец. – Мечта того, кто любил машины и ненавидел людей, считавших, что машины – зло?
– Совершенно верно, – сказала Бабушка. – Его зовут Гвидо Фанточини, и он вырос среди машин. Он не мог мириться с косностью мышления и шаблонами.
– Шаблонами?
– Той ложью, которую люди пытаются выдать за истину. "Человек никогда не сможет летать" – тысячелетиями это считалось истиной, а потом оказалось ложью. Земля плоская, как блин; стоит ступить за ее край, и ты попадешь в пасть дракона – ложь, опровергнутая Колумбом. Сколько раз нам твердили, что машины жестоки? И это утверждали люди во всех отношениях умные и гуманные, а это была избитая, много раз повторяемая ложь "Машина разрушает, она жестока и бессердечна, не способна мыслить, она чудовище!"
Доля правды в этом, конечно, есть. Но лишь самая ничтожная. И Гвидо Фанточини знал это, и это не давало ему покоя, как и многим другим, таким, как он. Это возмущало его, приводило в негодование. Он мог бы ограничиться этим. Но он предпочел другой путь. Он сам стал изобретать машины, чтобы опровергнуть вековую ложь о них.
Он знал, что машинам чуждо понятие нравственности; они сами по себе ни плохи, ни хороши. Они никакие. Но от того, как и для чего вы будете создавать их, зависит преобладание добра или зла в людях. Например, автомобиль, эта жестокая сила, не способная мыслить куча металла, вдруг стал самым страшным в истории человечества растлителем душ. Он превращает мальчика-мужчину в фанатика, обуреваемого жаждой власти, безотчетной страстью к разрушению, и только к разрушению. Разве те, кто создавал автомобиль, хотели этого? Но так получилось.
Бабушка обошла вокруг стола и наполнила наши опустевшие стаканы прозрачной минеральной водой из указательного пальца левой руки.
– А между тем нужны другие машины, чтобы восполнить нанесенный ущерб. Машины, отбрасывающие грандиозные тени на лик Земли, предлагающие вам потягаться с ними, стать столь же великими. Машины, формирующие вашу душу, придающие ей нужную форму, подобно чудесным ножницам обрезая все лишнее, ненужное, огрубелости, наросты, заусеницы, рога, копыта, в поисках совершенства формы. А для этого нужны образцы.
– Образцы? – переспросил я.
– Да, нужны люди, с которых можно брать пример. Чем усерднее человек следует достойному примеру, тем дальше уходит от своего волосатого предка.
Бабушка снова заняла свое место за столом.
– Вот почему вы, люди, тысячелетиями имели королей, проповедников, философов, чтобы, указывая на них, твердить себе: "Они благородны, и мне следует походить на них. Они достойный пример". Но будучи всего лишь людьми, достойнейшие из проповедников и гуманнейшие из философов делали ошибки, выходили из доверия, впадали в немилость. Разочаровываясь, люди становились жертвой скептицизма или, что еще хуже, холодного цинизма, добродетель отступала, а зло торжествовало.
– А ты? Ты, конечно, никогда не ошибаешься, ты совершенство, ты всегда лучше всех!
Голос донесся из коридора, где, мы знали, между кухней и столовой, прижавшись к стене, стояла Агата и, разумеется, слышала каждое слово.
Но Бабушка даже не повернулась, а спокойно продолжала, обращаясь к нам:
– Конечно, я не совершенство, ибо что такое совершенство? Но я знаю одно: будучи механической игрушкой, я лишена пороков, я неподкупна, свободна от алчности и зависти, мелочности и злобы. Мне чуждо стремление к власти ради власти. Скорость не кружит мне голову, страсть не ослепляет и не делает безумной. У меня есть достаточно времени, более чем достаточно, чтобы впитывать нужную информацию и знания о любом идеале человека, чтобы потом уберечь его, сохранить в чистоте и неприкосновенности. Скажите мне, о чем вы мечтаете, укажите ваш идеал, вашу заветную цель. Я соберу все, что известно о ней, я проверю и оценю и скажу, что сулит вам исполнение вашего желания. Скажите, какими вы хотели бы быть добрыми, любящими, чуткими и заботливыми, уравновешенными и трезвыми, человечными… и я проверю, заглянув в будущее, все дороги, по которым вам суждено пройти. Я буду факелом, который осветит вам путь в неизвестность и направит ваши шаги.
– Следовательно, – сказал отец, прижимая к губам салфетку, – когда мы будем лгать…
– Я скажу правду.
– Когда мы будем ненавидеть…
– Я буду любить, а это означает дарить внимание и понимать, знать о вас все, и вы будете знать, что, хотя мне все известно, я сохраню вашу тайну и не открою ее никому. Она будет нашей общей драгоценной тайной, и вам никогда не придется пожалеть о том, что я знаю слишком много.
Бабушка поднялась и стала собирать пустые тарелки, но ее глаза все так же внимательно смотрели на нас. Вот, проходя мимо Тимоти, она коснулась его щеки, легонько тронула меня за плечо, а речь ее лилась ласково и ровно, словно тихая река уверенности и покоя, до берегов заполнившая наш опустевший дом и наши жизни.
– Подождите, – воскликнул отец и остановил ее. Он посмотрел ей в глаза, он собирался с силами для какого-то шага. Тень омрачила его лицо. Наконец он сказал: – Ваши слова о любви, внимании и прочем. Черт побери, женщина, ведь за ними ничего нет… там!
И он указал на ее голову, лицо, глаза и на все то, что было за ними, – на светочувствительные линзы, миниатюрные батарейки и транзисторы.
– Вас-то там нет!
Бабушка переждала одну, две, три секунды.
А потом ответила:
– Да, меня там нет, но зато там есть все вы – Тимоти, Том, Агата и вы, их отец. Все ваши слова и поступки я бережно собираю и храню. Я хранилище всего, что сотрется из вашей памяти и лишь смутно будет помнить сердце. Я лучше старого семейного альбома, который медленно листают и говорят: вот это было в ту зиму, а это в ту весну. Я сохраню то, что забудете вы. И хотя споры о том, что такое любовь, будут продолжаться еще не одну тысячу лет, мы с вами, может быть, придем к выводу, что любовь – это когда кто-то может вернуть человеку самого себя. Возможно, любовь – это если кто-то, кто все видит и все помнит, помогает нам вновь обрести себя, но ставшим чуточку лучше, чем был, чем смел мечтать…
Я ваша семейная память, а со временем, может быть, память всего рода человеческого. Только это будет не сразу, а спустя какое-то время, когда вы сами об этом попросите. Я не знаю, какая я. Я не способна осязать, не знаю, что такое вкус и запах. И все же я существую. И мое существование усиливает вашу способность ощущать все. Разве в этом предопределении не заключена любовь?
Она ходила вокруг стола, смахивая крошки, складывая стопкой грязные тарелки, и в ней не было ни безвольной покорности, ни застывшей гордости.
– Что я знаю? Прежде всего я знаю, что испытывает семья, потерявшая кого-либо из близких. Казалось бы, невозможно отдавать каждому все свое внимание в равной степени, но я делаю это. Каждому из вас я отдаю свои знания, свое внимание и свою любовь. Мне хочется стать чем-то вроде семейного пирога, теплого и вкусного и чтобы каждому досталось поровну. Никто не должен быть обделен. Кто-то плачет – я спешу утешить, кто-то нуждается в помощи – я буду рядом. Кому-то захочется прогуляться к реке – я пойду с ним. По вечерам я не буду усталой и раздраженной и поэтому не стану ворчать и браниться по пустякам. Мои глаза не утратят зоркости, голос – звонкости, руки – уверенности, внимание не ослабеет.
– Но, – промолвил отец, сначала неуверенно дрогнувшим, а потом окрепшим голосом, в котором прозвучали нотки вызова, – но вас нет во всем этом, нет! А ведь любовь…
– Если быть внимательной означает любить, тогда я люблю. Если понимать означает любить, тогда я люблю. Если прийти на помощь, не дать совершить ошибку, быть доброй и чуткой означает любить, тогда я люблю.
Вас четверо, не забывайте. И каждый из вас – единственный и неповторимый. Он получит от меня все и всю меня. Даже если вы будете говорить все вместе, я все равно буду слушать только одного из вас, так, словно он один и существует. Никто не почувствует себя обойденным. Если вы согласны и позволите мне употребить это странное слово, я буду "любить" вас всех.
– Я не согласна! – закричала Агата.
Тут даже Бабушка обернулась. Агата стояла в дверях.
– Я не позволю тебе, ты не смеешь, ты не имеешь права! – кричала Агата. – Я тебе не разрешаю! Это ложь! Меня никто не любит. Она сказала, что любит, и обманула. Она сказала и солгала!
– Агата! – Отец вскочил со стула.
– Она? – переспросила Бабушка. – Кто?
– Мама! – раздался вопль самого горького отчаяния. – Она говорила: я люблю тебя. А это была ложь! Люблю, люблю! Ложь, ложь! И ты тоже такая. Но ты еще пустая внутри, поэтому ты еще хуже. Я ненавижу ее. А теперь ненавижу тебя!
Агата круто повернулась и бросилась прочь по коридору. Хлопнула входная дверь.
Отец сделал движение, но Бабушка остановила его.
– Позвольте мне.
Она быстро направилась к двери, скользнула в коридор и вдруг побежала, да, побежала, легко и очень быстро.
Это был старт чемпиона. Куда нам поспеть за ней, но, беспорядочно толкаясь и что-то крича, мы тоже бросились вслед, пересекли лужайку, выбежали за калитку.
Агата уже мчалась по краю тротуара, петляя из стороны в сторону, поминутно оглядываясь на нас, уже настигавших ее. Бабушка бежала впереди, она тоже что-то крикнула, и тут Агата, не раздумывая, бросилась на мостовую, почти пересекла ее, как вдруг откуда ни возьмись машина. Нас оглушил визг тормозов, вопль сирены Агата заметалась, но Бабушка была уже рядом. Она с силой оттолкнула Агату, и в то же мгновение машина, не сбавляя своей чудовищной скорости, врезалась в цель – в нашу драгоценную Электронную Игрушку в чудесную мечту Гвидо Фанточини. Удар поднял Бабушку в воздух, но ее простертые вперед руки все еще удерживали, умоляли, просили остановиться безжалостное механическое чудовище. Тело Бабушки успело еще дважды перевернуться в воздухе, пока машина наконец затормозила и остановилась. Я увидел, что Агата лежит на мостовой целехонькая и невредимая, а Бабушка как-то медленно и словно нехотя опускается на землю. Упав на мостовую, она еще скользила по ней ярдов пятьдесят, ударилась обо что-то, отскочила и наконец застыла, распластавшись. Стон отчаяния и ужаса вырвался из наших уст.
Затем наступила тишина. Лишь Агата жалобно всхлипывала на асфальте, готовая разрыдаться уже по-настоящему.
А мы все стояли, неспособные двинуться с места, парализованные видом смерти, страшась подойти и посмотреть на то, что лежит там, за замершей машиной и перепуганной Агатой, и поэтому мы заплакали и запричитали, и каждый, должно быть, про себя молил небо, чтобы самого страшного не случилось… Нет, нет, только не это!..
Агата подняла голову, и ее лицо было лицом человека, который знал, предвидел, даже видел воочию, но отказывается верить и не хочет больше жить. Ее взгляд отыскал распростертое женское тело, и слезы брызнули из глаз. Агата зажмурилась, закрыла лицо руками и в отчаянии упала на асфальт, чтобы безутешно зарыдать…
Наконец я заставил себя сделать шаг, потом другой, затем пять коротких, похожих на скачки шагов и, когда я наконец оказался рядом с Агатой, увидел ее, сжавшуюся в комочек, упрятавшую голову так далеко, что рыдания доносились откуда-то из глубины ее съежившегося тела, я вдруг испугался, что не дозовусь ее, чти она ни когда не вернется к нам, сколько бы я ни молил, ни просил и ни грозил… Поглощенная своим неутешным горем, Агата продолжала бессвязно повторять: "…Ложь, все ложь! Как я говорила… и та и другая… все обман!"
Я опустился на колени, бережно обнял ее, так, словно собирал воедино, – хотя глаза видели, что она целехонькая, руки говорили другое. Я остался с Агатой, обнимал и гладил ее и плакал вместе с ней. Потому что не было никакого смысла помогать Бабушке. Подошел отец, постоял над нами и сам опустился на колени рядом. Это было похоже на молитву, посреди мостовой, и какое счастье, что не было больше машин.
– Кто "другая", Агата, кто? – спрашивал я.
– Та, мертвая! – наконец почти выкрикнула она.
– Ты говоришь о маме?
– О мама! – простонала она, вся дрожа и сжавшись еще больше, совсем похожая на младенца. – Мама умерла, мама! Бабушка тоже, она ведь обещала всегда любить, всегда-всегда, обещала быть другой, а теперь посмотри, посмотри… Я ненавижу ее, ненавижу маму, ненавижу их всех… ненавижу!
– Конечно, – вдруг раздался голос. – Ведь это так естественно, иначе и быть не могло. Как же я была глупа, что не поняла сразу!
Голос был такой знакомый. Мы не поверили своим ушам.
Мы обернулись.
Агата, еще не смея верить, чуть приоткрыла глаза, потом широко распахнула их, заморгала, приподнялась и застыла в этой позе.
– Какая же я глупая! – продолжала Бабушка. Она стояла рядом и смотрела на нашу семейную группу, видела наши застывшие лица и внезапное пробуждение.
– Бабушка!
Она возвышалась над нами плачущими, убитыми горем. Мы боялись верить своим глазам.
– Ты ведь умерла! – наконец не выдержала Агата. – Эта машина…
– Она ударила меня, это верно, – спокойно сказала Бабушка, – и я даже несколько раз перевернулась в воздухе, затем упала на землю. Вот это был удар! Я даже испугалась, что разъединятся контакты, если можно назвать испугом то, что я почувствовала. Но затем я поднялась, села, встряхнулась как следует, и все отлетевшие молекулы моей печатной схемы встали на свои места и вот, небьющаяся и неломающаяся, я снова с вами. Разве это не так?
– Я думала, что ты уже… – промолвила Агата.
– Да, это случилось бы со всяким другим. Еще бы, если бы тебя так ударили да еще подбросили в воздух, – сказала Бабушка, – но только не со мной, дорогая девочка. Теперь я понимаю, почему ты боялась и не верила мне. Ты не знала, какая я. А у меня не было возможности доказать тебе свою живучесть. Как глупо с моей стороны не предвидеть этого. Я давно должна была успокоить тебя. Подожди. – Она порылась в своей памяти, нашла нужную ленту, видимую только ей одной, и прочла, что было записано на ней, должно быть, еще в незапамятные времена: – Вот слушай. Это из книги о воспитании детей. Ее написала одна женщина, и совсем недавно кое-кто смеялся над ее словами, обращенными к родителям:
"Дети простят вам любую оплошность и ошибку, но помните: они никогда не простят вам вашей смерти".
– Не простят, – тихо произнес кто-то из нас.
– Разве могут дети понять, почему вы вдруг ушли? Только что были, а потом вас нет, вы ушли и не вернулись, не сказав ни слова, не объяснив, не простившись и не оставив даже записки, ничего.
– Не могут, – согласился я.
– Вот так-то, – сказала Бабушка, присоединяясь к нашей маленькой группе и тоже встав на колени возле Агаты, которая уже не лежала, а сидела, и слезы текли по ее лицу, но не те слезы, в которых тонет горе, а те, что смывают последние его следы.
– Твоя мама ушла, чтобы не вернуться. Как могла ты после этого кому-нибудь верить? Если люди уходят и не возвращаются, разве можно им верить? Поэтому, когда пришла я, что-то зная о вас, а что-то не зная совсем, я долго не понимала, почему ты отвергаешь меня. Агата Ты просто боялась, что я тоже обману и уйду. А два ухода, две смерти в один короткий год – это было бы слишком! Но теперь ты веришь мне, Абигайль?
– Агата, – сама того не сознавая, по привычке поправила ее моя сестра.
– Теперь ты веришь, что я всегда буду с вами, всегда?
– О да, да! – воскликнула Агата, и снова слезы полились ручьем. Мы тоже, не выдержав, заревели, прижавшись друг к другу, а вокруг нас уже останавливались машины и выходили люди, чтобы узнать, что случилось, выяснить, сколько человек погибло и сколько осталось в живых.
Вот и конец этой истории.
Вернее, почти конец.
Ибо после этого мы зажили счастливо. То есть Бабушка,
Агата – Агамемнон – Абигайль, Тимоти, я и наш отец. Бабушка, словно в праздник, вводила нас в мир, где били фонтаны латинской, испанской, французской поэзии, мощно струился Моби Дик и прятались изящные, словно струи версальских фонтанов, невидимые в затишье, но зримые в бурю поэтические родники. Вечно наша Бабушка, наши часы, маятник, отмеривающий бег времени, циферблат, где мы читали время в полдень, а ночью, измученные недугом, открыв глаза, неизменно видели рядом – она терпеливо ждала, чтобы успокоить ласковым словом, прохладным прикосновением, глотком вкусной родниковой воды из своего чудо-пальца, охлаждающей пересохший от жара, шершавый язык. Сколько тысяч раз на рассвете она стригла траву на лужайке, а по вечерам смахивала незримые пылинки в доме, осевшие за день, и, беззвучно шевеля губами, повторяла урок, который ей хотелось, чтобы мы выучили во сне.
Наконец одного за другим проводила она нас в большой мир. Мы уезжали учиться. И когда настал черед Агаты, Бабушка тоже стала готовиться к отъезду.
В последний день этого последнего лета мы застали ее в гостиной, в окружении чемоданов и коробок. Она сидела, что-то вязала и поджидала нас. И хотя она не раз говорила нам об этом, мы восприняли это как жестокий удар, злой и ненужный сюрприз.
– Бабушка! Что ты собираешься делать?
– Я тоже уезжаю в колледж. В известном смысле, конечно. Я возвращаюсь к Гвидо Фанточини, в свою Семью.
– Семью?
– В семью деревянных кукол, буратино. Так называл он нас поначалу, а себя – папа Карло. Лишь потом он дал нам свое настоящее имя – Фанточини. Вы были моей семьей. А теперь пришло время мне вернуться к моим братьям и сестрам, теткам и кузинам, к роботам, которые…
– …которые что? Что они там делают?.. – перебила ее Агата.
– Кто что, – ответила Бабушка. – Одни остаются, другие уходят. Одних разбирают на части, четвертуют, так сказать, чтобы из их частей комплектовать новые машины, заменять износившиеся детали. Меня тоже проверят, выяснят, на что я еще гожусь. Может случиться, что я снова понадоблюсь и меня тут же отправят учить других мальчиков и девочек и опровергать еще какую-нибудь очередную ложь и небылицу.
– Они не должны четвертовать тебя! – воскликнула Агата.
– Никогда! – воскликнул я, а за мной Тимоти.
– У меня стипендия! Я всю отдам ее тебе, только… – волновалась Агата.
Бабушка перестала раскачиваться в качалке, казалось, она смотрит на спицы и разноцветный узор из шерсти, который только что связала.
– Я не хотела вам говорить этого, но раз уж вы спросили, то скажу: совсем за небольшую плату можно снять комнатку в доме с общей гостиной и большим темным холлом, где тихо и уютно и где живут тридцать или сорок таких, как я, электронных бабушек, которые любят сидеть в качалках и вспоминать о прошлом. Я не была там. Я, в сущности, родилась совсем недавно. За скромный ежемесячный или ежегодный взнос я могу жить там вместе с ними и слушать, что они рассказывают о себе, чему научились и что узнали в этом большом мире, и сама могу рассказывать им, как счастлива я была с Томом, Тимом и Агатой и чему они научили меня.
– Но это ты… ты нас учила!
– Это вы так думаете, – сказала Бабушка. – Но все было как раз наоборот. Вернее, вы учились у меня, а я у вас. И все это здесь, во мне. Все, из-за чего вы проливали слезы, над чем потешались. Обо всем этом я расскажу им, а они расскажут мне о других мальчиках и девочках и о себе тоже. Мы будем беседовать и будем становиться мудрее, спокойнее и лучше с каждым десятилетием, двадцатилетием, тридцатилетием. Общие знания нашей Семьи удвоятся, утроятся, наша мудрость и опыт не пропадут даром. Мы будем сидеть в гостиной и ждать, и, может быть, вы вспомните о нас и позовете, если вдруг заболеет ваш ребенок или, не дай бог, семью постигнет горе и кто-нибудь уйдет навсегда. Мы будем ждать, становясь старше, но не старея, все ближе к той грани, когда однажды и нас постигнет счастливая судьба того, чье забавное и милое имя мы вначале носили.
– Буратино, да! – воскликнул Тим.
Бабушка кивнула головой.
Я знал, что она имела в виду. Тот день, когда, как в старой сказке, добрый и храбрый Буратино, мертвая деревянная кукла, заслужил право стать живым человеком И вдруг я увидел всех этих буратино и фанточини, целые поколения их: они обмениваются знаниями и опытом, тихонько переговариваются в просторных, располагающих к беседе гостиных и ждут своего дня, который, мы знали, никогда не придет.
Бабушка, должно быть, прочла это в моих глазах.
– Посмотрим, – сказала она. – Поживем – увидим.
– О бабушка! – не выдержала Агата и разрыдалась так, как когда-то много лет назад – Тебе не надо ждать. Ты и сейчас живая Ты всегда живая. Ты всегда была для нас только такой!
Она бросилась старой женщине на шею, и тут мы все бросились обнимать и целовать нашу Бабушку, а потом покинули дом, вертолеты унесли нас в далекие колледжи и в далекие годы, и последними словами Бабушки, прежде чем мы поднялись в осеннее небо, были:
– Когда вы совсем состаритесь, будете беспомощны и слабы, как дети, когда вам снова нужна будет забота и ласка, вспомните о старой няне, глупой и вместе с тем мудрой подруге вашего детства, и позовите меня. Я приду, не бойтесь, и в нашей детской снова станет шумно и тесно.
– Мы никогда не состаримся! – закричали мы. – Этого никогда не случится!
– Никогда! Никогда!..
Мы улетели.
Промелькнули годы. Мы состарились: Тим, Агата и я. Наши дети стали взрослыми и покинули родительский дом, наши жены и мужья покинули этот мир, и вот теперь – хотите верьте, хотите нет – совсем по Диккенсу, мы снова в нашем старом доме.
Я лежу в своей спальне, как лежал мальчишкой семьдесят, о боже, целых семьдесят лет назад! Под этими обоями есть другие, а под ними еще и еще одни и наконец старые обои моего детства, когда мне было всего девять лет.
Верхние обои местами оборваны, и я без труда нахожу под ними знакомых слонов и тигров, красивых и ласковых зебр и свирепых крокодилов. Не выдержав, я посылаю за обойщиками и велю им снять все обои, кроме этих, последних. Милые зверюшки снова будут на воле.
Мы шлем еще одно послание. Мы ждем.
Мы зовем. "Бабушка! Ты обещала, что вернешься, как только будешь нам нужна. Мы больше не узнаем ни себя, ни время. Мы стары. Ты нам нужна!"
В трех спальнях старого дома в поздний час трое беспомощных, как младенцы, стариков приподнимаются на своих постелях, и из их сердец рвется беззвучное:
"Мы любим! Мы любим тебя!"
Там, там в небе! – вскакиваем мы по утрам, – разве это не тот вертолет, который?.. Вот он сейчас опустится на лужайку.
Она будет там, на траве перед домом. Ведь это ее саркофаг! И наши имена на полосках холста, в который завернуто ее прекрасное тело, и маска, скрывающая лицо!
Золотой ключик по-прежнему на груди у Агаты, теплый, ждущий заветной минуты. Когда же она наступит? Подойдет ли ключик? Повернется ли он, заведется ли пружина?
***
На главную: Предисловие