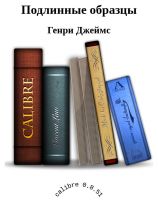Рэй Брэдбери
Душка Адольф
Они ждали, чтобы он вышел. Он сидел в маленьком баварском кафе с видом на горы, попивая пиво, и находился он там с полудня, а уже половина третьего, обед затянулся, выпито много пива, и по тому, как он держал голову, как смеялся и как поднимал очередную глиняную кружку с шапкой пены, пузыри которой лопались на легком весеннем ветерке, было видно, что настроение у него великолепное, и двое, сидевшие с ним за одним столиком, старались от него не отставать, но все равно были далеко позади.
Время от времени ветер доносил их голоса, и тогда кучка людей, дожидавшаяся его на автомобильной стоянке около кафе, подавалась вперед, пытаясь расслышать лучше. Что он сказал? А теперь что?
– Сказал, что дело подвигается.
– Какое, где?!
– Дурак! Фильм, съемка подвигается – а ты думал что?
– Это режиссер с ним сидит?
– Да. А другой, хмурый – продюсер.
– Не похож на продюсера.
– И неудивительно! Он сделал себе пластическую операцию носа.
– А вот тот совсем как настоящий, правда?
– До последнего волоска.
И опять подавались вперед, чтобы рассмотреть получше троих за столиком, продюсера, не похожего на продюсера, застенчивого режиссера, который, поглядывая на столпившихся около кафе, вжимал голову в плечи и закрывал глаза, и человека между ними в военной форме со свастикой на рукаве, чья высокая фуражка лежала на столе, рядом с едой, почти не тронутой потому, что человек этот говорил – произносил речь.
– Фюрер, настоящий!
– Боже мой, кажется, будто это было только вчера! Трудно поверить, что сейчас тысяча девятьсот семьдесят третий год.
Вдруг снова тридцать четвертый, когда я впервые его увидел.
– Где?
– На митинге в Нюрнберге, на стадионе, когда была осень, да, мне исполнилось тринадцать, и я, член "Гитлер-югенд", стоял среди ста тысяч солдат и юношей на этом огромном поле вечером, еще до того, как зажгли факелы. Столько оркестров, столько флагов, столько восторженно стучащих сердец, да, поверьте мне, я слышал, как сто тысяч сердец поют в унисон, мы все были влюблены в него, он спустился с облаков. Его послали к нам боги, мы это знали, пора ожидания кончилась, отныне мы могли действовать, с ним мы могли все.
– Интересно, как чувствует себя, играя его, этот актер?
– Т-сс, он тебя слышит. Смотри, машет рукой! Помаши в ответ.
– Помолчи, – сказал кто-то.- Они опять разговаривают. Я хочу послушать.
Все замолчали. И мужчины и женщины подались вперед, наклонились в ласковый весенний ветер, докосивший голоса из кафе.
У юной официантки, подававшей пиво, раскраснелись щеки, горели глаза.
– Еще пива! – сказал человек с усиками, как зубные щетки, и волосами, зачесанными на левую сторону лба.
– Спасибо, нет, – сказал режиссер.
– Нет-нет, – отказался продюсер.
– Еще пива! День замечательный, – не отступался Адольф. Тост за фильм, за нас, за меня. Пьем!
Те двое взялись за свои кружки.
– За фильм, – сказал продюсер.
– За душку Адольфа.- Эти слова режиссера прозвучали бесстрастно.
Человек в военной форме замер.
– Я не смотрю на себя…-.он запнулся, – на него как на душку.
– Он-таки был душка, самый настоящий, а ты просто прелесть.- Режиссер залпом выпил пиво.- Ничего, если я напьюсь?
– Напиваться допьяна воспрещается, – сказал фюрер.
– Где об этом сказано в сценарии?
Продюсер незаметно толкнул режиссера под столом ногой.
– Как, по-твоему, сколько еще недель нам снимать? – спросил продюсер очень вежливо.
– По-моему, мы закончим фильм, – ответил, делая огромные глотки, режиссер, – смертью Гинденбурга или дирижаблем
"Гинденбург", как он вспыхивает и падает в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси – что раньше, тем пусть и кончится.
Адольф Гитлер наклонился к тарелке и начал быстро и жадно есть мясо с картофелем.
Продюсер тяжело вздохнул. Режиссер решил успокоить страсти.
– А после этого, еще через три недели, шедевр будет уже в железной коробке, и мы поплывем домой на "Титанике", столкнемся с критиками и, дружно распевая "Дойчланд юбер аллее", пойдем ко дну.
Неожиданно все трое набросились на еду и теперь поглощали ее, кусали и пережевывали, и по-прежнему ласково дул весенний ветерок, а снаружи стояли и ждали люди.
Наконец фюрер перестал есть, глотнул еще пива и, прикоснувшись мизинцем к усикам, откинулся в кресле.
– В такой день ничто не выведет меня из себя. То, что отсняли вчера, просто превосходно. А какие актеры подобраны для этого фильма! Геринг неподражаем. Геббельс? Само совершенство! -Полоса солнечного света сдвинулась с его лица. Итак… Итак, вчера вечером я думал: вот я в Баварии, я, чистокровный ариец…
Его спутников передернуло, но они ждали, что он скажет дальше. -…и делаю фильм, – тихо посмеиваясь, продолжал
Гитлер, – вместе с евреем из Нью-Йорка и евреем из Голливуда.
Как забавно!
– Меня не забавляет, – отозвался режиссер. Казалось, что он думает совсем о другом.
Во взгляде, который бросил на него продюсер, можно было прочитать: "Осторожнее, фильм еще не закончен".
– И я подумал: а ведь неплохо было бы…- фюрер замолчал, чтобы глотнуть побольше, -…провести еще один… э-э… митинг в Нюрнберге.
– То есть… для фильма, конечно?
Режиссер смотрел на Гитлера во все глаза. Гитлер разглядывал пену в своей кружке.
– О боже, – сказал продюсер, – знаете ли вы, во сколько бы обошлось воспроизвести этот митинг? Сколько стоил Гитлеру настоящий, Марк?
Он моргнул режиссеру, и тот ответил:
– Кучу денег. Но у него было очень много, бесплатных статистов.
– Еще бы! Адмия, "Гитлер-югенд".
– Да, все это так, – сказал Гитлер.- Но зато какая будет реклама, на весь мир! Может, поедем все-таки в Нюрнберг… э-э… и снимем мой самолет… э-э… как я спускаюсь с неба?
Я слышал, как люди, вон те, только что говорили: Нюрнберг, самолет, факелы. Они помнят. Я тоже помню. Я тоже стоял и держал факел на том стадионе. Боже, это было прекрасно. И как раз теперь мне столько же лет, сколько было Гитлеру в дни его высших достижений.
– А никаких достижений у него никогда и не было, – сказал режиссер.- Если не считать достижением то, что он сдох.
Гитлер поставил кружку -на стол. Его щеки зарделись.
Потом искусственной улыбкой он растянул губы и изменил себе цвет лица.
– Это шутка, конечно?
– Шутка, – сказал продюсер голосом чревовещателя.
– Я сейчас думал, – заговорил Гитлер, снова обратив взгляд к облакам, будто видя все заново, снова в другом, давно прошедшем году.- Могли бы снять в следующем месяце, если погода позволит. Вообразите себе, сколько туристов приедет посмотреть съемки!
– Угу. Может, даже Борман приедет из Аргентины. Продюсер опять пронзил режиссера взглядом, теперь рассерженным.
Гитлер откашлялся и неохотно, явно делая над собой усилие, продолжал:
– Что до расходов, то дайте одно небольшое объявление, обратите внимание, одно, в нюрнбергских газетах за неделю до начала съемок, и к вам явится целая армия людей, готовых быть статистами за пятьдесят центов в день, нет, за двадцать пять, нет, бесплатно!
Фюрер залпом опорожнил кружку, заказал другую. Официантка бросилась наливать. Гитлер пристально посмотрел на режиссера и продюсера.
– А знаешь, – сказал режиссер, выпрямляясь, подавшись вперед, между тем как глаза его зажглись недобрым огнем, а зубы обнажились, – есть в тебе какая-то идиотская грация, людоедское остроумие, ублюдочное изящество. И все время из тебя капает какая-нибудь сенсационная слизь, блестит и воняет на солнце – нет, Арчи, черт тебя побери, ты только его послушай! Фюрер только что великолепно справил большую нужду.
Скорее астрологов! Вспарывайте голубей, вытаскивайте кишки!
Читайте списки, за каким актером какая роль! – Режиссер вскочил на ноги и заходил взад-вперед.- Одно-единственное объявление в газете, и крышки всех кофров в Нюрнберге откинуты! Толстые животы – в старой военной форме! На дряблых руках – старые нарукавные повязки! На тупых башках – старые фуражки не то с орлом, не то с черепом!
– Чтобы я сидел и слушал!..- закричал Гитлер. Он попытался вскочить на ноги, но продюсер удержал его за локоть, а режиссер, наставив на его сердце, как нож, свой указательный палец, больно им ткнул:
– Сядь.
Лицо режиссера маячило в воздухе перед самым носом
Гитлера, всего в двух дюймах от него. Гитлер медленно опустился на стул, на щеках у него проступили капли пота.
– Бог мой, да ты и в самом деле гений. Господи, да ведь соотечественники и в самом деле придут. Не молодые, нет, а те, что в возрасте. Бывшая "Гитлер-югенд", те, кому теперь столько, сколько тебе, и старше, все эти одряхлевшие мешки с дерьмом будут вопить "зиг хайль", выбрасывать руку в нацистском приветствии, жечь в сумерки факелы, маршировать, заливаясь слезами, по стадиону.- Режиссер резко повернулся к продюсеру.- Я тебе говорил, Арч: мозги у этого вот Гитлера куриные, но на этот раз он сообразил хорошо! Если мы не впихиваем в картину митинг в Нюрнберге, я из картины ухожу.
Говорю это совершенно серьезно. Встану и уйду, и пусть тогда он, Адольф, берет все в свои руки и сам режиссирует всю эту проклятую затею! Мое выступление закончено.
Он сел.
Продюсер и фюрер были, похоже, в состоянии шока.
– Закажи мне еще одно чертово пиво, – сказал, словно выстрелил, режиссер.
С храпом Гитлер втянул в себя воздух, швырнул на стол нож и вилку и резко отодвинул назад стул.
– Я не стану есть с таким, как вы!
– Что-о, сукин сын, собачонка подхалимствующая? – сказал режиссер.- Я буду держать пойло, а ты будешь лизать. На.
Режиссер схватил кружку с пивом и сунул под нос фюреру.
Люди снаружи приглушенно вскрикнули, и их качнуло, как волной, вперед. Гитлер закатил глаза, потому что режиссер схватил его за отвороты мундира и пригнул к кружке.
– Лижи! Лакай немецкую гадость! Пей, ты, подонок!
– Мальчики, мальчики, – сказал продюсер.
– Мальчики, как же! Знаешь, Арчибальд, о чем думает все это время, сидя здесь и попивая твое пиво, эта труба для нечистот, этот нацистский ночной горшок? Сегодня Европа, завтра
– весь мир!
– Не надо, не надо, Марк!
– Не надо, не надо, – сказал Гитлер, не отрывая глаз от руки, сжимающей ткань его мундира.- Пуговицы, пуговицы…
– … болтаются и на мундире и у тебя в голове, червяк
Арч, посмотри, как из него льет! Посмотри, как из его лба вытапливается жир, посмотри на его вонючие подмышки. И в море пота превратился он оттого, что я прочитал его мысли!
Завтра – весь мир! Поставьте эту картину с ним в главной роли.
Для этого, в частности, через месяц опустите его с облаков.
Оркестры. Пылающие факелы. Верните Лени Рифеншталь, пусть покажет нам, как она снимала митинг в тридцать четвертом.
Дама-режиссер, друг Гитлера. Пятьдесят кинокамер использовала, пятьдесят, клянусь богом, чтобы заснять все немецкие ничтожества, стоявшие рядами и изрыгавшие ложь, и снять
Гитлера, затянутого в скрипящую кожу, и Геринга, пьяного от собственной брехни, и Геббельса, ковыляющего своей походкой раненой обезьяны, трех суперпедерастов истории, выдрючивающихся вечером на стадионе, – устройте, чтобы все повторилось снова и чтобы впереди стоял этот ублюдок, и знаешь ли ты, что происходит сейчас за этим твердым лбом, в его кладбищенском умишке?
– Марк, Марк, – зажмурившись, прошипел сквозь зубы продюсер.- Сядь. Все смотрят.
– Пусть смотрят! А ты проснись!- Он повернулся к Гитлеру. И ты, гадость, тоже не закрывай глаза! Я сам, чтобы тебя не видеть, закрываю глаза уже много дней. А теперь смотрите все. Получай.
Он плеснул пиво Гитлеру в лицо, и глаза у того широко открылись, и тут же Гитлер закатил их снова, и щеки его зажглись темным апоплексическим пламенем.
Люди снаружи ахнули.
Услышав, режиссер насмешливо на них посмотрел.
– До чего смешно! Не знают, кидаться им сюда или нет, не знают, настоящий ты или нет, и я тоже не знаю. Завтра ты, болтливый ублюдок, и вправду возмечтаешь о том, чтобы стать фюрером.
Он снова плеснул ему в лицо пивом.
Продюсер, отвернувшись на своем стуле, лихорадочно стряхивал с галстука несуществующие крошки.
– Марк, ради бога…
– Нет, серьезно, Арчибальд! Этот парень воображает, что если он напялит на себя грошовую форму да за хорошие деньги будет месяц играть Гитлера, что если мы и в самом деле сляпаем митинг в Нюрнберге, о боже, История повернется вспять. Те дни, о Время, ты верни ко мне, когда я мог, тупоголовый наци, поджаривать евреев на огне! Нет, ты только представь себе, как эта вошь подходит к микрофонам и начинает вопить, а толпа вопит в ответ, и он на самом деле пытается стать у руля, как будто еще жив Рузвельт, и Черчилль тоже не в шести футах под землей, и снова все орел или решка, но в основном орел, потому что на этот раз они не остановятся у Ламанша, а переправятся, пусть даже немецких мальчиков ради этого убавится на миллион и растопчут Англию, растопчут Америку, не это ли воображает сейчас твой маленький арийский череп, Адольф? Разве не это?
Гитлер давился и шипел. Язык у него торчал наружу. Наконец он судорожно дернулся, будто освобождаясь от чего-то, и взорвался:
– Да! Да, черт тебя побери! Побери, изжарь и сожги тебя!
Ты осмелился поднять руку на фюрера! Митинг! Да! Обязательно нужно, чтобы он был в фильме! Мы обязательно должны устроить его снова! Самолет! Посадка! Улицы города, очень долго.
Очаровательные молодые блондинки. Очаровательные молодые блондины. Стадион. Лени Рифеншталь! И из всех кофров, всех чердаков нарукавные повязки, черной тучей взмыв над сумерками, летят в атаку, бьются и побеждают! Да, да, я, фюрер, я буду стоять на митинге и буду диктовать условия! Я… я…
Он был уже на ногах.
Люди снаружи, на автомобильной стоянке, кричали. Гитлер повернулся к ним и выбросил руку вверх в нацистском приветствии.
Режиссер, нацелившись, бросил кулак ему прямо в нос.
И тут же, крича, визжа, толкаясь, падая, в помещение вкатилась толпа.
В больницу они поехали на следующий день, в четыре часа.
Закрывая глаза руками, ссутулившись, старый продюсер вздохнул:
– Зачем, ну зачем мы едем в больницу? Навестить это… чудовище?
Режиссер кивнул. Старик издал стон.
– Безумный мир. Сумасшедшие люди. Никогда не видел, чтобы так бросались, пинались и кусались. Еще немного, и эта озверевшая толпа тебя растерзала бы.
Режиссер облизал распухшие губы и осторожно потрогал пальцем наполовину закрывшийся левый глаз.
– Со мной не так плохо, могло быть хуже. Важно, что я стукнул Адольфа. О, как я его стукнул! И теперь…- Он не отрывал взгляда от дороги.-… Пожалуй, в больницу я еду для того, чтобы докончить начатое.
– Докончить начатое? Старик смотрел на него с ужасом.
– Да, докончить начатое, – и режиссер медленно повернул машину за угол.- Вспомни двадцатые годы, Арч, в Гитлера стреляли на улицах и никогда не попадали, страшно избивали, но никогда до смерти, или подложат бомбу в пивную, а он за десять минут до взрыва уйдет, или в том деревянном домике в тысяча девятьсот сорок четвертом году бомба в портфеле взорвалась, а он и на этот раз уцелел. Будто заколдованный.
Каждый раз кирпич падал мимо. Ну, а теперь колдовства больше не будет, Арчи, и чудесных спасений тоже. Я иду в больницу, и когда этот недоделанный статист выйдет из нее и его встретит и будет приветствовать толпа фрицев, я сделаю из него сопрано на всю жизнь. Не пытайся остановить меня, Арч.
– Да кто останавливает? Двинь его ниже пояса и за меня тоже. Они остановились перед больницей и увидели, как по ступеням сбегает, что-то крича, с безумными глазами и растрепанными как у безумца волосами один из ассистентов режиссера.
– Боже, – сказал режиссер.- Ставлю сорок против одного, нам не повезло опять. Готов поспорить, этот парень, который бежит к нам, скажет, что…
– Похищен! Исчез!- выкрикнул ассистент.- Адольфа увезли!
– Сукин сын!
Они обошли кругом пустую больничную кровать, они даже ее пощупали.
В углу стояла и ломала руки медсестра. Ассистент захлебывался:
– Трое было их, трое!
– Замолчи.- От белизны простынь у режиссера наступила временная слепота.- Заставили силой или сам пошел?
– Не знаю, не могу сказать, да, он произносил речи, произносил речи, когда они его уводили.
– Произносил речи?- воскликнул старик продюсер и хлопнул себя по лысине.- О боже, мало того, что кафе взыскивает с нас стоимость поломанной мебели, а Гитлер, возможно, взыщ…
– Подожди.- Режиссер шагнул к ассистенту и пристально на него посмотрел.- Трое, ты говоришь?
– Трое, да, трое, трое мужчин!
В голове у режиссера вспыхнула маленькая сорокаваттная лампочка.
– У одного из них, э-э, у одного квадратное лицо, массивная нижняя челюсть и кустистые брови?
– Откуда вы это… Да!
– Другой маленький и худой, похожий на шимпанзе?
– Да!
– А третий крупный или, лучше сказать, толстый и рыхлый?
– Как вы узнали?!
Продюсер, глядя на них, растерянно моргал.
– Что происходит? Что происх…
– Глупца тянет к глупцу. Хитрого осла – к хитрой лисице.
Пошли, Арч!
– Куда?
Продюсер смотрел на пустую кровать с таким видом, будто не верил, что не видит в ней Адольфа.
– К машине, быстро!
Из кузова машины режиссер вытащил немецкий киносправочник.
Нашел указатель актеров на характерные роли.
– Вот.
Старик посмотрел. Сорокаваттная лампочка зажглась теперь и в его голове.
Режиссер стал листать дальше.
– И… вот. И еще – вот.
Они стояли перед больницей на холодном ветру, читая имена под фотографиями, и порывы ветра переворачивали страницы.
– Геббельс, – прошептал старик.
– Актер Руди Штайль.
– Геринг.
– Окорок по имени Грифе.
– Гесс.
– Фриц Дингле.
Старик захлопнул книгу и закричал неизвестно кому:
– Сукин сын!
– Громче и смешнее, Арч. Смешнее и громче.
– То есть прямо сейчас где-то здесь, в этом городе, трое безработных дураков-актеров держат Адольфа, может, даже ради выкупа? И мы будем им платить?
– Арч, кончить фильм нам нужно?
– Боже мой, не знаю, столько уже потрачено денег, времени и…- Старик поежился, как от холода, и закатил глаза.- А что, если… то есть… что, если это не ради выкупа?
Режиссер кивнул и заулыбался.
– То есть – а вдруг это начало Четвертого Рейха?
– Весь мусор в Германии попрыгал бы в мешки, чтобы стать внушительней, и заявил бы о себе громогласно, узнай он только… -…что Штайль, Грофе и Дингле, читай: Геббельс,
Геринг и Гесс, снова готовы к бою и с ними вместе тупица Адольф
Гитлер?
– Безумие, ужас, сумасшествие! Такого не может быть!
– Никто не мог закрыть Суэцкий канал. Никто не мог высадиться на Луне. Когда-то – никто.
– Что нам делать? Ожидание невыносимо. Придумай что-нибудь, Марк, придумай!
– Думаю.
На этот раз лицо режиссера осветила изнутри стоваттная лампочка. Он набрал полные легкие воздуха и расхохотался хохотом, похожим на громкое лошадиное ржание.
– Я помогу им организоваться и заявить о себе, Арч! Я гений. Пожми мне руку!
Он схватил руку продюсера и, плача от смеха так, что по щекам его бежали слезы, стал трясти ее.
– Марк, ты не хочешь ли сказать, что ты на их стороне, что ты хочешь помочь им создать Четвертый Рейх?!- И продюсер попятился от него.
– Не тюкай меня, а помоги мне. Вспоминай, Арч, вспоминай.
Вспомни, что душка Адольф сказал за обедом, и забудь ты наконец о расходах! Ну что, что?
Старик вдохнул побольше воздуха, а потом выпустил, будто раздался тихий взрыв, отблески которого осветили его лицо.
– Нюрнберг?- спросил он.
– Нюрнберг! Какой сейчас месяц, Арч?
– Октябрь!
– Октябрь! Октябрь, сорок лет назад, октябрь, большой митинг в Нюрнберге. И в эту пятницу, Арч, мы устраиваем
Юбилейный Митинг. Тискаем объявление в международном издании
"Варьете": МИТИНГ В НЮРНБЕРГЕ. ФАКЕЛЫ. ОРКЕСТРЫ. ФЛАГИ.
Господи, да его как магнитом потянет! Он перестреляет своих похитителей, лишь бы попасть туда и сыграть величайшую роль в своей жизни!
– Марк, мы не можем себе позволить…
– …пятисот сорока восьми долларов? За объявление плюс факелы, плюс военный оркестр на пластинке? Черт побери, Арч, дай мне вот тот телефон.
Из-под переднего сиденья машины старик вытащил телефон.
– Сукин сын, – прошептал он.
– Угу.- Режиссер осклабился и набрал первую цифру.- Сукин сын.
Солнце-опускалось за ограду Нюрнбергского стадиона. Небо на западе было залито кровью. Еще полчаса, и станет совсем темно, и уже не разглядишь маленький помост посередине поля и несколько темных флагов со свастикой на шестах, поставленных так, чтобы получилась дорожка от одной стороны стадиона к другой. Слышался шум толпы, он нарастал, но на стадионе никого не было. Где-то ухал оркестр, но не видно было и никакого оркестра.
Сидя в первом ряду на восточной стороне стадиона, не снимая рук с панели управления звуком, режиссер ждал. Ждал он уже два часа и теперь начинал чувствовать себя усталым и одураченным. Он услышал, как продюсер сказал:
– Поехали домой. Все это чистый идиотизм. Он не придет.
И услыхал свой ответ: – Придет. Не может не прийти.
Но сам он в это уже не верил.
Пластинки лежали у него на коленях. Время от времени он брал какую-нибудь из них и ставил на проигрыватель, и" тогда из рупоров по обоим концам стадиона начинала бормотать толпа или играл оркестр, не громко, нет – это будет позже – а очень тихо. Потом он снимал пластинку с проигрывателя и принимался ждать снова.
Солнце опустилось ниже. Кровь на облаках стала густо-алой.
Режиссер старался не замечать. Грубая ирония природы была ему не по нутру.
Старый продюсер зашевелился наконец и огляделся вокруг.
– Так вот, значит, какое оно, это место. Тогда, в тысяча девятьсот тридцать четвертом, это было как раз то, что им было нужно.
– То самое. Угу.
– Я помню те документальные фильмы. Да, конечно. Гитлер стоял… где? Вон там?
– Там стоял.
– А вон там ребятня и мужчины, а вон там девушки, и работало пятьдесят кинокамер.
– Пятьдесят, ровно пятьдесят. Боже, как жаль, что меня не было там, среди факелов, флагов, людей, кинокамер!
– Марк, Марк, это ты так шутишь?!
– Нет, Арчи, не шучу! Тогда бы я подбежал к душке Адольфу и сделал с ним то же, что и с этим свинячьим актеришкой. Ударил бы его в нос, потом в зубы, потом в пах! Камеры готовы,
Лени? Действие! Xрясь! Мотор! Трах! Это за Иззи. Это за
Айка. Камеры работают, Лени? Прекрасно. Бах! Можешь печатать!
Они смотрели на огромное пустое бетонированное поле, по которому, подгоняемые ветром, шастали, как призраки, несколько газетных листов.
Вдруг у них перехватило дыхание.
Далеко-далеко, на самых верхних трибунах, появилась фигурка.
Режиссера словно приподняло с места, но он тут же заставил себя сесть назад.
В последнем свете дня было видно, что фигурка передвигается с трудом. Как раненая птица, она заваливалась в сторону, и одна рука, согнутая в локте, будто поддерживала бок.
Фигурка остановилась, ожидая чего-то.
– Ну же, – прошептал режиссер.
Фигурка повернулась спиной, готовая обратиться в бегство.
– Нет, Адольф, нет! – прошипел режиссер.
Одна его рука сама собой прыгнула на панель управления звуковыми эффектами, другая – к музыке.
Тихо заиграл военный оркестр. "Толпа" забормотала и задвигалась.
Адольф далеко наверху окаменел.
Музыка заиграла громче. Режиссер переключил что-то. Гомон толпы стал сильней.
Адольф снова повернулся к ним лицом и вгляделся, прищурившись, в плохо различимое теперь поле стадиона внизу.
Наверно, он увидел флаги. А теперь увидел факелы. А теперь
– ожидающий его помост с микрофонами, двумя дюжинами микрофонов, среди которых настоящий только один.
Во весь голос ревела медь оркестра.
Адольф спустился на ступеньку:. Толпа неистовствовала.
"Боже, – думал режиссер, глядя на свои руки; то сжимаясь в кулаки, то разжимаясь, они прыгали по верньерам и кнопкам. Боже, что я сделаю с ним, когда он спустится? Что, что?"
И потом, как в бреду, мысль: "Чушь. Ты режиссер. А это
он. И это на _самом деле_ Нюрнберг. Ну, так…?"
Адольф спустился еще на одну ступеньку. Медленно-медленно рука его поднялась и замерла в нацистском приветствии.
Толпа обезумела.
После этого Адольф на своем пути вниз не остановился уже ни разу. Он пытался спускаться величественно по этим сотням ступенек, но это ему не удавалось – он прихрамывал. Ступив, наконец, на поле, он поправил фуражку, отряхнул мундир, еще раз приветствуя ревущую пустоту, поднял руку и заковылял через пустое поле к дожидающемуся его помосту.
Шум толпы стал еще громче. Оркестр откликнулся оглушительным биением меди и ударных.
Душка Адольф прошел в двадцати футах от места в нижнем ряду трибун, где сидел и крутил переключатели режиссер.
Тот пригнулся, чтобы Адольф его не увидел. Но нужды в этом не было. Крики "зиг хайль" и звуки фанфар непреодолимо влекли фюрера к помосту, где ожидала его судьба. Он шел теперь выпрямившись, и хотя форма была помятая, повязка со свастикой надорвана, усики словно изъедены молью, а волосы в беспорядке, это был сам старый Вождь и никто другой.
Вдруг продюсер встрепенулся и подался вперед. Зашептал.
Показал рукой.
Далеко наверху, у самого края стадиона, появились трое.
"Боже, – подумал режиссер, – да вот и вся компания! Те, кто захватил Адольфа".
Кустистые брови, раненый шимпанзе и толстяк.
Господи! Режиссер заморгал. Геббельс, Геринг, Гесс.
Трое сорвавшихся с цепи, трое недоделанных похитителей пялятся вниз, на… кого?
Адольфа Гитлера, взбирающегося на помост к бутафорским микрофонам и только одному настоящему, между тем как расцветали огненными качающимися цветами факелы, капали смолой и дымили в холодном октябрьском ветре, а над ними, как четыре колокола на четыре стороны света, раскрыли свои зевы громкоговорители.
Адольф закинул голову. Только это и было нужно. Толпа потеряла над собой контроль. Точнее, потеряла над собой контроль, ощутив тоску фюрера, рука режиссера, она судорожно дернулась и включила громкость до предела, и теперь воздух снова, и снова, и снова раздирали, разбивали на куски и разрывали на части крики: "Зиг хайль, зиг хайль, зиг хайль!"
Наверху, у самого края стадиона, каждая из трех фигурок выбросила вверх руку, приветствуя своего фюрера.
Адольф опустил голову. Шум толпы постепенно замер. Теперь не слышно было ничего, только шептали факелы.
Адольф начал речь.
Он вопил, скандировал, ржал как лошадь, брызгал слюной, придушенно хрипел, ломал руки, бил кулаком по помосту, выбрасывал кулак в небо, закрывал глаза, верещал как выпотрошенная фанфара десять, двадцать, тридцать минут, между тем как солнце переваливало по ту сторону земли, а трое наверху, у края стадиона, смотрели и слушали, и смотрели и ждали продюсер и режиссер. Он кричал что-то обо всем мире, вопил что-то о Германии, выкрикивал что-то о себе, проклинал то, винил се, хвалил третье, и потом начал повторять одни и те же слова, как если бы запись внутри него кончилась, и игла, хотя теперь по круговой дорожке, шипела и икала, икала и шипела; а потом – тишина, и в ней только его тяжелое дыхание, но вот оно прервалось всхлипом, и теперь он стоял, уронив голову на грудь, а остальные уже не могли заставить себя на него смотреть и смотрели на свои ботинки, или в небо, или на то, как ветер разметает по полю пыль. Развевались флаги. Факел на одном из шестов согнулся, будто в корчах, выпрямился, изогнулся снова, что-то забормотал, захлебываясь.
Наконец Адольф поднял голову – нужно было закончить речь.
– Теперь я должен сказать о них.
Он кивнул туда, где наверху, на фоне неба, виднелись три маленькие фигурки.
– Они психи. Я тоже псих. Но я хоть знаю, что я псих.
Я говорил им: безумцы, вы безумны. Сумасшедшие, вы сошли с ума.
И теперь собственное мое безумие, собственное мое сумасшествие… оно, в общем, из меня ушло. Я устал. Что же теперь? Теперь я отдаю весь мир вам назад. Некоторое время, очень недолго, я был здесь сегодня его хозяином. Но теперь хозяевами его должны стать вы, и нужно, чтобы вы были лучшими хозяевами, чем был бы я. Я отдаю мир каждому из вас, но каждый из вас должен поклясться, что никому не уступит свою в нем роль и сыграет ее честно. Берите.
И он с таким видом протянул здоровую руку к пустым трибунам, как будто она держала весь мир и теперь наконец решилась его выпустить. '
Толпа зашевелилась, забормотала, но криков не было.
Флаги мягко облизывали воздух. Пламя приседало и дымило.
Вдруг, словно ослепленный страшной головной болью, Адольф надавил пальцами на глаза. Не глядя ни на режиссера, ни на продюсера, он совсем негромко спросил:
– Пора уходить?
Режиссер кивнул.
Хромая, Адольф спустился с возвышения и подошел к месту, где сидели двое.
– Ну, давайте, если хотите, бейте снова.
Режиссер сидел и смотрел на него. Наконец он покачал головой.
– Мы доведем фильм до конца? – спросил Адольф. Режиссер посмотрел на продюсера. Старик пожал плечами.
– Ну, ладно, – сказал актер.- Так или иначе, безумие прошло, температура упала. Я-таки произнес свою речь в
Нюрнберге. Нет, вы посмотрите только на тех идиотов наверху.
Эй, идиоты! – закричал он вдруг тем троим. Потом опять повернулся к режиссеру.- Вы можете себе представить? Они хотели получить за меня выкуп! Я сказал им, что они дураки.
Теперь пойду повторю. Мне пришлось от них удрать. Не мог больше выносить их глупую болтовню. Мне непременно нужно было приехать сюда и в последний раз на свой собственный лад развлечь себя собственной своей глупостью. Так что…
Он заковылял прочь по пустому полю и на ходу, обернувшись, сказал негромко:
– Я подожду в вашей машине. Если вам нужно, располагайте мной для заключительных сцен. Если нет, так нет – на этом и кончим.
Режиссер и продюсер ждали, пока Адольф поднимался по ступенькам. До них доносились обрывки ругательств, обращенных к тем троим, к человеку с кустистыми бровями, к толстяку и к безобразному шимпанзе, он обзывал их по-всякому, махал руками. Трое начали пятиться – и исчезли.
Адольф стоял теперь один там, наверху, овеваемый холодным воздухом октября.
Режиссер напоследок еще раз усилил для него громкость.
Послушная толпа в последний раз прокричала "зиг хайль".
Адольф поднял здоровую руку, но это было уже не нацистское приветствие, а скорее усталая, вялая, наполовину опавшая океанская волна. Потом исчез и он тоже.
Солнечный свет ушел вместе с ним. Небо теперь уже больше не было кровавым. Ветер гонял по полю стадиона пыль и страницы объявлений из какой-то немецкой газеты.
– Сукин сын, – проворчал старик.- Давай отсюда выбираться.
Факелы остались догорать, флаги развеваться, но звуковые эффекты они выключили.
– Зря-я не принес пластинку с "Янки Дудл", под ее звуки мы бы и ушли, – сказал режиссер.
– Зачем нам пластинка? Насвистим сами. Почему бы и нет?
– А правда, почему бы и нет?
Пока они поднимались, режиссер поддерживал продюсера под локоть, но засвистали они только тогда, когда половина пути вверх осталась позади.
И вдруг, еще не докончив мотив, они оба расхохотались.
На главную: Предисловие