Дорогой Джон
Дорогой Задрот,
не думай, что мне плевать, раз я пишу это на туалетной бумаге. Туалетная бумага не символична, а целесообразна. И то, что письмом тебе я могу подтереть задницу, — всего лишь приятное совпадение.
Эти письма призваны помочь нам вернуться в счастливые времена. По крайней мере, так утверждает Исаак. Окунуться с головой в чудесные воспоминания, потом выдернуть затычку и смотреть, как они стекают в канализацию. Написать слезливые «я тебя люблю» и «быть может» всем тем, кого мы потеряли, затем сжечь и попрощаться с дымом и пеплом. Или, в моем случае, написать — подтереться — смыть. Прощай. Исаак говорит, это принесет облегчение. Очевидно, он не знает, что такое двусмысленные метафоры. И не знает свою паству, раз воображает наличие чудесных воспоминаний и счастливых «быть может». С подобными воспоминаниями в такие места не попадают.
Наверное, тебя удивит, что я попала сюда, лоханулась именно таким образом, но ведь мы давно не виделись. Дерьмо случается. Может, меня бы тоже удивило твое местонахождение. Я в этом сомневаюсь, но из вежливости допускаю такую возможность. А ты думал, что я на это не способна. Дерьмо случается; люди — по крайней мере, те из нас, что время от времени выбираются из подвала, — меняются. Вот она я, после расставания с тобой: Остин, потом Л.А., потом обратно в медвежье брюхо Америки, пусть это и близковато к дому, скачу по засранным городишкам на I-70, шесть месяцев обслуживаю дальнобойщиков в забегаловке, ощущая себя героиней детективных сериалов, которой суждено сыграть звездную роль трупа на помойке, потом пустыня, потом горы, потом равнины — и везде, где я останавливалась, каждый, ради кого я останавливалась, обещал, что это навсегда. Помнишь, как я лишила тебя невинности, а ты сказал, что прикуешь меня к постели и не выпустишь, пока я не состарюсь и не сморщусь и не придет время обзавестись новой моделью? Постельные разговоры стали лучше, но мужчины — нет, и ни один из них не продержал меня дольше тебя. Может, люди все-таки не меняются. («Я изменился», — сказал ты, но это я изменила тебя, и если твоя уродина-ученица пожелала переспать с тобой, причина лишь в том, что я заставила тебя выбросить оранжевые сабо и перестать шептать себе под нос, когда ты думал, что никто не смотрит). Итог: сперва кончала я, потом кончали они, потом они уходили. Пока я не спуталась с Детьми Авраама, потому что отец Авраам сказал, что Господь никогда меня не покинет, вот только сам отец Авраам покинул меня, а гребаный мир кончился, аккурат в тот день, когда он и предсказывал, и где оказалась я?
Здесь, в Ковчеге, надежно запертая в горном бункере, с отпрыском Авраама и всеми прочими, которым хватило глупости поверить ему, когда они с папашей заявили, что конец близок. Мир нас кинул, но мы просекли фишку и кинули его первыми. Пошли за пареньком в горы и забаррикадировались листовым металлом и колючей проволокой, ожидая гнева Божия и гадая, какую форму он примет. Неудивительно, что он решил вышвырнуть нас, как динозавров. Читать тут нечего, кроме Библии, и я прочла достаточно, чтобы понять: шутки у Господа однообразные. Ему нравится сокрушать и — крайне редко — спасать. Думаю, мы ему тоже нравимся — перевоспитавшиеся шлюхи, и нарки, и воры, и бедолаги, что пытаются сбежать от собственных воспоминаний и скверных мужей, — потому что мы до сих пор живы. Ты всегда так гордился своей гребаной нормальностью. Я бы предложила посмотреть, куда это тебя завело, но оттуда ты вряд ли меня услышишь. Ты был снаружи, с прочими козлами, обделывал свои нормальные делишки, когда случилась жопа. Исаак говорит, нужно думать, будто все несчастные душонки, застигнутые врасплох, скончались быстро и мирно. От аневризмы в тот миг, когда небеса раскололись. Стремительное, чистое уничтожение.
Я предпочитаю думать иначе.
Ты был в подвале, когда это случилось, — вот что я предпочитаю думать. Просидел там два дня подряд, вцепившись руками в джойстик (да, я в курсе, что его не называют джойстиком с 1988 года, но хер у тебя получится капать мне на мозги с того света), с плесневелыми коробками от пиццы под ногами и порнухой на стене, потому что ты настолько разжирел, что уже много лет ни одна девица не бывала в твоей усыпальнице, и больше нет смысла скрывать свои извращения. Ты палил куда ни попадя и радостно хихикал, а когда услышал первые взрывы, подумал: Крутые спецэффекты, чувак! — в то время как наверху небо рушилось на землю, а потом твоя крыша тоже рухнула, и когда на другой день ты решил сползти с дивана и пополнить запасы пива, оказалось, что дверь придавило десятью тоннами мусора, телефоны не работают, а вай-фай умер, и какая жалость, твой аварийный генератор кончился быстрее запасов пищи, и потому последние свои дни на Земле ты провел в темноте, без электричества, сперва дроча джойстик, словно можно было повернуть взрывы вспять, затем переключившись на собственный член, пыхтя и напрягаясь, воображая, что я стою на коленях и отсасываю тебе, пока ты расстреливаешь очередное выдуманное королевство, прислушиваясь к печальному, слабому отзвуку моего голоса, — потому что ты навсегда запомнил первую девчонку, которая тебя бросила, которую ты прижал к полу в ванной, плача, пуская сопли и умоляя: «Прошу, детка, не бросай меня!» — пока у нее не помутилось в мозгах и она не сказала: «Ладно, милый, если я тебе нужна, я останусь», — и осталась, пока ты не заскучал и не бросил ее сам, — думая, что если бы ты ее не бросил, тебе не пришлось бы дрожать одному в темноте, лишаясь рассудка, и сначала у тебя кончилась еда, потом пиво, а потом ты медленно умер, поскуливая, в луже собственной блевоты и спермы.
Думаю о тебе, не пропадай!
С любовью,
Хизер
* * *
Дорогой Толстосум,
помнишь, как ты смеялся надо мной, потому что я всегда заказывала одно и то же? Ты сам делал заказ за меня, прежде чем я успевала открыть рот. Куда бы мы ни пошли, ты знал. Телятина парминьяна. Пад тай. Цыпленок тикка масала. Сначала мне казалось милым, что ты делаешь вид, будто тебя это тревожит, потому что выпендрежные куски говна обычно не тревожатся по поводу девиц, которые знают, чего хотят, и не меняют своего мнения. Я ведь не приносила с собой сандвичи с арахисовым маслом и джемом, чтобы тайком поедать их из-под стола, пока ты наслаждаешься суши, так откуда мне было знать, что всякий раз, заказывая пад тай или позволяя тебе заказать его для меня, я укрепляла твое мнение насчет моей безынициативности, и скучности, и провинциальности, и негибкости, и «нежелания дать обстоятельствам шанс»? Почему-то тебе было стыдно за меня перед официантами или друзьями, а может, перед всевидящим божеством, которое ждало от тебя чего-то большего, нежели подружка, боявшаяся отведать телячьих почек.
Тебе бы здесь не понравилось.
Здесь мы едим бобы и снова бобы. Консервированного тунца и консервированные персики. Мы едим арахисовое масло, если ведем себя особенно хорошо, а если плохо — ничего не едим. Каждый день — одно и то же. Иногда, в первое время, мужчины надевали костюмы и отправлялись на охоту, чтобы добыть на вечер свежее мясо, но зима выдалась слишком долгой и слишком холодной, и, говорят, все животные умерли. Говорят, нам не нужно выходить наружу, в этом и есть смысл нашего Ковчега. Мы подготовились. Проходят месяцы, а запасы еды не убывают. Мы тщательно все распланировали — бобов нам хватит на годы.
Годы бобов, тунца, персиков и арахисового масла. Можешь себе такое представить? Ты, считавший, что невозможно есть одно блюдо два вечера подряд. Это удел нищих, говорил ты, но когда я попыталась отдать объедки настоящему бедняку, ты ударил меня по руке и заявил, что я потворствую слабакам. Бродяге пришлось слизывать телятину парминьяна с асфальта. Вот что бывает с теми, кто встречается с республиканцами, сказал ты мне той ночью, распяв меня на своем дорогущем матрасе. Так ты представлял себе сальности.
Однако я заметила, что ты ничего не имел против одной и той же наркоты каждый вечер. Ты любил наркоту; тебе нравилось, что у меня есть пропащие дружки, которые могут ее достать. Тебе нравилось, что я хорошо выгляжу в купленных тобой платьях и достаточно мило улыбаюсь твоим придуркам-друзьям, чтобы те злились и, приходя домой, вымещали злость на своих уродливых подружках; тебе понравилось, что я трахнула одного из них, когда ты попросил меня об особом одолжении — пожалуйста, ради меня, детка; тебе понравилось, что ты смог заставить меня сделать это, но не понравилось, что я это сделала. Обслужила его. Отсосала, и позволила трахнуть себя в задницу, и кончить себе на сиськи; все это было достаточно мерзко, но еще мерзее оказалось то, что ты заставил меня рассказать тебе об этом, рассказать, когда твой член был во мне, рассказать, каким был его член, что он был меньше и мягче твоего, что твой друг был обрюзгшим, с дурным дыханием и редеющими волосами, что он до крови прикусил мне сосок, а когда я сообщила тебе все, что ты хотел услышать, ты вышвырнул меня из постели и заявил, что я сплю с тобой только из-за денег (что соответствовало действительности) и никогда не стала бы спать, если бы ты был бедным (что тоже соответствовало действительности), а потому я шлюха (что, возможно, тоже правда). Теперь я думаю, что мне больше нравился твой бассейн, чем ты сам. Твой бассейн, и твои глупые рестораны, и твой кокаин, несмотря на то что без меня его бы у тебя не было. Больше всего мне нравилось, когда ты уезжал на выходные, а я могла лежать на матрасе в голубой хлорированной воде, пьяная и покрасневшая от солнца, и смеяться облакам, журчанию фильтрационной системы бассейна и тому, как сморщивалась от влаги кожа на пальцах. Я представляла, будто это мой бассейн, моя жизнь; представляла, как твой самолет врезается в гору и какой-то седовласый адвокат появляется на пороге, берет мою ладонь в свои и мягко сообщает, что ты все оставил мне.
Это ложь.
Я представляла, как ты возвращаешься — но другим. Что-то новое в твоем лице, когда ты смотришь на меня, словно наконец понял, зачем я тебе нужна. Я представляла, как мы вместе лежим на матрасе в бассейне, счастливые; как, будто в самом начале, ты прижимаешь меня к раковине в позолоченных туалетах, пока официанты делают вид, что не замечают нашего долгого отсутствия; ты рвешь мою дешевую блузку, словно Тарзан, и говоришь, что я напоминаю тебе шедевр Микеланджело, что лизать мои соски — все равно что осквернять бесценное произведение искусства, что ты хочешь похитить меня, ты хочешь обожать меня, ты хочешь меня. Но ты возвращаешься из последней поездки и говоришь, что хочешь женщину, которая лучше впишется в твой мир и сможет сама выбирать себе суши.
Больше нет богатых; больше нет бедных. Есть имущие и неимущие. Мы, Дети Авраама, возлюбленные сыновья и дочери Господа, имеем: убежище; пищу; генераторы; пушки; жизнь.
Вы, все прочие, не имеете ничего.
Мне больше не нужно бояться, что меня бросят, что меня перестанут хотеть. Во-первых, теперь наши желания не имеют значения — идти некуда. У нас есть радио, и мы знаем, что творится снаружи, точнее, знаем достаточно, чтобы себе представить. Города, стертые с лица земли; Западное побережье, ушедшее под воду; низвергнутые правительства; повсюду мятежи и трупы. Tohu va vohu, — Исаак говорит, так начинается Библия на иврите. В начале земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною; этим все началось, говорит он, этим и закончится. Исаак говорит, мы слишком долго были одни; пришла пора быть вместе. Не только в том смысле, что все мы собрались в Ковчеге, но и в том, что каждый из нас должен объединиться с другой душой, составить пару как положено. Исаак сам подберет нам партнеров. Он утверждает, что Господь дал ему подсказки насчет подходящих союзов, а поскольку этот же Бог просветил его по поводу конца света и способов выжить, придется ему поверить. Это намного проще, чем старый подход. Исаак разобьет нас на пары, а потом, через десять дней, мы соединим руки и души перед лицом Господа. Мы поклянемся Ему. Навсегда, — поклянемся мы, и так тому и быть. Это тоже кое-что новенькое. Когда знаешь, что Бог способен разозлиться и уничтожить мир, не хочется нарушать слово.
Однажды ты сказал, что, если мне удастся связать кого-то брачными узами, нужно обязательно составить брачный контракт, чтобы, когда муж меня бросит, я получила свою долю. «Вообще-то я получу твою долю, — заметила я. — Разве не так работают брачные контракты?» Ты рассмеялся. И уточнил, что тебя рассмешила не глупая шутка, а сама мысль, будто ты способен на мне жениться.
Тогда-то мне и следовало догадаться. Не потому, что ты рассмеялся, а потому, в какой момент ты это сделал. Если ты выйдешь замуж; когда он тебя бросит. Ты раньше меня понял, что я из тех девушек, которых бросают.
И теперь ты снова меня бросил.
Не волнуйся, на этот раз я не стану устраивать сцену.
Я думаю, ты погиб вместе с Калифорнией, когда ее смыло волной. Может, перед смертью ты пожалел, что не научился плавать; это не спасло бы тебя, но ты бы продержался чуть дольше или сохранил бы чуть больше достоинства. Может, ты бы увидел, как всплывает Л.А., как надпись «Голливуд» качается на волнах вместе с силиконовыми имплантатами, как «Ягуары», «Рэндж Роверы» и «Феррари» погружаются на дно, как рыбы срут на итальянскую кожу, как трупы анорексичных старлеток раздуваются на солнце; ты умрешь, а я буду жить, хотя твой дом сделан из кирпича и мрамора, а мой — из старых коробок. «Три поросенка» — плохое руководство, как пережить конец света, и кроме того, наше творение надежно: дуй сколько влезет — Ковчег даже не шелохнется. Там, где ты сейчас, на ужин подают только морепродукты, вечер за вечером. Полагаю, обстоятельства получили свой шанс.
С любовью,
Хизер
* * *
Дорогой Джон,
помнишь, как мы шутили? Как я оставляла тебе записки: «Дорогой Джон, я тебя не бросила, но, пожалуйста, купи молоко по дороге домой». Как мы решили, что если я когда-нибудь действительно брошу тебя, то напишу: «Дорогой Джон, на этот раз я это сделала». Ты считал несправедливым, что твое имя ассоциируется с расставаниями. Ты сказал: «Я никогда тебя не брошу. Только не я. Только не тебя».
Интересно, это любовь делает нас глупыми или глупость — необходимое качество, чтобы влюбиться?
Можешь считать это письмом, которое ты так и не получил. Можешь думать что угодно, только не думай, будто я по тебе скучаю.
Луковое дыхание. Потливость. Царапанье вилкой по тарелке. Постукивание ручкой по зубам. «Музыка мыслей», так ты это называл.
«Музыка мыслей»! Что за человек способен придумать такое?
Внеси все это в список «Вещей, по которым я не скучаю».
Можешь еще добавить вранье.
Я никогда тебя не брошу.
Я никогда тебя не брошу.
Я никогда тебя не брошу.
Когда ты смотрел на меня своими щенячьими глазами, я почти в это верила. А издевки над страхом? Просто выключи его, говорил ты, словно никогда не боялся.
Как мне могло прийти в голову, что все получится, что я проведу вечность с человеком, который не понимает, что такое страх? Вот моя вечность, по состоянию на сегодняшнее утро: черные моржовые усы и седеющая жиденькая бородка, жилистые бицепсы и кривобокие уши. Маленькие руки, большой нос. Его зовут Гэвин, и мне кажется, в другой жизни он был богачом. Из тех, у которых случается кризис среднего возраста, когда они обнаруживают, что их «порше» не способен волшебным образом повернуть годы вспять, и обзаводятся кем-то вроде меня, шлют цветы и дают обещания, а потом подписывают бумаги о разводе и женятся на ком-то другом. Вот только Гэвин действительно бросил свою жену, бросил ее умирать вместе с миром, и теперь, здесь, есть только я. Исаак говорит — точнее, говорит, что так говорит Господь, — будто мы созданы друг для друга. Может, он кидал дротики или вытаскивал имена из шляпы. А может, это действительно Господь, и Гэвин — моя судьба.
У меня есть подруга, и она считает это полной херней, хотя никогда не произносит подобных слов. Тереза Бэббидж, присматривавшая за Исааком, когда тот был обычным ребенком, а не Нашим Спасителем. Она рассказала мне, что однажды он так испугался какого-то кошмара, что надул в постель, в одиннадцать-то лет; она заставила меня дать клятву молчать, потому что если про это узнают, он поймет, кто проговорился, а мы обе догадывались, что за этим последует. Так вот, она считает, что это полная херня, что Исаак заставляет нас жениться, потому что запретил трахаться до свадьбы, и многим одиноким мужчинам этого не хватает. Я не стала говорить, что мне тоже этого не хватает. Ей бы это не понравилось. И не стала говорить, что в свадьбе по договору нет ничего нового. Мужчина заявляет, что хочет быть с тобой, и ты остаешься. Мужчина заявляет, что больше не хочет быть с тобой, и уходит. В данном случае Исаак говорит, что хочет, чтобы я была с каким-то мужчиной. Единственная разница в том, что не имеет значения, хочет ли мужчина быть со мной.
Гэвин не бросит меня, а я не брошу его. Вот в чем основное различие. Я не жду, что он спасет меня, не жду, что он будет любить меня или хотеть. Я не жду ничего, кроме одного: мы будем вместе, а не порознь.
Ты говорил, что тебе нравится спасать людей, говорил, что спасешь меня. Что ты не такой, как другие. Ты останешься, ты докажешь мне, что можно остаться, что не все уходят. Уходят только неправильные люди, говорил ты, и мне повезло, что они ушли, потому что иначе не было бы тебя. Вместе не всегда лучше, чем врозь. Только с тобой.
Ты говорил, что не боишься меня. Что ничто во мне не заставит тебя сбежать. Что мы больше никогда не будем одиноки, что мы будем вдвоем наедине. Помнишь, как мы превратили квартиру в крепость, решили навсегда забаррикадироваться от мира? Мы залегли под одеялами с неисчерпаемым запасом карамелек и газировки, которых должно было хватить на все шесть сезонов «Клана Сопрано», и всякий раз, когда головорезы Тони кого-то убивали, мы целовались. Мы были глупыми и не понимали, что такое крепости, и баррикады, и вечность. И мы так и не досмотрели «Сопрано», о чем я очень жалею, ведь «Нетфликс» прекратил свое существование, и, как выяснилось, у любителей кабельного телевидения и фанатиков Судного дня не слишком много общего, а потому никто не может рассказать мне, чем все закончилось. А если бы и мог, не стал бы разыгрывать сценки глупыми голосами, как делал ты, когда я пропускала серию.
Иногда я думаю вот о чем. О дне, когда догадалась, что дипломированный придурок, являвшийся каждый день, чтобы сменить арендованный автомобиль, потому что сиденье недостаточно далеко откидывается назад, или дребезжит крышка бензобака, или заедает сцепление, или радио не ловит верхний край УКВ-диапазона, вовсе не был таким уж дипломированным придурком; что ему было наплевать на гребаные автомобили, что он просто искал повод улыбнуться девушке за стойкой. О дне, когда я улыбнулась в ответ. О четырех днях, которые ждала твоего следующего шага. О ямочках на твоих щеках, когда мы занялись сексом. О том, что ты сказал, когда отвез меня домой тем вечером — в первый раз, прежде чем приехать обратно на своей арендованной консервной банке, осознав, что тянуть не следует. Ты сказал, что вернулся не потому, что я показалась тебе симпатичной. Нет, ты считал меня симпатичной. Разумеется, считал. Но вернулся не поэтому.
Мне нравилось, когда ты заикался. Нравилось, что я заставляла тебя нервничать.
Ты вернулся, потому что забыл поблагодарить, когда я дала тебе ключи, а я заметила, что это не слишком вежливо.
Не просто симпатичная девушка — симпатичная девушка, у которой выдался паршивый день на работе, где требовалось улыбаться и быть милой. Симпатичная девушка в платье с бабочками и блестящим «гвоздиком» в носу, с камуфляжным лаком на ногтях; девушка, которую кто-то обидел, которой попалось на одного паршивого клиента больше, чем следовало, — и от этого в твоей душе что-то проснулось, сказал ты, и ты вернулся на следующий день, чтобы проверить, не уволилась ли я. У тебя сложилось обо мне впечатление, сказал ты. Словно я была тропическим жучком на цветке и легчайший ветерок мог спугнуть меня.
Мне понравилось, что ты вспомнил, во что я была одета; понравилось, что ты не сравнил меня с гребаной бабочкой.
Признаюсь, ты прав: с тобой было по-другому. С тобой было лучше, но в итоге все свелось к одному и тому же: все закончилось. Не имеет значения, насколько хорошим было что бы то ни было, если оно закончилось; то, что оно было хорошим, лишь усиливает боль, так что какая гребаная разница?
Все кончено. Теперь у нас есть лишь одна вечность. Мы оба знаем, что ты умер, и оба знаем как, и я не хочу об этом говорить.
С любовью,
Хизер
Дорогой Лживый Ублюдок,
надеюсь, ты умер в лесу и твою самодовольную физиономию сожрали сбежавшие из зоопарка медведи, яйцеголовый уебок.
С любовью,
Хизер
* * *
Дорогой Учитель,
это была моя первая пятерка с плюсом, и надо полагать, я доказала, что едва ли тяну на тройку, поверив тебе. Поверив твоим словам, что у меня есть талант, в реальной жизни, а не в твоем кабинете, у стола, с задранной юбкой, когда мы оба прислушивались, не идет ли кто, хотя лишь один из нас мог распознать этот звук. Ты пишешь, как настоящий писатель. Вот что ты нацарапал на последней странице. Зайди ко мне после уроков, — и дважды подчеркнул. Пятерка за усердие.
Я думала, дело в моей жизненной философии. Считала себя портретом художницы в юности. Думала, ты любишь меня поэтому, и потому, что я смеюсь, словно у меня есть секрет, и потому, что я бдительно выжидаю на границе жизни и вижу вещи, которых большинство видеть не может, — ведь именно так ты мне говорил. А вовсе не потому, что я могу отсосать, как профессиональная шлюха, или потому, что у тебя загадочная страсть к костлявым запястьям и слэп-браслетам, или потому, что мне хватило глупости верить, когда ты говорил, что я умна.
Знаю, знаю: я похожа на ребенка, когда жалуюсь.
Теперь мне кажется, что именно это тебе нравилось больше всего.
Возраст — всего лишь число, говорил ты, что в ретроспективе объясняет, почему тебе нравилось трахать подростков: ты полагал, что мы перепутаем клише с мудростью.
В ретроспективе многое становится ясным, не только клише: например, поступки девочки, выросшей без отца, и печальная алчность мужчины за тридцать, отчаянно желающего удержать уходящую молодость. Мне было шестнадцать, тебе — на шестнадцать лет больше, между нами могла поместиться еще одна я. Что, надо полагать, тебе бы понравилось.
Тереза Бэббидж всего на девять лет старше Исаака; это кажется весьма отталкивающим сейчас, когда ему тринадцать, но уже не станет вызывать такого отторжения в будущем, и в любом случае не тебе судить. Исаак говорит, когда ему исполнится тринадцать, он станет мужчиной: так это делалось в библейские времена — и посмотрите за окно, они вновь наступили. (Окон у нас нет, но мы все понимаем, что он имеет в виду.) Он говорит, Господь хочет дать ему женщину, а сам он хочет, чтобы этой женщиной была Тереза, и раз уж возраст — всего лишь число, а все, что говорит Исаак, сбывается, так тому и быть. Вот что мы все сказали себе и пожали плечами.
Неудивительно, что он выбрал именно ее: не потому, что она ближе всех ему по возрасту, не считая маленьких детей, и не потому, что она горячая штучка, а потому, что она была его нянькой, и это самое близкое к учителю, что у нас есть. (Весьма горяча для учительницы — вот очередное прекрасно знакомое тебе клише.) Она нарушала правила ради него, позволяла ему позже ложиться спать, разрешала смотреть фильмы ужасов, даже после того, как начались кошмары, посредством которых Господь возвещал конец света, и во всем этом есть нечто пьянящее: вместе нарушать запреты, шнырять в темноте, делить общий секрет. А секреты имеют тенденцию плодиться.
«Пишите рискованно», — сказал ты нам, раздав журналы. Пишите о том, что чувствуете и чего боитесь. Не нужно стерилизованного говна про выпускные балы и щенков. Ты называл их журналами, а не дневниками, потому что дневники — для маленьких девочек, и ты обещал, что, кроме нас, их никто не увидит. «Превратите страницы в хранилище своей души», — предложил ты нам, но когда я показала тебе листы, на которых рассказывала о том, каков ты на вкус и как вело себя мое сердце, когда ты писал языком слова на моей шее, ты велел мне не быть гребаной идиоткой и никогда больше не писать ничего подобного, однако ни слова не сказал о том, хорошо это написано или нет.
Я подчинилась. Я никому не сказала. Даже когда ты променял меня на десятиклассницу, которая начертала любовную поэму своей менструальной кровью, я не написала ни слова. Этот урок я усвоила. Никогда не пиши то, что действительно имеет значение. Никогда не говори.
И все же я по-прежнему думала, что когда-нибудь смогу стать писателем. Если будет время. Если со мной случится то, о чем стоит написать. И вот она я, свидетельница конца света, которой нечем заняться, кроме как возиться с консервированными фруктами да описывать падение цивилизации вместе со скорбной песнью моего сердца, — но единственное, что я сочинила, — несколько писулек на бумаге для жопы, адресованных вам, кускам дерьма. Здесь, внутри, нет ничего, о чем мне хотелось бы написать, а снаружи нет ничего, что могла бы воскресить моя писанина. Чего мне действительно хочется, так это улечься на диван и смотреть телевизор.
Ты говорил, что телевизор превратит нас в пассивных потребителей чужих слов, и нам следует расколотить его кувалдой, чтобы выпустить нашу творческую силу на волю, совершить акт творения посредством разрушения, сровнять с землей наши отупелые, потребительские, капиталистические, мелочные, прыщавые жизни и возвести на обугленной земле новые; ты говорил, еще никто не жалел перед смертью, что мало смотрел телевизор, но я буду жалеть. Мне жаль, что я так редко смотрела «Друзей» и составила такой длинный список «Глупых сериалов, которые я, как уже неоднократно было сказано, не смотрю». Могу представить, как ты умер (тебе перерезало яремную вену осколком зеркала, перед которым ты тщетно пытался зачесать волосы на лысину), но уже не могу вспомнить, на что похожи «Настоящие домохозяйки». Однажды я сказала тебе, что, по моему мнению, «мыльные оперы» — самая реалистичная форма повествования, потому что они никогда не кончаются на «долго и счастливо», они вообще не кончаются, а ты рассмеялся, словно это была шутка, и теперь я думаю, что объектом шутки оказалась я сама, ведь «мыльные оперы» кончились вместе со всем прочим.
Снаружи ничего не осталось. Так говорят по радио, хотя большую часть времени никто ничего не говорит. Иногда, сквозь помехи, мы слышим чей-то плач.
Снаружи не осталось ничего, и глупо надеяться, что это не так, мы все с этим согласны — кроме тех случаев, когда приходится выставить кого-то за дверь. И тогда мы делаем вид, будто это не смертный приговор, а всего лишь другая жизнь. Снаружи может быть что угодно, говорим мы. Ей здесь не нравилось, не настолько, чтобы следовать правилам и подчиняться приказам, так, быть может, снаружи ей понравится больше.
Быть может, если Тереза Бэббидж предпочла не трахаться с подростком, если ее это не заводило, в отличие от тебя, если она сделала вид, что предложение Исаака было просьбой, а не приказом, и вежливо отказалась, то это был ее выбор, и, быть может, проблуждав несколько ночей в дикой пустыне, она не станет о нем сожалеть.
Это не казнь, сказал Исаак прошлой ночью, когда запер за ней двери. Это даже не наказание. Просто разумная политика мирного общества. Делай как все — или выметайся.
Она сказала, что он ебанутый. Спросила: как насчет феминизма, и Хилари Клинтон, и Эм-ти-ви, и как мальчишка, родившийся в двадцать первом веке, мог проглотить всю эту чушь, мир уже две тысячи лет работает иначе? — а он ответил, что мир погиб и что много чего не случалось уже две тысячи лет — и ему вовсе не пришлось прямиком заявлять: «Я свет миру», — чтобы мы поняли намек.
Возможно, она думала, что ее сестры уйдут вместе с ней, но ошиблась. Вряд ли она надеялась, что я составлю ей компанию, хотя могла ожидать, что я приду попрощаться. Она не знала, как я отношусь к прощаниям.
Она не говорила мне, что собирается ему отказать, иначе я бы ее переубедила. Рассказала бы о вещах, которые приходится делать, о том, как терпеть, о том, как быть девушкой, которая остается. Рассказала бы, каково это, когда тебя бросают, но она не спросила, и ее вытолкали за дверь без теплой одежды, и без еды, и без малейшего гребаного представления о том, как выживать, потому что пока все прочие учились стрелять, варить мыло и заготавливать грибы, она нянчила будущего мессию, и теперь, вероятно, она мертва. Я сохранила свой ноутбук. Разумеется, батарейка давным-давно села, но иногда я смотрю в пустой экран и вспоминаю. Я и раньше любила смотреть на помехи, особенно когда мне плохо. Любила вглядываться в безжизненные шумы, любила, прищурившись, изучать бесплодные пустоши, почти веря, что если постараться, можно призвать хаос к порядку, что где-то за волнистыми линиями прячется лицо, голос, целый мир.
Я хочу, чтобы картинка вернулась; хочу, чтобы мир вернулся. Хочу помойные реалити-шоу, и рекламно-информационные блоки поздней ночью, и мультики субботним утром. Хочу Эм-ти-ви. Хочу китайскую еду навынос и пульт с отпечатками жирных пальцев; хочу отгулы, проведенные в тумане бормочущих ток-шоу и лепечущих телеигр; хочу, чтобы Люк и Лаура воссоединились, а «Как вращается мир» восстал из мертвых; хочу толстых мужчин с костлявыми женами и больницы, где все красивы и сексуальны и только скучные люди умирают; хочу охотников за торнадо, и состязания едоков, и субботних телеевангелистов, и даже фригидную сучку из «Фокс-ньюс». Хочу вернуть все послеобеденные часы, что провела с тобой в твоей машине, и твоем кабинете, и том паршивом мотеле, ведь я могла провести их дома, с пакетом «Доритос», и Опрой, и «Парнем, который познает мир», а теперь я лежу на своей койке и делаю вид, будто сплю, вдыхаю затхлый воздух, не обращаю внимания на храп, верчу в руках нож и гадаю, не решу ли воспользоваться им в одно прекрасное утро; я могла бы проиграть в голове все серии, могла бы стать собственной «смеховой» дорожкой, могла бы вспомнить все диалоги и прекрасные лица — вместо тебя. Я хочу забвение, которое досталось всем вам, снаружи; не хочу остаться в одиночестве, когда все исчезнут.
Я хочу. Хочу. Хочу. Я снова веду себя как ребенок, верно? Как плаксивая девчонка, которая думает, будто плохие вещи случаются только с плохими людьми, и боги справедливы.
Конечно, я бы не назвала Исаака плаксивой девчонкой, или невежественным мальчишкой, или неадекватным, или жалким лишь потому, что он верит, что мы спаслись, поскольку заслуживали спасения, что смерть — это кара, а жизнь — награда, что мы можем помнить только то, что захотим, а остальное забыть, что поскольку он нас спас, теперь наши жизни навечно принадлежат ему. Учителей больше нет, а если бы и были, нельзя научить спасителя человечества — сосуд, избранный самим Господом, — тому, чего он не хочет знать. Так что сам видишь, в этом прекрасном новом мире нет места для тебя. В этом мире дети берут то, что захотят, а прочие довольствуются объедками.
С любовью,
Хизер
* * *
Дорогой Джон,
я сказала, что не скучаю по тебе, и это правда. Но на самом гребаном деле я по тебе скучаю. А может, я скучаю по траху. Точка. Всего через неделю мы с Кризисом Среднего Возраста сольемся в священном счастливом браке, и можно было бы предположить, что мне уже не терпится. Ему так точно не терпится.
На вкус он как рыба.
Исаак все время болтает, какой это будет радостный день, но его глаза слишком печальны. Я вижу это, даже если все прочие не видят, потому что мне знакомо лицо человека, оставшегося за бортом.
Ему бы следовало к этому привыкнуть. Сначала собственная мамаша подкидывает его под дверь отцу Абрахаму, словно одну из паршивых бесплатных газетенок, которые сразу отправляются в помойку. Подбрасывает отцу, которого он никогда прежде не видел и который как раз готовится к Судному дню со своей ебанутой паствой.
Пацан использует ситуацию на полную катушку, объединяется с папочкой и заводит столь близкую дружбу с папиным приятелем наверху, что начинает слышать божественный шепот, затем становится спасителем, главным режиссером Судного дня, учит нас, как построить Ковчег и подготовиться к концу света, — и какова его награда, когда небеса обрушиваются на землю, как было обещано? Папочка тоже его бросает. Запирает пацана в земле обетованной со всеми прочими и валит с горы, чтобы погибнуть с грешными толпами. Предпочитает мир собственному сыну и утверждает, что так повелел Господь — намного действеннее, чем «потому что я так сказал».
А теперь Тереза тоже его бросила.
Не имеет значения, что она не хотела уходить; ее больше нет. Так он видит ситуацию.
Ничего не могу с собой поделать — мне его жаль. Я говорю: «Она тебе не подходила, Исаак», — и, к его чести, он не прикидывается, будто не понимает, что я имею в виду. Даже не пытается улыбнуться. «Я спас ей жизнь, — говорит он. — Разве этого не достаточно?» И знаешь что? Может, и достаточно. Все ведут себя так, словно любовь способна спасти кого угодно, но любовь спасает не от всего. И, быть может, мы все поняли наоборот, может, это спасение порождает любовь. Исаак спас нас — и нам следует любить его за это. Он спас нас — и теперь мы принадлежим ему. Так рассуждает парень, и нужно признать, в этом есть смысл. Именно это я ему и сказала.
Но мне не нравится, как он теперь на меня смотрит.
Без Терезы мне не у кого спросить, не разыгралось ли мое воображение. Насчет того, как его глаза следуют за мной, когда я иду по комнате. Насчет того, как он заметил, что я смотрю на него, и улыбнулся.
Я просто пыталась проявить доброту.
«Дорогой Джон, я бы хотела, чтобы ты был здесь», — полагаю, мне нужно сказать именно это, поскольку другой вариант — «я бы хотела, чтобы ты умер» (погиб от голода, или сгорел заживо, или был разорван дикими кошками), но здесь ты бы не знал, куда себя девать. Тебе бы не понравилось сидеть взаперти, пытаться что-то разобрать в помехах, криках и плаче, доносящихся из радио, жить в сплетении тел и облаке дурного дыхания, когда повсюду кожа, и пот, и бледные люди.
Теперь я такая же бледная, как и ты, бледная, и худая, и скучающая по солнцу. Ты всегда ругал меня за то, что я экономила на солнцезащитных кремах. Все мы от чего-нибудь умрем, отвечала я.
Я знаю, от чего умер ты. Конечно, знаю. Как думаешь, почему я так здорово играю в эту игру? Чем еще мне было заняться после нашей последней встречи, как не воображать твою смерть? Я видела ее во снах и просыпалась, чувствуя запах дезинфицирующего средства и блевоты, чувствуя твой вкус, не здорового тебя, а тебя в самом конце, и это вкус железа и резины, чего-то ядовитого. Иногда я представляла, будто почувствовала ее, некую флуктуацию во Вселенной, словно кто-то перерезал невидимую нить, что удерживала нас вместе, и некий невесомый груз поднялся или опустился — но вообще такие гребаные вещи ни хера нельзя почувствовать, так что, скорее всего, это была головная боль, или судороги в мышцах, или несварение, хотя всякий раз я думала, что, возможно, это ты.
Мне не нужно было находиться рядом, чтобы знать, как ты умер. Как усох. Твой труп представлял собой скелет, обтянутый кожей, но разбухший от жидкости. Беременный жидкостью. Ты накачался до такой степени, что не заметил указатель, решил, что собираешься только вздремнуть, а не уснуть навеки; до такой степени, что, быть может, увидел меня и улыбнулся, подумав, что не один. Но ты был один. И это я тоже знаю.
С любовью,
Хизер
* * *
Дорогой Осел,
полагаю, ты все-таки не закончишь тот роман. Господи, роман, роман, вечно этот гребаный роман. И куда мне понять такие вещи, телке, которая мыла твою грязную посуду, когда над ней начинали роиться мухи, ведь твой внутренний мир ограждал тебя от подобных вещей? Куда мне, глупому жвачному — настолько глупому, что пришлось искать «жвачное» в словаре, — постичь глубины твоего интеллекта, выкидыш твоего литературного величия, твои пасьянсы, которые, надо полагать, вели к некоему вселенскому эмоциональному катарсису? Если бы я считала, что ты действительно можешь написать роман, я бы задумалась, не сделаешь ли ты из меня персонажа, тупую пизду (РЕДАКТОРУ: очень желательно оставить данное устоявшееся выражение, но если совсем никак, можно заменить на тупую манду), которая вступила в секту. Я буквально слышу, как ты говоришь всем собравшимся в кафе приятелям-неудачникам: «Поверить не могу, что совал свой член в это гнездо безумия», — и потому я без всяких угрызений совести присвоила твой ноутбук, когда ты свалил.
Чтобы не быть наивными — а может, чтобы быть наивными, ведь, по твоему мнению, я больше ни на что не способна, — зададим вопрос: и кто теперь тупая пизда (манда)? Кто сидит в безопасности в бункере с богоизбранными людьми, а кто гниет в ожидании чужой кошки, которая полакомится твоими внутренностями, ведь свою ты так и не удосужился завести?
«Только не говори, что действительно веришь в эту чушь, — сказал ты мне после первых встреч. — Остается молить чертова несуществующего бога, что я не потратил впустую время на дуру, которая способна купиться на подобное».
И я сказала, еще в самом начале, потому что так было написано в брошюре: «это мое призвание» и «мне нужно покаяться, пока еще есть время», — но не сказала тебе то, что сказал отец Авраам: что «прощение возможно» и «Господь никогда не оставит тебя», — поскольку знала, что ты будешь смеяться, а я хотела верить, что это правда.
И в конце концов ты заявил: «я больше не могу выносить всю эту дурь» и «секс не стоит безумия», — а меня это устраивало, потому что в доме отца Авраама было много комнат и полно пустых кроватей, и почему так получилось, что всегда бросают меня, но именно мне приходится собирать вещи и выходить за дверь?
Я так и не ответила на твой вопрос.
Действительно ли я верила?
Действительно ли я верю?
Только тупая пизда (манда) не поверила бы в это. Отец и его сын сказали, что наступит конец света — и конец света наступил. Сказали, когда он наступит, и не ошиблись. Сказали, как его пережить, и вот она я. Авраам приютил нас на своей груди, Исаак построил ковчег — и вот мы плывем к спасению по морю проса, и автоматических винтовок, и фасоли.
Если бы я не верила, разве пошла бы туда и разве осталась бы?
Если я не верю, чем еще меня убедить?
«Атеизм — единственное честное интеллектуальное убеждение», — заявил ты, а я не стала спрашивать: что, если ангел спустился на землю, или телепророк раздвинул Красное море, или одиннадцатилетний пацан заявил, будто Господь сообщил ему, что мир погибнет, и так оно и случилось, — потому что было проще позволить тебе думать, что я не слушаю, когда ты говоришь. Быть может, если бы ты задал мне вопрос, я бы ответила. Если бы ты спросил, о ком я думаю, когда твой член во мне, и почему я настолько себя ненавижу, что позволяю ему там находиться, я бы рассказала тебе историю.
«Холокост, — сказал ты. — Геноцид армян. Руанда. Что за бог, и т. д., и т. п.»
«Все умирают, — ответила я. — Или в этом ты тоже винишь Его?»
Я не знаю. Вот мой ответ. Не знаю, верю ли я в Него, а потому не знаю, следует ли тревожиться насчет нарушенного обещания, данного Ему, но это риторический вопрос, потому что моя будущая «родная душа» пропала. Кризис Среднего Возраста сбежал в ночи вместе с усами, очевидно, предпочтя смерть вечности в моем обществе.
Это при условии, что он сбежал по своей воле. Очевидно, не в первый раз, но не будем забывать про Исаака, и про его взгляд, когда он сообщил о побеге, и про то, как он взял меня за руку и сказал, чтобы я не тревожилась об одиночестве, ведь у Бога есть на мой счет другие планы.
«Никогда не доверяй тому, кто говорит, что у Бога есть план», — сказал ты мне, и в этих словах есть смысл.
Я держу нож под подушкой, на всякий случай. У каждого из нас есть что-то свое — свой личный план спасения в чрезвычайной ситуации. Некоторые не могут смириться с утратой мира. «Что за бог?» — спросил ты, и теперь у нас есть ответ, и не каждый может с ним жить.
Мы сложили пазл из кусочков, подслушанных по радио. Что случилось в тот день, после того, как мы заперлись в Ковчеге. На что это было похоже, когда рухнуло небо. По радио говорят, это было прекрасно, ливень света, но они говорят так потому, что выжили. Я думаю, ты тоже выжил, по крайней мере, пережил первый удар, и, быть может, попытался написать об этом поэму: наконец-то хороший материал!
Я думаю, твой город не был стерт с лица земли, твой лофт не испарился. Ты слишком далеко от побережья, чтобы тебя смыло. Думаю, ты испытывал удовлетворение, пока еще мог что-либо испытывать. Ты не мог поверить в бога, который сделал «Пятьдесят оттенков серого» бестселлером, но бог, который испепелил двадцать миллионов человек и оставил тебя выбивать твою трубку, вырезанную вручную из кукурузного початка? Думаю, с этим богом ты смог бы примириться. Думаю, проблемы начались, когда полетели атомные бомбы — «Хаос рождает хаос, — любил говорить ты, набивая трубку, — достаточно одного безумца с ядерным кодом, которому нечего терять», — а раз не осталось неба, чего еще лишаться? Думаю, ты получил полную дозу, и твоя кожа начала отваливаться кусками, ты выблевывал все свои внутренности, пока не превратился в пустой мешок, ты стал зомби, стонущим чешуйчатым зомби, радиация пожрала твой мозг вместе со всем прочим, и, думаю, ты пытался убить себя, выпив кружку чернил для авторучки, потому что считал эту смерть романтичной, но чернила ты тоже выблевал и умер, умоляя своего несуществующего гребаного бога прекратить боль.
С любовью,
Хизер
* * *
Дорогой Без-Обязательств,
это было бы нехилое гребаное обязательство, наш ребенок. Наш выкидыш, комок наших клеток, наши медицинские отходы. Даже не обязательство, а якорь. Из тех, что используют на кораблях. Ржавый, неприятный на ощупь, провонявший рыбой. Наверное, следовало сказать: из тех, что использовали.
К этому трудно привыкнуть.
Ты мог бы и не говорить, что он тебе не нужен. Что как только он оказался внутри меня, я тоже стала тебе не нужна, вне зависимости от того, насколько быстро от него избавилась. Ты мог бы и не говорить, что из меня получится паршивая мать.
Все это я знала и без тебя.
Ты мог не платить за это — и не стал. Но мог бы хотя бы предложить.
Действительно ли из меня получилась бы паршивая мать? Полагаю, у меня будет шанс выяснить, если я останусь здесь.
Тебе нравится, как я выразилась? Если я останусь. Избыточное если, вроде «встретимся завтра за кофе, если солнце взойдет; мне будет больно, когда это закончится, если закончится».
Если сила тяжести действует, я разобьюсь, когда ударюсь о землю.
Плодитесь и размножайтесь, таков план. Взращивайте бункер до тех пор, пока не сможете его покинуть. Заселите Землю. Не сейчас, говорит Исаак, но скоро.
Про нас двоих он тоже это говорит. Скоро. Мы не поженимся сегодня, вместе с остальными. Мы подождем, пока ему исполнится тринадцать, а потом соединимся. Соединимся во всех смыслах.
Я сказала ему, что достаточно стара, чтобы быть его матерью, хотя не добавила, что не нужно быть Фрейдом, чтобы увидеть связь. Сказала, что ни к чему спешить. Что у него уйма времени, чтобы стать мужчиной.
Он сказал мне не разговаривать с ним как с ребенком.
Сказал, что я его понимаю, и мы полюбим друг друга. Господь об этом позаботится.
Сказал, что Господь желает, чтобы у него родился сын.
Весьма вероятно, что он сочиняет всю эту херню, но я не сомневаюсь, что он сам в нее верит. Что ничуть не лучше.
Если ты не веришь Исааку и скажешь об этом вслух, тебя выставят за дверь.
Если ты не будешь выполнять свои обязанности, тебя выставят за дверь.
Если ты согрешишь против Господа или какое-нибудь трепло обвинит тебя в этом, потому что хочет завладеть твоими припрятанными шоколадными батончиками, тебя выставят за дверь.
Будь я матерью, я бы позаботилась о том, чтобы моя дочь знала: нужно делать то, что приходится. Даже если это означает позволить пацану вставить тебе, вытерпеть один рывок, содрогание, сперму, обмякший член, слезы.
Да, я думала об этом. Я думаю об этом.
Но, возможно, если бы я была матерью, я бы спрятала девочку под курткой, выскользнула бы из Ковчега и вырастила ее снаружи. Возможно, родившись после конца света, она сможет приспособиться и выжить. Или я могла бы оставить ее, когда буду уходить — если буду, — оставить в безопасности там, где о ней будут заботиться, пусть и не любить, могла бы позволить ей принять жизнь такой, какой она должна быть, вместо того чтобы нашептывать дочери на ухо, что следует желать большего, что когда-то жизнь была чем-то большим.
А может, Исаак прав, и Господь организует мне сына.
С любовью,
Хизер
P.S.: Думал, я забыла? Полагаю, когда ты отчаялся достаточно, чтобы отобрать еду у соседки, которая не желала делиться, тебя пристрелили, и ты умер, размазывая кишки по земле, лопоча от изумления. Очевидно, соседка теперь тоже мертва, та самая, за которой ты шпионил в бинокль, делая вид, будто наблюдаешь за птицами, ведь тебе нравилось смотреть, как покачиваются ее обнаженные пышные формы, хотя ты постоянно твердил, что я должна сбросить вес. Не ради внешности, говорил ты. Ради здоровья.
* * *
Дорогой парень в футболке «Arcade Fire» с пятном на воротничке,
ты был милым. Больше я почти ничего не запомнила. Ты купил мне выпивку, но не слишком много, и ничего не сказал, когда я заказала еще.
Я помню, что тебя только что уволили, однако ты взял пропуск у приятеля, чтобы пробраться в здание и забрать файлы. Ты пригласил меня с собой, но мы не пошли в твою печальную, заброшенную кабинку за остатками твоей прежней жизни. Ты не пожелал заняться сексом на диване начальника или обосрать его письменный стол. Ты захотел показать мне крышу, потому что «оттуда открывался лучший вид на город», а я выглядела как человек, которому не повредит хороший вид.
Я немного боялась, что ты окажешься человеком, которому не повредит хороший прыжок с крыши.
Мне бы хотелось запомнить ощущение твоих рук, обхвативших меня, когда мы стояли возле перил и смотрели на мерцавшие в ночи огоньки, но я помню только, что словно очутилась на палубе корабля, а передо мной горели в темном море упавшие звезды.
Я подумала: Может, это он.
Может, это случилось.
Потому что именно так думаешь после правильной дозы алкоголя, когда чьи-то руки и губы кажутся правильными и кто-то кажется хорошим человеком. Впрочем, последнее необязательно.
Кто-то — лучше, чем никого.
Это сказал мне Исаак, потому что он не хочет, чтобы я уходила, как Тереза, не хочет заставлять меня уходить. «Неужели со мной будет так плохо?» — спросил он, и лучше бы не спрашивал, ведь этот вопрос был таким детским. Он сказал, что у меня есть день на размышления, прежде чем пообещать себя ему. Сказал, что проявляет великодушие, потому что я ему нравлюсь.
Мне всегда хотелось спросить, знает ли он, почему его бросила мать, важно ли для него, имелась ли у нее на то причина.
Не то чтобы в причине было что-то особенное. Причины есть у каждого.
Будет ли с ним так плохо? Он не останется тринадцатилетним навсегда — но навсегда останется моим.
Я думала, что люблю всех вас — даже тебя, пускай всего на одну ночь, — но никто из вас не смог меня спасти. А Исаак смог, и, быть может, он прав: быть может, я должна любить его, быть может, именно так это и работает.
На этот раз он совершил мудрый выбор, словно сумел заглянуть мне в душу.
Я — девушка, которая остается.
Я — девушка, которая говорит: Да, если хочешь.
Все, что угодно.
Только не бросай меня.
У тебя не было времени выяснить это — и не было времени проверить. А может, и было. Я не помню.
Я могла рассказать тебе правду, всю правду о себе; ты мог поведать мне то, о чем никогда никому не рассказывал, тайны, делавшие тебя тем, кем ты был; мы могли решить, что эта ночь — начало всех начал; ты мог читать стихи, а я — тексты всех известных мне песен С+С Music Factory, которых насчитывается ровно три, потому что мы могли хотеть произвести друг на друга впечатление, и это могло сработать; мы могли ограничиться поцелуем, словно герои скучного фильма, могли решить, что раз «Голливуд» считает это романтичным, лучше не спешить, ведь в нашем распоряжении все время мира; мы могли потрясти Землю. Я не помню — точно так же, как на следующий день не могла вспомнить твое имя или адрес твоего офиса, что не имело значения, потому что я дала тебе свой телефон; вроде бы это я точно запомнила, но ты так и не позвонил, а значит, я в чем-то ошиблась.
Думаю, ты умер в самом начале, взмыл светом к небесам, слился с падшими звездами. Надеюсь, это действительно было красиво.
С любовью,
девушка в лаймово-зеленой мини-юбке, которая хотела увидеть небо
* * *
Дорогой Джон,
вот что я бы написала, если бы написала хоть что-нибудь. Дорогой Джон, так будет лучше. Дорогой Джон, это все равно случится, сейчас или потом, и лучше пусть случится сейчас. Дорогой Джон, ты не поверишь, но я делаю тебе одолжение. Дорогой Джон, можешь меня ненавидеть, потому что я тоже тебя ненавижу. Ты говорил, что никогда меня не бросишь, а теперь бросаешь, так что не пытайся обвинить меня в том, что я бросила тебя первой. Дорогой Джон, не умирай, и, быть может, однажды я вернусь.
Сам видишь, почему я не оставила записки.
Твоя мать отвела меня в сторону. Не в тот первый день в больнице — тогда было слишком много слез, сплошные слезы и комканье носовых платков у твоей постели. «Неестественно, когда мать теряет сына», — все время твердила она, будто это не было самой естественной вещью в мире, будто не этим матери занимаются каждый день, будто не поэтому она меня ненавидела, что бы ты ни говорил. После того первого дня, но до конца недели, прежде чем я отправилась домой, чтобы собрать для тебя чемодан побольше, потому что мы оставили позади стадию вещевых мешков и приобрели новый статус путешественников с долгосрочной визой в царстве болезни, так вот, в какой-то момент она отвела меня в сторону. Ты с этим не справишься, сказала она. Думаешь, что справишься, но это не так. Она считала, что раз ее муж скончался, значит, ей известно, что делать; считала, что раз ты время от времени звонил ей и жаловался, что я не мою посуду, раз однажды, думая, что я сплю с официантом, ты по глупости рассказал ей, почему я не общаюсь с родственниками, и почему не поступила в колледж, и как зарабатывала на квартиру в тот год, что провела в Л.А., — по всем этим причинам она считала, будто знает меня.
Она сказала: тебе с этим не справиться, а раз ты не можешь справиться, лучше уйти сейчас. Я могу справиться с этим, сказала она, имея в виду: он мой. Ты — никто, а он — мой. Возможно, она никогда тебе этого не говорила, а значит, ты так и не узнал, что отчасти вина лежала на ней. Она сделала меня слабой. Ведьма, как я всегда и утверждала. Наложила на меня проклятие, и оно сбылось.
Я девушка, которая остается, — но почему-то я ушла.
Ушла прежде, чем ты успел меня бросить, и так же поступила с миром: оставила его умирать в одиночестве, закрылась на все замки, устроилась возле радио и принялась слушать, как он отправляется ко всем чертям.
Я не думаю о миллионах людей, которые погибли. Я думаю о тебе и о том, действительно ли у тебя выпали волосы и как ты без них выглядел. О том, как мы убивали бы время, пока твои вены накачивали ядом, играли бы в скрэббл или «Тривиал персьют», а может, тебе бы удалось заставить меня почитать вслух, даже дерьмовые стихи, которые, как ты прекрасно знаешь, я ненавижу. Сколько еще раз ты сделал бы мне выговор за то, что я обкусываю ногти? Сколько раз я бы забралась к тебе в постель, просунула бы руку под трубочки и твою ночную рубашку и гладила бы холодную жилистую плоть, пока ты не выдохнешь: «О да, спасибо!» — всегда вежливый, даже в подобный момент?
«Я никогда не покину тебя», — сказал Исаак, и, конечно, я слышала это и прежде, но никто не вкладывал в эти слова такой смысл. В этой жизни и в следующей. Тебе никогда не придется быть одной. Я обещаю.
Он верит в свое слово. Он не увидит tohu va vohu в моем сердце и не догадается, что я — девушка, которой суждено быть брошенной, не любимой. Он не уйдет. Я верю, что он верит в это, и сама почти верю, что так оно и есть.
«Я обещаю тебе вечность, — сказал он. — Разве не этого ты хочешь? Разве не этого хотим мы все?»
Если любишь, люби меня вечно — сказочная любовь, сказочные «долго и счастливо», вот во что он верит, как и положено, ведь он еще ребенок.
Вот во что я верила все эти годы, вот чего желала, а теперь, когда ребенок хочет подарить мне это, я думаю, что, быть может, пришла пора повзрослеть.
Потому что все уходят. Но не все уходы одинаковы.
Не все расставания одинаковы.
Не все расставания неправильны, и не всегда в них есть чья-то вина. Может, твой уход не означал, что меня недостаточно.
Может, мне следовало дождаться, пока ты меня покинешь, а не уходить первой.
Иногда я гадаю, что, если? Что, если случилось чудо. Ремиссия. Исцеление. Что, если через пять минут после моего ухода ты сел, сорвал кислородную маску, и сила хлынула по твоим жилам, убивая опухоли. Что, если ты позвал меня, но я уже ушла.
Я позволяю себе воображать, что ты где-то есть, и если уж ты получил одно чудо, почему не два? Почему не достаточно чудес, чтобы пережить падение неба и его последствия? Ты мог бы возглавить храбрый отряд выживших, что странствует по сельской местности, поедая грибы и коз, мог бы стать голливудским героем, одержавшим победу над богом и природой, хоть сейчас на телеэкран. Ты мог бы загореть, стать сильнее, чем прежде, — мускулы бугрятся под рваной одеждой, волосы сияют золотом, как всегда под конец лета, — и будь ты жив, будь ты чудом, я бы знала, что так тому и суждено. Ты бы не остался один, не искал бы, где спрятаться, не съежился бы в укрытии, выжидая, пока завершатся трудности. Тебе не понадобился бы нож под подушкой, ты не думал бы сбежать от мира. Ты бы уперся ногами в землю, воздел бы кулак к расколотым небесам, крикнул бы: «Это принадлежит мне, и вы это не получите!» — а потом отправился бы на поиски выживших, чтобы сотворить мир заново. Может, отправился бы на поиски меня. Может, ты ищешь меня сейчас.
Может, мне следует выйти тебе навстречу. Может, я говорила серьезно, когда сказала: «Не умирай».
Не умирай, и, быть может, однажды я вернусь.
Я могла бы уйти отсюда. Ускользнуть в ночи. Могла бы найти тебя, в лесу, или в пещере, или в разрушенном торговом центре, где ты рыщешь в поисках снаряжения под взглядами манекенов в туристическом магазине и грызешь засохшие батончики из мертвого автомата. Это тоже было бы чудом, но в новом мире все чудесно. Мужчина разглядел на горизонте апокалипсис; мальчик прислушался к слову Божьему и построил Ковчег; я пришла к ним, потому что считала, будто заслуживаю смерти, и благодаря этому выжила. Этот новый мир кишит чудесами. Что для него еще одно чудо?
Я знаю, что ты мертв. Вполне вероятно, что, уйдя отсюда, я тоже умру, и скоро. Это меня сжуют бывшие обитатели зоопарка в разросшемся лесу, это я провалюсь в выгребную яму и полечу к центру Земли, изнасилованная веселой ордой анархистов или убитая выстрелом в спину из-за моих туфель и фляги. Но прежде чем это произойдет, я снова увижу небо и снова пройдусь под дождем. Попробую на вкус траву и воздух, и мне больше не придется воображать разрушенные города и гниющие трупы, потому что я увижу их собственными глазами. Мне не придется воображать, и представлять, и гадать, и просыпаться, ощущая привкус крови и тлена, и, быть может, вернувшись к миру, я перестану мечтать о нем. Может, я даже узнаю, что снаружи не так плохо, как мы думали. Может, мир вовсе не покинул нас, не навсегда, пока нет, и еще есть время попрощаться или сотворить очередное чудо.
Может, мне не нужно быть девушкой, которая остается, потому что боится противостоять тому, что снаружи, в одиночку. Может, не нужно говорить: «Ладно, конечно, все, что угодно, только не бросай меня, только не уходи». Может, я могу уйти сама — или могу вернуться, могу выбрать. Может, вечность вместе хуже одиночества. Может, вечность вообще ни при чем.
С любовью,
Хизер
* * *
Дорогой Исаак, прости меня.
Если буду жива, когда мир кончится по-настоящему, может, я вернусь. Иногда люди возвращаются.
С любовью,
Хизер
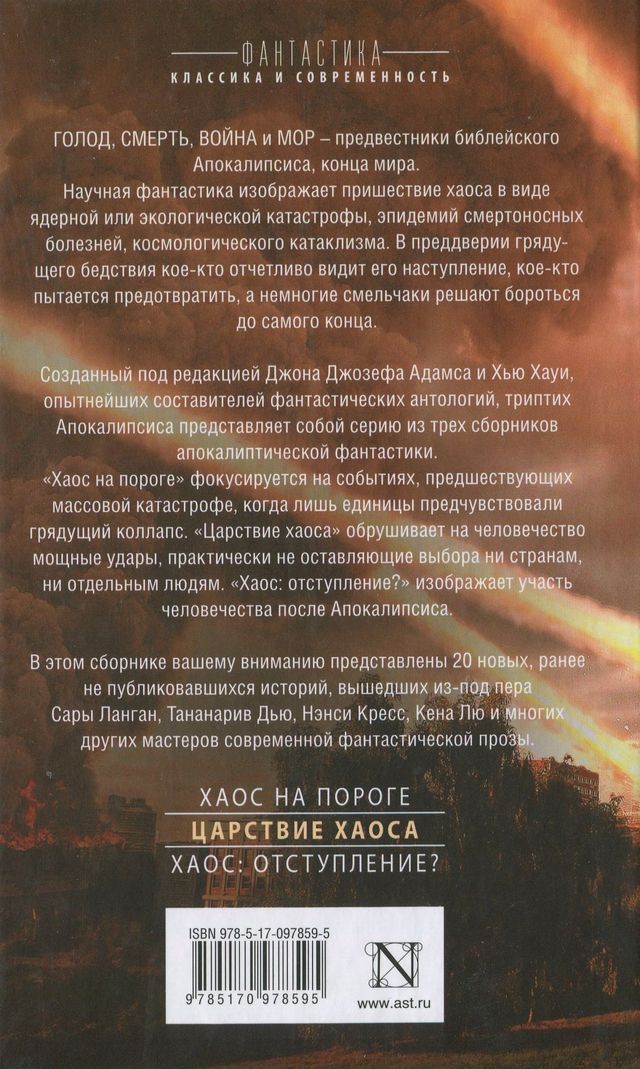
notes
Назад: РОБИН ВАССЕРМАН
Дальше: 1

