Книга: В поисках кота Шредингера. Квантовая физика и реальность
Назад: Глава пятая Фотоны и электроны
Дальше: Глава седьмая На кухне с квантом
Глава шестая
Матрицы и волны
Вернер Гейзенберг родился в Вюрцбурге 5 декабря 1901 года. В 1920 году он поступил в Мюнхенский университет, где изучал физику под руководством Арнольда Зоммерфельда, который был одним из ведущих физиков своего времени и принимал деятельное участие в развитии модели атома Бора. Гейзенберг сразу же погрузился в исследования по квантовой теории и поставил себе задачу найти квантовые числа, которые могли бы объяснить расщепление спектральных линий на пары или дублеты. За несколько недель он нашел ответ – весь процесс можно объяснить, используя полуцелые квантовые числа. Молодой студент, у которого не было предубеждений, нашел самое простое решение проблемы, однако его коллеги и учитель Зоммерфельд пришли от этого в ужас. Зоммерфельд был погружен в модель Бора, и для него целые квантовые числа были аксиомой, поэтому он быстро отверг идеи молодого студента. Страх ученых заключался в том, что, если ввести в уравнения полуцелые значения, это откроет путь к четвертичным, затем к 1/8, 1/16 или так далее, что уничтожит фундамент квантовой теории. Но они ошибались.
Через несколько месяцев взрослый и более опытный физик Альфред Ланде выдвинул ту же идею и опубликовал ее. Позже выяснилось, что полуцелые квантовые числа исключительно важны для полноценной квантовой теории и играют ключевую роль в описании спина электрона. Частицы, имеющие целый или нулевой спин (например, фотоны), подчиняются статистике Бозе – Эйнштейна, тогда как имеющие полуцелый спин (1/2, 3/2 и так далее) подчиняются статистике Ферми – Дирака. Полуцелый спин электрона напрямую связан со структурой атома и Периодической таблицей химических элементов. Верным остается то, что квантовые числа изменяются только на целое число, но переход от 1/2 к 3/2 или от 5/2 к 9/2 настолько же допустим, как и переход от 1 к 2 или от 7 к 12. Таким образом Гейзенберг упустил шанс записать на свое имя эту идею в квантовой теории, однако суть в том, что молодые умы, необходимые при создании квантовой теории, в 1920-х потребовались вновь, ведь молодые люди не были отягощены «всем известными» существующими представлениями и готовы были сделать следующий шаг вперед. Гейзенберг, разумеется, впоследствии реабилитировал себя.
Проработав семестр под руководством Борна в Геттингене, где он посетил знаменитый «Фестиваль Бора», Гейзенберг вернулся в Мюнхен и в 1923 году, когда ему не было еще и двадцати двух, получил докторскую степень. Так же не по годам развитый бывший ученик Зоммерфельда и близкий друг Гейзенберга Вольфганг Паули в то время как раз дорабатывал последние месяцы в качестве ассистента Бора в Геттингене, и в 1924 году Гейзенберг сменил его на этом посту. Эта позиция дала ему возможность несколько месяцев поработать с Бором в Копенгагене, и к 1925 году этот талантливый физик стал больше, чем кто-либо, способен разработать логичную квантовую теорию, которой так ждали физики – хоть и не в такие сжатые сроки.
Прорыв Гейзенберга был основан на идее, заимствованной у научной группы в Геттингене, – никто теперь не знает, кто выдвинул ее первым. В соответствии с ней физическая теория должна рассматривать лишь то, что можно наблюдать экспериментально. Идея может показаться банальной, но при этом она является прорывной. Например, опыт «наблюдения» за электронами в атоме не дает нам картину маленьких твердых шариков, вращающихся вокруг ядра, ведь невозможно увидеть орбиту, а наблюдения спектральных линий показывают нам, что происходит с электронами, когда они переходят с одного энергетического уровня (или, говоря словами Бора, орбиты) на другой. Все наблюдаемые свойства электронов и атомов показывают два состояния, и понятие орбиты по сути приклеено к наблюдениям посредством аналогии с тем, как происходит движение в повседневном мире (вспомните о хливких шорьках). Гейзенберг избавился от сумятицы повседневных аналогий и принялся упорно работать над математическим описанием не одного «состояния» атома или электрона, а связей между парами состояний.
Прорыв в Гельголанде
Часто рассказывают о том, что в мае 1925 года Гейзенберга поразил сильный приступ аллергии, из-за чего он отправился на скалистый остров Гельголанд, чтобы восстановить свои силы. Там он досконально проанализировал с этих позиций все, что было известно о поведении квантов. На острове Гейзенберга ничего не отвлекало, и, после того как аллергия прошла, он смог погрузиться в эту проблему. В своей автобиографической книге «Физика и не только» он описал свои чувства в тот момент, когда числа начали занимать свое место, и рассказал, что однажды в три часа ночи он «больше не смог усомниться в математической цельности и логичности той квантовой механики, на которую указывали [его] расчеты». Он пишет: «Сперва я пришел в возбуждение. У меня возникло такое чувство, словно через призму атомных феноменов я смотрел на их удивительно прекрасную глубину. У меня едва не кружилась голова от того, что теперь мне нужно было исследовать это богатство математических структур, которое так щедро открыла мне природа».
Вернувшись в Геттинген, Гейзенберг три недели готовил свою работу, приводя ее в формат, пригодный для публикации. В первую очередь он отправил ее копию своему старому другу Паули, спросив его, имело ли все это какой-то смысл. Паули встретил статью восторженно, но Гейзенберг был измотан своими исследованиями и сомневался, готова ли работа к публикации. В июле 1925 года он оставил работу Борну, позволив тому распорядиться ею на собственное усмотрение, и отправился дать серию лекций в Лейдене и Кембридже. По иронии судьбы там он решил не рассказывать слушателям о своих новых открытиях, и ученым пришлось ждать, пока новости дойдут до них по старым каналам.
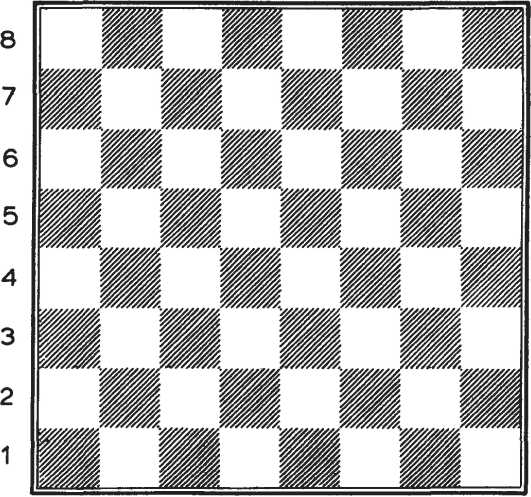
Рис. 6.1. Каждую клетку шахматной доски можно обозначить комбинацией буквы и цифры, например b4 или f7. Квантовомеханические состояния также определяются парами чисел.

Рис. 6.2. «Состояние» каждой из клеток шахматной доски определяется шахматной фигурой, которая занимает эту клетку. На этом рисунке пешка обозначена как 1, ладья – как 2 и так далее. Положительные числа – это белые фигуры, отрицательные – черные. Изменение состояния всей доски можно описать фразой вроде «пешка на четверку ферзя» или алгебраическим выражением е2 – е4. Квантовые переходы описываются таким же выражением, связывающим парные (начальное и конечное) состояния. Ни в том, ни в другом случае мы не получаем никакой информации о том, как именно происходит переход из одного состояния в другое, – взгляните хотя бы на движение коня по доске или на рокировку. Продолжая аналогию с шахматами, мы можем представить минимально возможное изменение на доске, е2 – е3, соответствующим добавлению одного кванта энергии hv, в то время как «переход» е3 – е2 будет соответствовать испусканию такого же кванта энергии. Аналогия эта неточна, но она показывает, как по-разному можно передать на письме одно и то же событие. Гейзенберг, Дирак и Шрёдингер таким же образом обнаружили различные формы математической записи для описания одних и тех же квантовых событий.
Борну статья понравилась, и он отправил ее в Zeitschrift für Physik, практически немедленно осознав, на что натолкнулся Гейзенберг. Математические расчеты, в которых задействованы два состояния атома, невозможно проводить с обычными числами – для них необходимы массивы чисел, которые Гейзенберг представил в форме таблиц. Здесь лучше всего провести аналогию с шахматной доской. На доске 64 клетки, то есть каждую из них можно обозначить числом от 1 до 64. Однако шахматисты предпочитают использовать другую схему, обозначая «столбцы» клеток буквами а, b, с, d, е, f, g, h, а «строки» – цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Таким образом каждая из клеток на доске может быть обозначена уникальной парой идентификаторов: а1 – это начальная клетка ладьи, g2 – начальная клетка коневой пешки и так далее. Таблицы Гейзенберга, как шахматная доска, представляли собой двумерные массивы чисел, поскольку его расчеты были основаны на двух состояниях атомов и их взаимодействии. Эти расчеты предполагали, помимо прочего, перемножение двух таких наборов чисел, или массивов, и Гейзенберг старательно определил верные математические способы для этого. Но результат получился очень любопытным и столь загадочным, что он стал одной из причин, по которым Гейзенберг сомневался, стоит ли публиковать свои расчеты. При перемножении массивов получается «ответ», который зависит от того, в каком порядке осуществляется перемножение.
Это очень странно. Это все равно что сказать, что 2 × 3 не равняется 3 × 2, или, говоря алгебраически, a × b ≠ b × a. Борн день и ночь размышлял об этой особенности, уверенный, что за ней скрывалось что-то фундаментальное. Неожиданно его озарило. Математические массивы и таблицы чисел, столь усердно составленные Гейзенбергом, уже были известны в математике. Существовали все расчеты для таких чисел – они назывались матрицами, и Борн изучал их в самом начале XX века, когда учился в Бреслау. Неудивительно, что более двадцати лет спустя он вспомнил об этой туманной ветви математической науки, ведь матрицы обладают одним свойством, которое всегда производит неизгладимое впечатление на студентов, впервые сталкивающихся с ними: получаемый при перемножении матриц результат зависит от порядка, в котором осуществляется перемножение, или, говоря математическим языком, матрицы не коммутируют.
Квантовая математика
Летом 1925 года, работая с Паскуалем Йорданом, Борн развил основы того, что сейчас называется матричной механикой. Вернувшись в сентябре в Копенгаген, Гейзенберг издалека присоединился к ученым, и в письмах они приступили к созданию исчерпывающей научной работы по квантовой механике. В этой работе, гораздо более ясной и наглядной, чем первая статья Гейзенберга, три автора подчеркнули фундаментальную важность некоммутативности квантовых переменных. В совместной работе с Йорданом Борн уже вывел равенство pq – qp = ħ/i, где p и q – это матрицы, представляющие собой квантовые переменные, квантовый эквивалент импульса и положения. Постоянная Планка фигурировала в новом уравнении вместе с ί, квадратным корнем из минус единицы. В работе, которая стала известна как «статья трех», команда из Геттингена обратила внимание на то, что это «фундаментальное квантово-механическое равенство». Но что это значило с точки зрения физики? Постоянная Планка к этому времени была уже достаточно знакома ученым, как и уравнения с участием ί (в которых уже содержался намек на будущее, ведь такие уравнения обычно включали в себя колебания, или волны). Но матрицы в 1925 году были совершенно незнакомы большинству математиков и физиков, а потому некоммутативности казалась им столь же странной, сколь странной казалась постоянная Планка их предшественникам в 1900 году. Для тех, кто мог разобраться с математикой, результаты были поразительными. Ньютонианская механика уступила место похожим уравнениям, в которых были задействованы матрицы, и, как выразился Гейзенберг: «Было очень странно выяснить, что многие старые следствия ньютонианской механики вроде сохранения энергии и т. n. можно было вывести и с применением новой схемы». Другими словами, матричная механика включала в себя ньютонианскую механику точно так же, как уравнения теории относительности Эйнштейна в качестве особого случая включали в себя ньюто-нианские уравнения. К сожалению, с математикой разобрались немногие, и большинство физиков не сразу осознало, насколько значительный прорыв совершил Гейзенберг вместе с геттингенской группой. Однако не обошлось и без исключения, которое обнаружилось в английском Кембридже.
Поль Дирак был на несколько месяцев младше Гейзенберга; он родился 8 августа 1902 года. Обычно его считают единственным английским теоретиком масштабов Ньютона, ведь именно он разработал самую полную форму науки, которая теперь называется квантовой механикой. И все же он обратился к теоретической физике только после того, как в 1921 году окончил Бристольский университет, получив диплом инженера. Дирак не смог сразу найти работу по специальности, и ему предложили поступить в Кембридж, чтобы изучать математику, но от этого предложения он вынужден был отказаться из-за нехватки денег. Оставшись с родителями в Бристоле, он – благодаря инженерному образованию – освоил трехлетний математический курс всего за два года и в 1923 году стал бакалавром прикладной математики. Теперь он наконец-то мог отправиться в Кембридж и заняться исследованиями, получив грант от Отдела научных и промышленных исследований, – и только прибыв в Кембридж, он впервые услышал о квантовой теории.
Итак, в июле 1925 года, когда Дирак попал на лекцию Гейзенберга в Кембридже, он был никому не известным и неопытным аспирантом. Хотя Гейзенберг тогда не рассказал аудитории о своей работе, он упомянул о ней в разговоре с научным руководителем Дирака Ральфом Фаулером и в итоге в середине августа послал ему копию статьи, до того как она вышла на страницах Zeitschrift für Physik. Фаулер передал статью Дираку, который первым ознакомился с ней за пределами Геттингена (не считая друга Гейзенберга Паули), получив шанс изучить новую теорию. В этой первой статье Гейзенберг хотя и указал на некоммутативность переменных в квантовой механике, то есть матриц, не развил свою идею, ходя вокруг да около. Разобравшись с уравнениями, Дирак быстро оценил фундаментальное значение простого факта, что a × b ≠ b × a. В отличие от Гейзенберга, Дирак уже знал математические величины, которые вели себя таким образом, и за несколько недель смог переработать уравнения Гейзенберга с позиции той ветви математики, которую за век до этого развил Уильям Гамильтон. По величайшей иронии научной судьбы уравнения Гамильтона, нашедшие свое применение в квантовой теории, отказавшейся от концепции орбит электронов, в XIX веке были выведены в значительной степени для того, чтобы использоваться при расчете орбит тел в системе – например, в Солнечной системе, где находится несколько взаимодействующих друг с другом планет.
Итак, отдельно от геттингенской группы Дирак открыл, что уравнения квантовой механики имеют ту же математическую структуру, что и уравнения классической механики, и что классическая механика является частным случаем квантовой и соответствует большим квантовым числам или постоянной Планка, равной нулю. Следуя в собственном направлении, Дирак нашел другой путь математического выражения динамики с использованием особой формы алгебры, которую он назвал квантовой алгеброй, предполагающей сложение и перемножение квантовых переменных, или «чисел q». Эти числа q представляют собой странные величины – не в последнюю очередь потому, что в математическом мире, построенном Дираком, невозможно сказать, какое из двух чисел а и b больше: идея о том, что одно из чисел должно быть больше или меньше другого, просто не находит себе места в этой алгебре. И все же законы этой математической системы в точности соответствовали наблюдениям за атомными процессами. И снова верным будет сказать, что квантовая алгебра включает в себя матричную механику, но отвечает помимо нее за многое другое.
Фаулер сразу же понял значение работы Дирака, и в декабре 1925 года по его настоянию ее опубликовали в сборнике Proceedings of the Royal Society. Помимо прочего, в нее в качестве неотъемлемого компонента новой теории вошли полуцелые значения квантовых чисел, которые несколькими годами ранее не давали покоя Гейзенбергу. Дирак отправил копию работы Гейзенбергу, и тот не скупился на похвалы: «Я с огромным интересом прочитал вашу невероятно прекрасную статью по квантовой механике. Нет никаких сомнений в том, что ваши результаты верны… [Эта статья], несомненно, написана лучше и является более полной, чем наши изыскания». В первой половине 1926 года Дирак развил свою теорию в четырех исчерпывающих статьях, и все вместе они стали основой его докторской работы, за которую он и получил заслуженную степень. В то же время Паули использовал матричные методы, чтобы точно предсказать серию Бальмера для атома водорода, и к концу 1925 года стало очевидно, что разделение некоторых спектральных линий на дублеты получало лучшее объяснение при добавлении электрону нового свойства, называемого спином. Кусочки мозаики встали на свои места: различные математические средства, использованные разными толкователями матричной механики, явно представляли собой всего лишь различные аспекты одной и той же реальности.
И снова здесь могут помочь шахматы. Есть несколько способов описать шахматную партию на бумаге. Первый – напечатать наглядную «шахматную доску» с обозначенными позициями всех фигур, но для записи всей партии понадобится очень много места. Второй – называть передвигаемые фигуры: «Королевская пешка на четверку королевской пешки». А в самой краткой алгебраической записи тот же самый ход фиксируется как «d2 – d4». Три разных описания снабжают нас одинаковой информацией о случившемся в реальном мире событии – переходе пешки из одного «состояния» в другое (и, как и в квантовом мире, мы ничего не знаем о том, как именно пешка переходит из одного состояния в другое, – это еще более очевидно в случае с движением коня). Разные формулировки квантовой механики подобны этому. Квантовая алгебра Дирака стала самой изящной и «красивой» с математической точки зрения, в то время как матричные методы, развитые Борном и его коллегами вслед за Гейзенбергом, более громоздки, но от этого не менее эффективны.
Некоторые из наиболее поразительных ранних результатов Дирака появились тогда, когда он попытался включить в свою квантовую механику специальную теорию относительности. Вполне довольный идеей о том, что свет распространяется в виде частиц (фотонов), Дирак с радостью обнаружил, что, включая в свои уравнения, помимо прочего, время в качестве числа q, он неизбежно приходил к «предсказанию», что атом должен отскакивать в сторону, испуская свет, как будто бы свет распространялся в форме частиц, имеющих собственный импульс. Таким образом он разработал квантово-механическое толкование эффекта Комптона. Расчеты Дирака делились на две части: численные манипуляции с числами q и толкование уравнений с позиции того, что можно наблюдать физически. Этот процесс идеально соответствует тому, как природа, казалось бы, «делает расчет», а затем дает нам наблюдаемое явление – скажем, переход электрона, – но, к сожалению, вместо того чтобы полностью развить эту идею, после 1926 года физики отвлеклись от квантовой алгебры, так как их вниманием завладело открытие еще одного математического метода, который мог разрешить давние проблемы квантовой теории, – волновой механики. Матричная механика и квантовая алгебра отталкивались от представления об электроне как о частице, совершающей переход из одного квантового состояния в другое. Но что насчет предположения де Бройля о том, что электроны, как и другие частицы, нужно рассматривать и как волны?
Теория Шрёдингера
В те дни, когда матричная механика и квантовая алгебра совершали свой относительно негромкий дебют на научной сцене, в сфере квантовой теории происходило еще множество всего интересного. Казалось, европейская наука бурлила от идей, для которых настало подходящее время: тут и там появлялись всевозможные концепции, всплывавшие не всегда в логичном порядке и зачастую «открываемые» одновременно разными учеными. К концу 1925 года уже появилась теория де Бройля о волнах электрона, но окончательные эксперименты, которые бы доказали волновую природу электрона, еще не были проведены. Независимо от работы Гейзенберга и его коллег это привело к другому открытию – квантовой математике, основанной на волновой идее.
Эта идея исходила от де Бройля через Эйнштейна. Работа де Бройля могла годами оставаться незамеченной – ее бы считали не более чем интересным математическим трюком, не имеющим под собой физического основания, – если бы на нее не обратил внимания Эйнштейн. Именно Эйнштейн рассказал об этой идее Борну и тем самым запустил экспериментальную работу, которая доказала реальность волн электрона. Именно в одной из статей Эйнштейна, опубликованной в феврале 1925 года, Эрвин Шрёдингер прочитал отзыв ученого о работе де Бройля: «Уверен, это не просто аналогия». В то время физики внимали каждому слову Эйнштейна, и упоминания идеи де Бройля в статье этого великого человека Шрёдингеру хватило для того, чтобы начать исследование с целью выявить следствия принятия ее на веру.
Шрёдингер выделялся из физиков, стоявших у истоков новой квантовой теории. Он родился в 1887 году и внес свой главный вклад в науку в возрасте тридцати девяти лет – весьма солидном для оригинального научного исследования такой значимости. Он получил докторскую степень еще в 1910 году и с 1921-го был профессором физики в Цюрихе – университете, который считался оплотом научных приличий и вовсе не был похож на колыбель новых революционных идей. Но, как мы увидим, суть его вклада в квантовую теорию была как раз ожидаема в середине 1920-х годов от представителя старшего поколения. В то время как геттингенская группа, а еще в большей степени Дирак сделали квантовую теорию более абстрактной и освободили ее от повседневных физических идей, Шрёдингер попытался восстановить понятные физические концепции, объяснив квантовую физику с позиции волн, которые знакомы нам из окружающего мира. До конца жизни он боролся с новыми идеями о неопределенности и мгновенном перемещении электронов из одного состояния в другое. Он дал физике бесценный инструмент для решения проблем, но в концептуальном отношении его волновая механика стала шагом назад, возвращением к идеям XIX века.
Де Бройль указал направление, предположив, что «орбиты» электронов вокруг ядра атома должны вмещать целое число длины волны электрона в каждую орбиту, а потому промежуточные орбиты «запрещены». Шрёдингер использовал математику волн, чтобы рассчитать энергетические уровни, разрешенные в такой ситуации, и сначала, к своему неудовольствию, получил результат, который не соответствовал известным паттернам атомного спектра. На самом деле он действовал правильно: единственной причиной его первой неудачи стало то, что он не учел спин электрона, что вряд ли удивительно, ведь в те дни 1925 года концепция спина еще не была предложена. Шрёдингер вернулся к своей идее, когда его попросили провести коллоквиум для разъяснения работы де Бройля, и именно тогда он понял, что если выбросить из расчетов релятивистские эффекты, получается ответ, который прекрасно соответствует наблюдениям за атомами в тех ситуациях, где релятивистские эффекты не представляют особой важности. Как впоследствии показал Дирак, спин электрона – это по сути своей релятивистское свойство (которое не имеет ничего общего с вращением объектов в привычном нам мире). Таким образом, великий вклад Шрёдингера в квантовую теорию был опубликован в 1926 году в качестве серии статей, вышедших вслед за работами Гейзенберга, Борна и Йордана, а также Дирака.
Уравнения в вариации Шрёдингера на квантовую тему принадлежат к той же семье уравнений, которые описывают реальные волны в обычном мире – волны на поверхности океана или звуковые волны, которые разносят звук в атмосфере. Мир физики встретил их с энтузиазмом, особенно потому, что они казались знакомыми и очень удобными. Два подхода к решению одной и той же проблемы были диаметрально противоположны. Гейзенберг умышленно отказался от любой картины атома и работал только с величинами, которые можно было измерить экспериментальным путем, однако в основе его теории лежала идея, что электроны являются частицами. Шрёдингер оттолкнулся от ясной физической картины атома как «реальной» сущности, положив в основу своей теории идею о том, что электроны являются волнами. Каждый из подходов привел к появлению набора уравнений, точно описывающих поведение вещей, которые подлежат измерению в квантовом мире.
На первый взгляд, это было поразительно. Вскоре сам Шрёдингер, американец Карл Эккарт, а затем и Дирак математически доказали, что разные наборы уравнений фактически были эквивалентны друг другу, представляя собой разные взгляды на один и тот же математический мир. Уравнения Шрёдингера включали в себя и некоммутативность, и ключевой фактор h/v по сути в том же виде, в котором они фигурируют в матричной механике и квантовой алгебре. Когда было открыто, что разные подходы к проблеме были математически эквивалентны друг другу, уверенность физиков в каждом из них возросла. Казалось, что, какие математические формулы ни используй, сталкиваясь с фундаментальными проблемами квантовой механики, ты неизбежно приходишь к одинаковым «ответам». Говоря математически, вариация Дирака является наиболее полной, так как квантовая алгебра в качестве особых случаев включает в себя и матричную механику, и волновую механику. Однако физики 1920-х годов вполне ожидаемо предпочли использовать самую знакомую им версию уравнений, волны Шрёдингера, которые они понимали с позиций обычного мира. Эти уравнения были знакомы им из задач повседневной физики – из оптики, гидродинамики и тому подобных областей. Но сам успех версии Шрёдингера, возможно, отбросил все фундаментальное понимание квантового мира на несколько десятилетий назад.
Шаг назад
Оглядываясь в прошлое, не перестаешь удивляться тому, что Дирак не открыл (или не изобрел) волновую механику, поскольку сами уравнения Гамильтона, оказавшиеся столь полезными в квантовой механике, восходят к попыткам объединить волновые и корпускулярные теории света в XIX веке. Сэр Уильям Гамильтон родился в 1805 году в Дублине и считается многими одним из величайших математиков своего времени. Самым большим его достижением (хотя так не считали в то время) стало объединение законов оптики и динамики в один математический аппарат, в одну систему уравнений, которую можно использовать для описания как распространения волн, так и движения частиц. Эти работы были опубликованы в конце 1820-х и начале 1830-х годов, и оба подхода были подхвачены другими учеными. Во второй половине XIX века механика и оптика занимали ученых, но вряд ли хоть кто-то обратил внимание на объединенную механико-оптическую систему, которая представляла особенный интерес для Гамильтона. Явное следствие работы Гамильтона заключается в том, что точно так же, как «лучи» света должны замещаться концепцией волн в оптике, следы частиц должны замещаться волновыми движениями в механике. Но эта идея была столь чужда физикам XIX века, что никто – даже Гамильтон – не выразил ее. Не то чтобы она была высказана и отвергнута как абсурдная – она была в буквальном смысле слишком странной, чтобы вообще прийти кому-нибудь в голову. Ни один физик XIX века просто не мог прийти к такому выводу: эта идея могла появиться только тогда, когда неизбежно оказалась бы доказана неприменимость классической механики к описанию атомных процессов. Но не забывая о том, что именно он изобрел ту форму математики, в которой a × b ≠ b × a, не будет преувеличением сказать, что сэр Уильям Гамильтон, хоть это и было позабыто, стоял у истоков квантовой механики. Живи он дольше, он бы быстро заметил связь матричной механики с волновой. Дирак сделал это, но не стоит удивляться, что сначала он упустил эту связь. В конце концов, он был просто студентом, с головой погруженным в свое первое серьезное исследование, а возможности одного человека как-никак ограниченны. Возможно, гораздо важнее тот факт, что он работал с абстрактными идеями и, отталкиваясь от попытки Гейзенберга освободить квантовую физику от привычного представления об электронах, вращающихся на орбитах вокруг ядра атома, он не ожидал найти прекрасную, интуитивно понятную физическую картину атома. Ученые, однако, не сразу поняли, что и волновая механика, вопреки ожиданиям Шрёдингера, не снабдила физиков такой прекрасной картиной.
Шрёдингер полагал, что он избавился от квантовых скачков из одного состояния в другое, добавив в квантовую теорию волны. Он представлял «переходы» электрона из одного состояния в другое подобными изменению вибрации скрипичной струны от одной ноты к другой (одного обертона к другому), а волну в своем волновом уравнении приравнивал к волне материи, предложенной де Бройлем. Но пока другие ученые искали основополагающее значение уравнений, эти надежды вернуть на сцену классическую физику не оправдали себя. Бор, например, был разочарован волновой концепцией. Как волна – или несколько взаимодействующих волн – может заставлять счетчик Гейгера щелкать, как будто бы он засек единичную частицу? Что в атоме обладает «волновой» структурой? И, самое главное, как объяснить природу излучения абсолютно черного тела с позиции волн Шрёдингера? В результате в 1926 году Бор пригласил его в Копенгаген, и там они занялись этими проблемами, разработав решения, которые не слишком понравились Шрёдингеру.
Прежде всего, при ближайшем рассмотрении сами волны оказались столь же абстрактными, как и числа q Дирака. Математика показала, что они не могли быть реальными волнами в пространстве, как рябь на пруду, а представляли собой сложную форму вибрации в воображаемом математическом пространстве, называемом пространством конфигураций. Хуже того, каждой частице (скажем, каждому электрону) нужны собственные три измерения. Одиночный электрон можно описать волновым уравнением в трехмерном пространстве конфигураций; для описания двух электронов необходимо шестимерное пространство конфигураций; для описания трех электронов – девятимерное и так далее. Что касается излучения абсолютно черного тела, даже при переводе всего на язык волновой механики потребность в отдельных квантах и квантовых скачках не исчезала. Шрёдингеру это претило, и он сделал ремарку, которую часто цитируют с небольшими различиями при переводе: «Знал бы я, что мы не сможем избавиться от проклятых квантовых скачков, я бы ни за что в это не впутался». Как выразился Гейзенберг в своей книге «Физика и философия»: «…Парадоксы дуализма волновой картины и картины частиц не были разрешены; они каким-то образом спрятались в математической схеме».
Без сомнения, приятная глазу картина физически реальных волн, распространяющихся вокруг ядра атома, которая привела Шрёдингера к открытию волнового уравнения, названного в его честь, неверна. Волновая механика ничуть не лучше описывает структуру квантового мира, чем матричная механика, но при этом, в отличие от матричной механики, создает иллюзию знакомого и удобного инструмента. Именно эта приятная иллюзия, которая сохранилась и по сей день, заставила всех забыть о том, что атомный мир совсем не похож на обычный. Несколько поколений студентов, которые теперь уже сами стали профессорами, могли получить гораздо более глубокое понимание квантового мира, если бы их заставили свыкнуться с абстрактной природой подхода Дирака, вместо того чтобы пытаться представить себе поведение атомов на основании того, что они знали о поведении волн в обычном мире. И потому мне кажется, что хотя и были совершены огромные шаги к применению квантовой механики – на манер ингредиента для блюда из кулинарной книги – ко многим интересным проблемам (вспомните слова Дирака о физиках второго сорта, занимающихся первоклассной работой), спустя пятьдесят лет с момента открытия Дирака фундаментальное понимание квантовой физики современными учеными не глубже того, которым обладали их коллеги в конце 1920-х. Из-за успеха уравнения Шрёдингера в качестве практического инструмента люди перестали думать о том, как и почему работает этот инструмент. К 1980-м годам произошли минимальные изменения: теперь больше людей интересуются смыслом квантовой физики, но так и не найдено достойной альтернативы Копенгагенской интерпретации.
Квантовая кулинария
Основы квантовой кулинарии – практической квантовой физики, развивавшейся с 1920-х, – покоятся на идеях, предложенных Бором и Борном в конце 1920-х годов. Бор снабдил нас философским базисом, чтобы пересмотреть двойственную корпускулярно-волновую природу квантового мира, а Борн – общими правилами, которым необходимо следовать при использовании квантовых рецептов.
Бор заявил, что обе теоретические картины, физика частиц и физика волн, являются одинаково верными, дополняющими друг друга описаниями одной и той же реальности. Ни одно из этих описаний само по себе не является полным, но существуют обстоятельства, в которых предпочтительно использование концепции частиц, и обстоятельства, в которых предпочтительно использование волновой концепции. Фундаментальная сущность вроде электрона не является ни волной, ни частицей, но при определенных обстоятельствах она ведет себя, как волна, а при других обстоятельствах – как частица (а на самом деле она, конечно, представляет собой хливкого шорька). Но невозможно провести эксперимент, который показал бы, что электрон ведет себя одновременно и как волна, и как частица. Идея о том, что волна и частица являются дополняющими друг друга сторонами сложной сущности электрона, называется принципом дополнительности.
Борн обнаружил новый способ толкования волн Шрёдингера. Важным аспектом уравнения Шрёдингера, соответствующим физической ряби на пруду из обычного мира, является волновая функция, которая, как правило, обозначается греческой буквой пси (ψ). Работая в Геттингене бок о бок с физиками-экспери-ментаторами, которые практически каждый день проводили новые опыты с электронами, снова и снова подтверждавшие их корпускулярную природу, Борн просто не мог принять, что эта функция пси соответствует «реальной» волне электрона, хотя, как и большинство физиков того времени (и тех, что жили позже), он решил, что волновые уравнения лучше всего подходят для решения многих проблем. Он попытался найти способ связать волновую функцию с существованием частиц. Взяв идею, которая уже появлялась раньше в споре о природе света, он переосмыслил ее. Частицы реальны, сказал Борн, но в некотором роде их направляет волна, и сила этой волны (точнее, значение ψ2) в любой точке пространства определяет вероятность обнаружения частицы в этой конкретной точке. Мы не можем с уверенностью сказать, где находится частица вроде электрона, но волновая функция позволяет нам рассчитать вероятность того, что при проведении эксперимента с целью обнаружения электрона он будет обнаружен в определенном месте. Главная странность этой идеи заключается в том, что она гласит, будто любой электрон может быть где угодно: его просто с огромной вероятностью можно обнаружить в одних местах и с минимальной вероятностью – в других. Но подобно статистическим законам, которые утверждают, что весь воздух в комнате может собраться в ее углах, толкование ψ, предложенное Борном, лишило и без того неопределенный квантовый мир еще некоторой определенности.
Идеи Бора и Борна тесно связаны с открытием Гейзенберга, сделанным в самом конце 1926 года, в соответствии с которым неопределенность действительно является неотъемлемым компонентом уравнений квантовой механики. Математика, которая утверждает, что pq ≠ qp, также утверждает, что мы не можем быть уверены даже в том, что именно представляют собой р и q. Если назвать р импульсом, скажем, электрона и использовать q для обозначения его положения, можно представить себе очень точное измерение либо р, либо q. Величину «ошибки» в наших вычислениях можно назвать Δρ или Δq, так как математики используют греческую букву дельта (Δ), чтобы обозначать небольшие различия в величинах. Гейзенберг показал, что, если попытаться – в этом случае – измерить и положение, и импульс электрона, успехом это не увенчается, поскольку Δρ × Aq должно всегда быть больше ħ, постоянной Планка, деленной на 2π. Чем точнее мы знаем позицию объекта, тем менее мы уверены в его импульсе – то есть в том, куда он движется. А если мы знаем точное значение импульса, мы не можем точно определить, где находится объект. Принцип относительности имеет далекоидущие следствия, которые описываются в третьей части этой книги. Важно, однако, понять, что он не обнаруживает никаких недостатков в экспериментах, разработанных с целью измерения свойств электрона. Первое правило квантовой механики заключается в том, что некоторые пары свойств, включая положение и импульс, в принципе невозможно точно измерить одновременно. На квантовом уровне не существует абсолютной истины.
Принцип неопределенности Гейзенберга измеряет ту величину, на которую пересекаются дополняющие друг друга описания электрона или других фундаментальных сущностей. Положение является, прежде всего, свойством частиц, ведь их позицию можно определить весьма точно. Волны, с другой стороны, не имеют точного положения, но обладают импульсом. Чем больше знаешь о волновом аспекте реальности, тем меньше знаешь о корпускулярном – и наоборот. Эксперименты, разработанные с целью засечь частицы, всегда засекают частицы, а эксперименты, разработанные с целью засечь волны, всегда засекают волны. Ни один эксперимент не показывает, что электрон одновременно ведет себя и как волна, и как частица.
Бор подчеркнул важность проведения опытов для понимания квантового мира. Только эксперименты позволяют нам исследовать квантовый мир, и каждый эксперимент, в свою очередь, задает вопрос квантовому миру. Вопросы эти во многом основаны на нашем повседневном опыте, поэтому мы ищем свойства вроде «импульса» и «длины волны» и получаем «ответы», которые толкуем с позиции этих свойств. Эксперименты уходят корнями в классическую физику, хотя мы и знаем, что классическая физика не подходит для описания атомных процессов. Кроме того, нам приходится вмешиваться в атомные процессы, чтобы вообще наблюдать их, поэтому, как заметил Бор, нет смысла спрашивать, как ведут себя атомы, когда мы на них не смотрим. Бор объяснил, что мы можем лишь рассчитать вероятность того, что конкретный эксперимент завершится конкретным результатом.
Этот набор идей – принцип неопределенности, принцип дополнительности, вероятность и нарушение системы, наблюдаемой наблюдателем, – называется «Копенгагенской интерпретацией» квантовой механики, хотя никто в Копенгагене (или где бы то ни было еще) никогда не объединял все эти концепции в окончательном описании, озаглавленном «Копенгагенская интерпретация», а один из ее ключевых компонентов, статистическое толкование волновой функции, и вовсе обязан своим появлением Максу Борну из Геттингена. Копенгагенская интерпретация удовлетворила требованиям многих, если не всех, и характеризуется неустойчивостью, подходящей для неустойчивого мира квантовых хливких шорьков. Бор впервые представил эту концепцию публике в итальянском Комо в сентябре 1927 года. Это ознаменовало появление полной теории квантовой механики в форме, пригодной для использования любым компетентным физиком при решении проблем, связанных с атомами и молекулами: больше не нужно было ломать голову над основами, достаточно было желания следовать готовым рецептам и получать ответы.
В последующие десятилетия ученые вроде Дирака и Паули внесли фундаментальный вклад в эту сферу, и достижения пионеров новой квантовой теории были сполна отмечены Нобелевским комитетом, хотя награды распределялись в соответствии с удивительной логикой. Гейзенберг получил премию в 1932 году и ужаснулся тому, что вместе с ним не отметили его коллег Борна и Йордана; сам Борн много лет переживал из-за этого, часто подчеркивая, что Гейзенберг даже не знал, что такое матрица, пока он (Борн) не рассказал ему об этом. В письме Эйнштейну в 1953 году он заметил: «Тогда он действительно понятия не имел о том, что такое матрица. И именно он пожал все лавры за нашу совместную работу, получив даже Нобелевскую премию». Шрёдингер и Дирак разделили премию по физике в 1933 году, но Паули получил свою награду лишь в 1945-м – за открытие принципа исключения. Борну вручили Нобелевскую премию последним – в 1954 году – за изучение вероятностного толкования квантовой механики .
И все же эта бурная деятельность – новые открытия 1930-х годов, присуждение премий и применение квантовой теории в десятилетия, последовавшие за Второй мировой войной, – не могла скрыть тот факт, что эра фундаментальных открытий была пока окончена. Возможно, мы стоим на пороге другой такой эры и новый прогресс будет связан с отказом от Копенгагенской интерпретации и приятной, как будто бы знакомой нам волновой функции Шрёдингера. Однако, прежде чем мы рассмотрим все эти невероятные возможности, необходимо описать, как многого достигла эта теория, которая в сущности была полностью сформулирована к концу 1920-х годов.
Назад: Глава пятая Фотоны и электроны
Дальше: Глава седьмая На кухне с квантом

