Книга: Полная иллюминация
Назад: Книга повторяющихся сновидений, 1791
Дальше: Еще одна лотерея, 1791
Впадая в любовь, 1791—1796
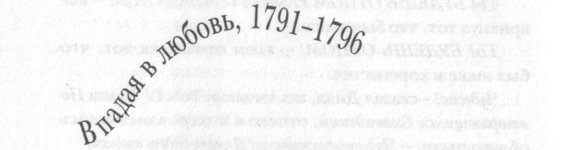
В ТОТ ВЕЧЕР опальный ростовщик Янкель Д принес малютку домой. Вот мы и дома, — сказал он, — поднимаемся на крыльцо. Вот так. Это твоя входная дверь. А это ручка на входной двери: видишь, я ее сейчас поворачиваю. Это место для обуви, которую мы снимаем, входя в помещение. А сюда мы вешаем пиджаки. Он говорил с ней так, будто она могла его понимать, не сюсюкая, не коверкая слов, избегая односложных предложений. То, чем я тебя сейчас кормлю, называется молоко. Его нам приносит Мордехай-молочник, с которым ты как-нибудь познакомишься. Он берет молоко у коровы, что довольно странно и даже противоестественно, если вдуматься, так что лучше не вдумываться… То, чем я поглаживаю твою мордашку, называется рука. Некоторые из нас левши, некоторые — правши. Кто ты, мы пока не знаем, потому что сейчас за тебя все делаю я… Это поцелуй. Чтобы он получился, губы надо сложить трубочкой и к чему-нибудь прижать. Можно к другим губам, можно к щеке, можно еще к какому-нибудь месту — по обстоятельствам… Это мое сердце. Ты касаешься его левой рукой. Не потому, что ты левша, хотя это совсем не исключено, а потому, что я прижимаю к нему твою левую ручку. Сейчас ты чувствуешь, как оно бьется. Благодаря этому я живу.
Он устроил ей колыбель в глубоком противне, напихав в него мятых газет, и каждый раз бережно задвигал его в духовку, чтобы шум, производимый каскадом небольших водопадов за окнами, не тревожил ее покоя. Дверь духовки он оставлял открытой и часами сидел, наблюдая, точно пекарь, поджидающий, когда замешенное для хлеба тесто начнет всходить. Он наблюдал, как часто поднимается и опускается ее крошечная грудка, как пальчики на ее руках то распрямляются, то собираются в кулачки, как она жмурится без всякой видимой причины. Видит ли она сны? — размышлял он. — И если да, то какие сны могут сниться младенцу? Должно быть, ей снится жизнь до рождения, так же, как мне — загробная. Когда он доставал ее из колыбели, чтобы покормить или просто подержать на руках, ее маленькое тельце было сплошь в татуировках типографского набора. ВРЕМЕНАМ РАЗНОЦВЕТНЫХ РУК НАСТАЕТ КОНЕЦ! МЫШЬ БУДЕТ ПОВЕШЕНА! Или ОБВИНЯЕМЫЙ В ИЗНАСИЛОВАНИИ СОФЬЕВКА ОПРАВДЫВАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ОКАЗАЛСЯ ВО ВЛАСТИ ПЕНИСА, «ОТБИВШЕГОСЯ ОТ РУК». Или ПОГИБШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА МЕЛЬНИЦЕ АВРУМ Р ОСТАВЛЯЕТ СИРОТОЙ СБЕЖАВШЕГО ОТ НЕГО СОРОКАВОСЬМИЛЕТНЕГО СИАМСКОГО КОТА. КОТ РЫЖЕВАТО-КОРИЧНЕВЫЙ, В МЕРУ УПИТАННЫЙ, НО НЕ РАСКОРМЛЕННЫЙ, ЛАСКОВЫЙ, МОЖЕТ БЫТЬ, ЧУТОЧКУ РАСКОРМЛЕННЫЙ, ОТКЛИКАЕТСЯ НА КЛИЧКУ «МАФУСАИЛ», НУ, БУДЬ ПО-ВАШЕМУ, ЖИРНЫЙ, КАК БОРОВ. НАШЕДШИЙ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ ЕГО СЕБЕ БЕЗ ВСЯКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. Порой, баюкая малютку на руках, он прочитывал ее от корки до корки и так узнавал о мире все, что ему полагалось узнать. То, что не было написано на ней, его не интересовало.
Янкель потерял двоих детей: первого отобрала у него лихорадка, второго — ветряная мельница, на которой с тех пор, как ее построили, каждый год погибал кто-нибудь из жителей штетла. Еще Янкель потерял жену: правда, ее отобрала не смерть, а другой мужчина. Однажды вечером он вернулся домой из библиотеки и на половике перед входом поверх надписи ШАЛОМ! обнаружил записку: Иначе поступить не могла.
Лиля Ф ковырялась в земле, окучивая одну из своих ромашек. Битцл Битцл стоял у окна своей кухни, притворяясь, что отдраивает разделочную доску. Шлоим В пялился сквозь верхнюю колбу песочных часов, с которыми все никак не находил сил расстаться. Никто не проронил ни слова, пока Янкель читал записку; никто не проронил ни слова и потом, как будто исчезновение его жены было делом само собой разумеющимся, или как будто никто из них раньше не замечал, что у него была жена.
Почему бы ей не подсунуть ее под дверь? — размышлял он. — Или хотя бы сложить? Внешне эта записка ничем не отличалась от других, когда-либо ею написанных, типа Попробуй починить дверной молоточек или Не волнуйся, скоро вернусь. Было даже странно, что записка столь радикального содержания — Иначе поступить не могла — выглядела совершенно так же, как все предыдущие: банально, обыденно, никак. Он мог бы возненавидеть ее за то, что она оставила записку на всеобщее обозрение, он мог бы возненавидеть ее за прямоту, за отсутствие в тексте даже намека на страдание, на то, что, да, дескать, это важно, да, это самая мучительная записка в моей жизни, да, я скорей умру, чем соглашусь написать ее еще раз. Где следы высохших слез? Где надрыв?
Но поскольку жена была его первой и единственной любовью и поскольку так уж повелось в их крошечном штетле — всегда прощать свою первую и единственную любовь, — Янкель заставил себя понять ее поступок или сделать вид, что понял. Он ни разу не позволил себе упрекнуть ее за бегство в Киев вместе с заезжим и усатым чиновником, вызванным в штетл для содействия в упорядочении позорного и запутанного судопроизводственного процесса, на котором Янкель проходил в качестве обвиняемого; в конце концов, чиновник мог посулить ей золотые горы, мог увезти ее подальше, в тихое место, где не было бы ни мыслей, ни свидетельских показаний, ни согласованного признания вины. Нет, не то. Где бы не было Янкеля. Она хотела быть там, где не было Янкеля.
На протяжении нескольких недель после ее побега он пытался избавиться от одного и того же навязчивого видения: чиновник, ебущий его жену. На полу посреди продуктов, приготовленных для стряпни. Стоя, в одних носках. На траве, в саду их нового огромного дома. Ему слышались такие ее стенания, которые в постели с ним она никогда не издавала, и воображалась такая степень ее услады, до которой чиновник, будучи настоящим мужчиной, смог ее довести, а он, будучи ненастоящим, не смог. Сосет ли она его член? — размышлял он. — Сознаю, что мысль идиотская и, кроме боли, ничего не сулит, но не могу от нее отделаться. И когда сосет — не может не сосать, — чем он в этот момент занят? Откидывает ли назад ее волосы, чтобы не мешали смотреть? Касается ли ее грудей? Думает ли о ком-то другом? Если думает, я его растерзаю.
Под неотрывными взглядами штетла — Лиля окучивает, Битцл Битцл скребет, Шлоим отмеряет песочное время, — он скатал записку в комок, формой похожий на слезу, сунул его за лацкан пиджака и вошел в дом. Что же мне теперь делать? — подумал он. — Надо, наверное, покончить с собой.
Жить было невыносимо, но умирать еще невыносимее. Невыносимо было воображать, как она занимается с кем-то любовью, но так же невыносимо было этого не воображать. То же и с запиской: невозможно было ее хранить, но и уничтожить казалось невозможным. Он пробовал ее потерять. Он оставлял ее в пустых, заплаканных воском, подсвечниках; каждую Пасху совал ее между пластинками мацы; ронял на свой заваленный бумагами стол в надежде, что в следующий раз ее не обнаружит. Но она неизменно обнаруживалась. Однажды он пытался незаметно выдавить ее из кармана брюк, сидя на скамье у фонтана распростертой русалки, но, когда полез за носовым платком, записка по-прежнему была в кармане. В другой раз он вложил ее вместо закладки в ненавидимый им роман, но несколько дней спустя она оказалась между страниц одной из тех западных книг, которые, кроме него, никто в штетле не читал и которую записка навсегда для него отравила. Уничтожить записку оказалось так же непросто, как свести счеты с жизнью. Она всегда возвращалась. Она оставалась с ним, точно была его частью, как родинка или конечность. Она была на нем, она была в нем, она была им, она была гимн: Иначе поступить не могла.
Со временем он потерял уйму всевозможных клочков бумаги, не говоря уже о ключах, ручках, рубашках, очках, часах, столовых приборах. Он потерял башмак, любимые опаловые запонки (бахрома на его падших манжетах колосилась, не зная удержу), три года вдали от Трахимброда, мириады идей, которые он так и не собрался записать (большинство из них — гениальные, остальные — просто с глубоким смыслом), волосы, осанку, пару родителей, пару детей, одну жену, целое состояние карманной мелочи и такое количество возможностей, что замучаешься считать. Он даже имя потерял: до бегства из штетла, то есть от рождения и до первой смерти, все звали его Сафран. Казалось, не было такой вещи, которую он не сумел бы потерять. Только этот клочок не исчезал, и образ распростертой жены, и еще мысль о том, что жизнь могла бы стать несравнимо лучше, если бы он нашел силы с ней покончить.
До процесса Янкель — в ту пору Сафран — пользовался всеобщим уважением. Он исполнял обязанности президента (а также секретаря, казначея и единственного члена) Комитета Приятных и Изящных Искусств, а также являлся основателем, бессменным председателем и единственным педагогом Школы Высокопарного Образования, занятия которой проходили у него дома и посещались одним только Янкелем. Нередко в его честь (хоть и не обязательно в его присутствии) в иных домах устраивались обеды с многочисленными сменами блюд, или состоятельные члены общины заказывали заезжему художнику его портрет маслом. Портреты всегда получались краше оригинала. Им все восторгались, его все любили, но никто не знал. Он был вроде книги, которую приятно держать в руках, о которой можно говорить, даже не читая, которую приятно рекомендовать.
По совету своего адвоката Исаака М, который рисовал в воздухе кавычки вокруг каждого слога каждого сказанного им слова, Янкель, судимый за нарушение правил ростовщичества, признал себя виновным по всем пунктам в надежде, что это смягчит наказание. Кончилось тем, что он потерял лицензию. Но лицензия — это полбеды. Кроме нее он потерял свое доброе имя, которое, как все знают, здоровья дороже. Прохожие презрительно усмехались ему в лицо и шипели сквозь зубы оскорбления типа: негодяй, обманщик, шавка, прохвост. Его не ненавидели бы так истово, если бы до этого с той же истовостью не боготворили. А поскольку вместе с Заурядным Раввином и Софьевкой он был одним из невидимых столпов, на которых держался штетл невидимым столпом, его падение с неизбежностью привело к ощущению утраченного равновесия и пустоты.
Сафран скитался по соседним деревням, нанимаясь на работу то в качестве преподавателя теории и практики игры на клавесине, то в качестве парфюмерного консультанта (прикидываясь слепым и глухим в надежде, что от него не станут требовать рекомендательных писем), то в качестве худшего в мире предсказателя будущего: Я не собираюсь кормить вас россказнями про радужные перспективы… Каждое утро он просыпался с желанием жить правильно, вести честное, исполненное смысла существование, быть — как бы просто это ни звучало и как бы невозможно на деле ни было — счастливым. Но по мере старения дня его сердце перемещалось из грудной клетки в область живота. К полудню ему начинало казаться, что все в этой жизни неправильно, не по нему, и возникало острое желание побыть одному. К вечеру он достигал желаемого: он был один в океане своего горя, один в омуте своей бесцельной вины, один даже в своем одиночестве. Я не грущу, — снова и снова повторял он. — Я не грущу. Как будто надеялся однажды убедить себя в этом. Или обмануть. Или убедить других — единственное, что хуже самой печали, — это когда ты не можешь скрыть ее от других. Я не грущу. Я не грущу. А ведь жизнь его, подобно пустой белой комнате, была полна неограниченными возможностями для счастья. Когда он засыпал, сердце сворачивалось в изножье его кровати, точно домашний зверек, живущий сам по себе. Но наутро оно вновь оказывалось в клетке, за решеткой ребер, немного отяжелевшее, ослабевшее, но, как и прежде, работающее без сбоев. К полудню Янкелем вновь овладевало желание не быть здесь, не быть самим собой, быть не здесь и не самим собой. Я не грущу.
После трех лет скитаний он вернулся в штетл (я — неопровержимое доказательство того, что всякий, покинувший родные места, рано или поздно в них возвращается) и зажил тихо и неприметно, уподобившись бахроме Падших, пришитой к одному из манжетов Трахимброда, обреченный носить на шее эту чудовищную бусину, клеймо его позора. Он стал называть себя Янкелем, по имени чиновника, сбежавшего с его женой, и попросил, чтобы никто никогда не называл его больше Сафраном (хотя ему и мерещилось, что шепотом, за глаза, его то и дело так называют). К нему вернулось большинство старых клиентов, и хоть они и отказывались брать у него ссуды под процент времен его расцвета, Янкель-Сафран сумел-таки вновь утвердиться в родимом штетле, к чему в конечном итоге стремится каждый изгнанник.
Когда черношляпники вручили ему малютку, он вдруг и сам почувствовал себя заново рожденным, точно получил шанс зажить без стыда, забыть о необходимости постоянно искать оправдания допущенным ошибкам, шанс вновь стать невинным, просто и невозможно счастливым. Он дал ей имя Брод — в честь реки, подарившей столь удивительное рождение, и повязал ей на шею нитку с нанизанной на нее крошечной костяшкой счетов, чтобы она не чувствовала себя посторонней в обществе человека, который отныне становился ее семьей.
Когда моя пра-пра-пра-пра-пра-прабабушка подросла, она этого, конечно, не помнила, и никто ей ничего не рассказывал. Янкель придумал историю о ранней кончине ее матери — без страданий, во время родов, — а на возникавшие многочисленные вопросы отвечал так, чтобы как можно меньше ее ранить. Это от матери ей достались такие изумительные оттопыренные уши. И чувство юмора, так восхищавшее знакомых мальчишек, она тоже унаследовала от нее. Он рассказывал Брод об их поездках на вакации (как в Венеции жена вынимала ему занозу из пятки, как в Париже он делал ее набросок красным карандашом у высокого фонтана), он показывал ей их любовную переписку (письма, якобы полученные им от матери Брод, он писал левой рукой), он баюкал ее перед сном сказками об их удивительном романе.
Ты влюбился в нее с первого взгляда, Янкель?
Я влюбился в нее еще до того, как увидел — по запаху.
Расскажи еще раз, какая она была.
Копия — ты. Такая же красавица, и глаза, как у тебя, разноцветные. Один — голубой, другой — карий, как твои. Те же выдающиеся скулы, та же нежная кожа.
А какая была ее самая любимая книга?
Книга Бытия, конечно же.
Она верила в Бога?
Она бы ни за что не сказала.
А пальцы у нее были длинные?
Вот такие.
А ноги?
Вот такие.
Расскажи еще раз, как она дула тебе на лицо перед каждым поцелуем.
Тут и рассказывать нечего: она всегда дула мне на губы, прежде чем поцеловать, как будто я был горячим пирожком и она собиралась меня скушать!
Смешная она была? Смешнее меня?
Не было в мире человека смешнее. И ты в точности такая же.
Она была красивая?
Случилось то, что и должно было случиться: Янкель влюбился в свою выдуманную жену. Он мог теперь проснуться среди ночи, тоскуя по весу, никогда не отяжелявшему постели рядом с ним, припоминая весомость жестов, никогда ею не сделанных, изнывая без невесомости ее неруки поперек его слишком реального торса, что делало его вдовствующие воспоминания еще более убедительными, а боль, которую они причиняли, еще более невыносимой. Он чувствовал, что он ее потерял. И он ее действительно потерял. По ночам он перечитывал письма, которые она никогда ему не писала.
Мой самый любимый Янкель,
Как ни сладостна тоска, так сильно тосковать по мне незачем, потому что скоро я уже буду дома, с тобой. До чего же ты глупенький. Говорили тебе об этом? Ах, если б ты только знал, до чего ты глупенький! Может, потому я так сильно в тебя и влюбилась, что сама порядочная дурында.
Здесь все чудесно. Все, как ты и обещал, красота неописуемая. Люди добры, и питание отменное, о чем упоминаю лишь потому, что знаю, как ты всегда волнуешься, не забываю ли я поесть. Не забываю, не волнуйся.
Очень скучаю по тебе. Скажу даже — невыносимо.
Каждый день, каждый миг думаю только о том, как мне тебя не хватает, и это меня доканывает. Но, конечно, скоро я возвращусь и перестану скучать, перестану убиваться от мысли, что что-то важное, самое-самое важное, не рядом, а то, что рядом — не со мной. Перед отходом ко сну я каждый раз целую подушку, воображая, что это ты. Ты бы обязательно так делал, я знаю. Может, потому-то и я так делаю.
Это почти сработало. От частого повторения вымышленные факты сделались совсем неотличимыми от невымышленных. И только невымышленная записка все возвращалась и возвращалась к нему, не позволяя достичь такой простой и невозможной вещи, как счастье. Иначе поступить не могла. Брод обнаружила записку, когда ей было всего несколько лет от роду. Непостижимым образом она проникла к ней в правый карман, как будто у записки могли быть для этого свои соображения, как будто четыре накорябанных на ней слова действительно желали разрушить реальность. Иначе поступить не могла. Брод либо почувствовала безмерную важность записки, либо не придала ей вообще никакого значения, потому что, не сказав Янкелю ни слова, она оставила ее на столике возле его кровати, где он той же ночью на нее и наткнулся, откладывая в сторону очередное письмо не ее матери, не его жены. Иначе поступить не могла.
Я не грущу.
Назад: Книга повторяющихся сновидений, 1791
Дальше: Еще одна лотерея, 1791

