Впадая в любовь, 1934—1941
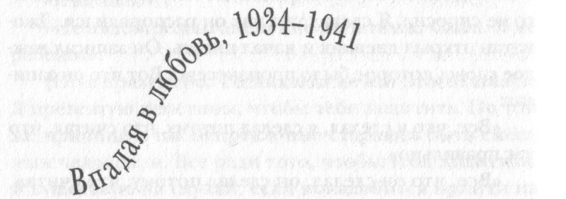
В ДЕНЬ ИХ ПОСЛЕДНЕГО соития — за семь месяцев до того, как она наложила на себя руки, а он сочетался браком с другой — Цыганочка спросила у дедушки, как он расставляет книги.
Только к ней он всегда возвращался сам, не дожидаясь, пока его об этом попросят. Они встречались на ярмарке (он наблюдал, дрожа от предвкушения и гордости, как она завораживает змей в плетеной корзине подвыпившими звуками своей флейты). Они встречались в театре или у входа в ее крытую соломой лачугу в цыганском таборе на другом берегу Брод. (Ей, конечно, нельзя было показываться возле его дома.) Они встречались на деревянном мосту, или под деревянным мостом, или неподалеку от каскада небольших водопадов. Но все чаще — в окаменевшей чаще Радзивельского леса, обмениваясь новостями и шутками, веселясь с полудня и до заката, предаваясь любви (которая, возможно, и не была любовью) под балдахином из гранита.
Правда, я замечательная? — спросила она однажды, привалившись к стволу окаменевшего клена.
Нет, — сказал он.
Почему?
Потому что замечательных много. Можно не сомневаться, что сегодня сотни мужчин назвали своих возлюбленных замечательными, а ведь еще только полдень. Ты не как все.
Ты хочешь сказать, что я незамечательная?
Да.
Она дотронулась пальцами до его мертвой руки. Ты считаешь, что я некрасивая?
Ты неслыханно некрасивая. Тебе до красивых, как до луны.
Она расстегнула его рубашку. Я сообразительная?
Нет. Уж точно, нет. Никогда бы этого не сказал.
Она опустилась на колени, чтобы расстегнуть его брюки.
Я сексуальная?
Нет.
Смешная?
Ты не смешная.
Хорошо так?
Нет.
Нравится?
Нет.
Она расстегнула свою кофточку. Она прижалась к нему.
Мне продолжать?
Оказалось, что она бывала в Киеве, Одессе и даже Варшаве. Когда ее мать слегла от смертельной болезни, она целый год прожила среди Дымков Ардишта. Она рассказала ему, как плавала на корабле по местам, о которых ему раньше не доводилось слышать, и хоть он и понимал, что все это выдумки, шитые белыми нитками неистины, все равно кивал, стараясь убедить себя в их убедительности, стараясь верить каждому ее слову, понимая, что в основе любого рассказа — разлука, а ему хотелось, чтобы она всегда была рядом.
В Сибири, — говорила она, — есть люди, которые занимаются любовью за сотни миль друг от друга, а в Австрии есть принцесса, которая вытатуировала у себя на теле портрет возлюбленного, чтобы, подходя к зеркалу, на него любоваться, а по другую сторону Черного моря есть каменная женщина — сама я не видела, но видела моя тетя, — так вот, она ожила, потому что ее полюбил скульптор.
Сафран приносил Цыганочке цветы и шоколад (дары его вдов) и посвящал ей стихи, над которыми она всегда смеялась.
Надо же быть таким дураком! — говорила она.
Почему дураком?
Потому что то, что тебе ничего бы не стоило подарить, ты даришь так редко. Цветы, стихи и шоколад ничего для меня не значат.
Они тебе не нравятся?
Когда от тебя — нет.
А что бы тебе хотелось от меня?
Она пожала плечами, но не от растерянности, а от смущения. (Он был единственный человек на свете, способный ее смутить.)
Где ты книги хранишь? — спросила она.
У себя в комнате.
Где в комнате?
На полках.
В каком порядке они расставлены?
Какое тебе дело?
Мне важно знать.
Она была цыганкой. Он евреем. Когда она брала его за руку на людях (он знал, что она знает, что он этого не выносит), он немедленно находил руке занятие — пригладить волосы, указать на то место, где его пра-пра-пра-прадедушка высыпал на берег монеты из мешка, точно золотую блевотину, — а затем убирал руку в карман, избегая неловкости.
Знаешь, что мне сейчас просто необходимо, — сказала она, беря его мертвую руку в свою во время прогулки по воскресной ярмарке.
Скажи — и оно твое. Все, что пожелаешь.
Поцелуй меня.
Сколько угодно и куда угодно.
Сюда, — сказала она, кладя указательный палец себе на губы. — Сейчас.
Он кивнул в сторону ближайшей аллеи.
Нет, — сказала она. Поцелуй меня сюда, — кладя палец себе на губы. — Здесь.
Он засмеялся. Сюда? Он приложил палец к своим губам. Здесь?
Сюда, — сказала она, кладя палец себе на губы. — Здесь.
Они засмеялись вместе. Нервный смех. Сначала короткие смешки. Хи плюс ха. Смех погромче. Умножение. Еще громче. Возведение в квадрат. Захлебывающийся смех. Неуправляемый смех. Яростный. Бесконечный.
Я не могу.
Я знаю.
На протяжении семи лет Дедушка и Цыганочка занимались любовью, как минимум, два раза в неделю. Они исповедались во всех своих тайнах; как смогли, объяснили друг другу устройство своих тел; бывали волевыми и безвольными, жадными и щедрыми, говорунами и молчунами.
В каком порядке ты расставляешь книги? — спросила она, когда они лежали нагишом на ложе из гальки и затвердевшей земли.
Я же тебе сказал: они стоят у меня в спальне, на полках.
Интересно, а ты можешь представить свою жизнь без меня?
Запросто. Только не хочу.
Неприятно, да?
Зачем ты?
Просто мне интересно.
Никто из его друзей (если допустить, что, кроме нее, у него были друзья) не знал о существовании Цыганочки, и никто из его бесчисленных пассий не знал о существовании Цыганочки, и родители его, конечно, не знали о существовании Цыганочки. Дедушка держал ее в такой глубокой тайне, что порой ему казалось, будто он и сам в нее не посвящен. Она знала, что он старается спрятать ее от всех, держать под замком в изолированной комнате с потайной дверью, замуровать в стену. Она знала, что даже если ему и кажется, будто он ее любит, он ее не любил.
Как ты думаешь, где ты будешь через десять лет? — спросила она, отрываясь от его груди, чтобы заглянуть в глаза.
Не знаю.
А я где буду? Их пот смешался и высох, превратившись в липкую пленку, склеивавшую их.
Через десять лет?
Да.
Не знаю, — сказал он, поигрывая ее волосами. — Где, ты думаешь, ты будешь?
Не знаю.
А я где буду?
Не знаю, — сказала она.
Они полежали молча, думая каждый о своем, стараясь проникнуть в мысли другого. Между ними нарастало отчуждение.
Почему ты спросила?
Не знаю, — сказала она.
Что мы вообще знаем?
Почти ничего, — сказала она, вновь опуская голову ему на грудь.
Они обменивались записочками, как дети. Дедушка составлял свои из газетных вырезок и бросал в ее плетеные корзины, куда, кроме нее, никто не рисковал запускать руку. Вот встретимся под деревянным мостом, и я отнесу тебя туда, где ноги твоей не ступало. «В» была вырезана из наступающих войск, которые вскоре оборвут жизнь его матери: ВРАГ НА ПОДСТУПАХ К СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЕ; «ОТ» — из их приближающихся эсминцев: НАЦИСТСКИЙ ФЛОТ НАНОСИТ ПОРАЖЕНИЕ ФРАНЦУЗАМ ПОД ЛЕСАКСОМ; «ЫМ» — из полуострова, на который они голубоглазели: КОЛЬЦО ВОКРУГ КРЫМА СЖИМАЕТСЯ; «СУ» — из того, что пришло слишком поздно и в недостаточном количестве: ВОЕННЫЕ СУБСИДИИ ИЗ АМЕРИКИ ДОСТИГАЮТ АНГЛИЙСКИХ БЕРЕГОВ; «ГИ» — из волчары волчар: ГИТЛЕР ПРОВОЗГЛАШАЕТ ПАКТ О НЕНАПАДЕНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ; и так далее, и так далее, каждая записка — коллаж из любви, которой не суждено было быть, и войны, которой суждено.
Цыганочка вырезала любовные письма на деревьях, наполняя лес своими посланиями ему. Не оставляй меня — на коре дерева, в тени которого они однажды заснули. Чти меня — на стволе окаменевшего дуба. Она составляла новый список заповедей — заповедей, которые бы они разделяли, которые вели бы их по жизни вместе, а не врозь. Да не будет иной любви в сердце твоем, кроме как ко мне. Не поминай имени моего всуе. Не убий меня. Следуй за мной и почитай святыней.
Через десять лет я хочу быть там же, где ты, — написал он ей, наклеив вырезки из газетных заголовков на желтый лист бумаги. Не правда ли, хорошая мысль?
Очень хорошая, — вырезала она на дереве у самой опушки. Но почему только мысль?
Потому что, — типографская краска отпечаталась на руках; он считал с себя: десять лет — это еще так далеко.
Нам бы пришлось убежать — по периметру кленового ствола. Нам бы пришлось покинуть все, ради друг друга.
Что возможно — сложил он из слогов заголовка о неотвратимости войны. В любом случае, хорошая мысль.
Дедушка привел Цыганочку к Времямеру и поведал ей историю трагической жизни своей пра-пра-пра-пра-бабушки, пообещав попросить ее о помощи, когда он решится, наконец, написать правдивую историю Трахимброда. Он поведал ей о повозке Трахима и о том, как юные двойняшки Ф первыми углядели останки повозкикрушения, всплывшие на поверхность: извивающиеся змейки белых ниток, бархатную перчатку с растопыренными пальцами, пустые катушки, зашмуценное пенсне, ягоды малины и ежевики, фекалии, рюши, осколки вдребезги разбитого пульверизатора, обрывок резолюции, истекающий алой кровью чернил: Я обязуюсь… Обязуюсь. Она честно рассказала ему о сексуальных домогательствах отца и продемонстрировала синяки, спрятанные глубоко в ее теле. Он объяснил, почему он обрезан, и что такое Завет, и как получилось, что его народ считает себя Народом-избранником. Она сказала ему, что однажды ее изнасиловал родной дядя и что вот уже несколько лет, как она могла бы зачать. Он сказал ей, что всегда мастурбирует при помощи мертвой руки, потому что так ему легче вообразить, будто он занимается не онанизмом, а любовью. Она сказала, что всерьез задумывалась о самоубийстве, как будто это был выход. Он открыл ей самую темную из своих тайн: в отличие от других мальчиков, повзрослев, он не утратил любви к своей матери, не утратил ни на йоту, и, пожалуйста, не смейся надо мной за то, что сейчас скажу, и не думай обо мне плохо, но за один ее поцелуй я все готов отдать в этом мире. Цыганочка заплакала, и когда дедушка спросил ее, почему, она не сказала: Я ревную тебя к твоей матери. Я хочу, чтобы ты меня так же любил, — а только улыбнулась без слов: как глупо. Она сказала, что хотела бы добавить на скрижали еще одну, одиннадцатую заповедь: Не изменяйся.
Несмотря на все любовные связи, несмотря на всех женщин, начинавших раздеваться при одном взгляде на его мертвую руку, друзей, кроме Цыганочки, у него не было, и хуже наказания, чем остаться без нее, он вообразить не мог. Она была единственной, кто был вправе утверждать, что знает его досконально, единственной, о ком он начинал скучать не только, когда они разлучались, но уже в преддверии разлуки. Она была единственной, кому нужно было больше, чем обладания одной лишь его рукой.
Я тебя не люблю, — сказал он ей однажды вечером, когда они лежали нагишом на траве.
Она поцеловала его в бровь и сказала: Я знаю. Как и ты, я уверена, знаешь, что я не люблю тебя.
Конечно, — сказал он, хоть это и явилось откровением (не то, что она его не любит, а то, что об этом говорит). За семь лет занятий любовью он так часто слышал эти слова: из уст вдов и детей, от проституток, подруг семьи, путешественниц, распутных жен. Он и моргнуть не успевал, а они уже говорили: Я люблю тебя. Чем сильнее любишь кого-то, — пришел к выводу он, — тем труднее об этом сказать. Его удивляло, что случайные прохожие не останавливают друг друга на улице со словами Я люблю тебя.
Мои родители собираются меня женить, — сказал он.
На ком?
Ее зовут Зоша. Она из нашего штетла. Мне ведь уже семнадцать.
И ты ее любишь? — спросила она, глядя в сторону.
Он разобрал свою жизнь на крошечные составляющие, обследовал каждую с внимательностью часовщика и вернул все на место.
Я ее почти не знаю. Он тоже избегал смотреть ей в глаза, потому что его, как Пинчера П, который стал бездомным из благотворительности, роздав все до последнего гроша нищим, глаза выдавали с потрохами.
Ты сделаешь, как они хотят? — спросила она, рисуя на земле круги своим смуглым пальцем.
У меня нет выбора, — сказал он.
Конечно.
Она не могла заставить себя посмотреть на него.
Ты будешь очень счастлив, — сказала она. — Ты всегда будешь счастлив.
Зачем ты?
Затем, что ты счастливчик. Счастье само идет к тебе в руки.
Перестань, — сказал он. — Ты несправедлива.
Я хочу с ней познакомиться.
Нет, не хочешь.
Нет, хочу. Как ее зовут? Зоша? Я очень хочу познакомиться с Зошей, чтобы, сказать ей, что она будет счастлива. Вот счастливица. Небось, красавица.
Не знаю.
Ты же видел ее. Видел?
Да.
Значит, знаешь, красивая она или нет. Красивая?
Пожалуй.
Красивее меня?
Прекрати.
Я должна быть на свадьбе, чтобы все увидеть самой. Не на венчании, конечно. Цыганочке в синагогу нельзя. Но хоть на обеде. Ты ведь меня пригласишь на обед. Пригласишь?
Ты знаешь, что это невозможно, — сказал он, отворачиваясь.
Да, я знаю, что это невозможно, — сказала она, сознавая, что в своей жестокости зашла слишком далеко.
Это невозможно.
Я же сказала: я знаю.
Ты должна мне поверить.
Я верю.
Они предались любви в последний раз, не подозревая, что на протяжении последующих семи месяцев не обмолвятся ни словечком. Сколько раз он будет проходить мимо нее, а она — мимо него (они продолжали наведываться в одни и те же места, бродить одними и теми же тропами, засыпать в тени одних и тех же деревьев), не подавая и вида, что знакомы. Обоим страстно хотелось вернуться на семь лет назад, к их первой встрече в театре, и прожить все заново, только теперь не заметить друг друга, не заговорить, не уйти, держась за руки (его мертвая рука в ее живой), по лабиринту непролазных троп, мимо кондитерских лотков у старого кладбища, вниз по линии Еврейско/Общечеловеческого раскола и дальше, дальше, во тьму. Семь месяцев они не замечали друг друга на ярмарке, и возле Времямера, и у фонтана распростертой русалки, и уже было уверились, что смогут не замечать друг друга и впредь, везде и всегда, что стали совсем чужими, но когда однажды вечером, возвращаясь с работы, он увидел ее выходящей из дверей своего дома, оказалось, что это не так.
Что ты здесь делаешь? — спросил он, больше боясь, что она открыла тайну их связи — или отцу, который, несомненно, его поколотит, или матери, для которой это будет ударом, — а вовсе не из желания узнать, зачем она приходила.
Твои книги расставлены по цвету корешков, — сказала она. — Какая глупость.
Он вспомнил, что мать сейчас в Луцке, где она всегда была в это время суток по вторникам, а отец умывается за домом. Сафран прошел в свою комнату, желая убедиться, что ничего не нарушено. Его дневник по-прежнему лежал под матрасом. Книги стояли рядками, корешок к корешку, по цвету. (Одну он снял с полки, чтобы чем-нибудь занять руки.) Мамина фотография стояла на столике у кровати все под тем же углом. Не было никаких оснований думать, что она к чему-либо притрагивалась. Он обшарил кухню, кабинет и даже уборные — там тоже могли остаться ее следы. Но нет, ничего. Ни случайного волоса. Ни отпечатков пальцев на зеркале. Ни записочек. Все в идеальном порядке.
Он прошел в спальню родителей. Безупречные прямоугольники подушек. Водная гладь туго натянутых простыней. Комната выглядела так, будто в ней уже много лет ни к чему не прикасались — как если бы после чьей-нибудь смерти ее хотели сохранить в неприкосновенности, как капсулу времени. Он не знал, какой по счету раз она приходила. У нее спросить он не мог, потому что они уже давно не разговаривали, и у отца спросить он не мог, потому что тогда пришлось бы во всем признаться, и у матери спросить он не мог, потому что это ее убило бы, а значит, и его убило бы, а какой бы невыносимой ни казалась наступившая жизнь, он был не готов свести с ней счеты.
Он побежал к дому Листы П — единственной любовницы, которая заставляла его мыться. Открой, — сказал он, привалившись головой к двери. — Это Сафран. Открой.
Было слышно, как, шаркая, кто-то направляется к входу.
Сафран? — это оказалась мать Листы.
Здравствуйте, — сказал он. — Листа дома?
Листа у себя в комнате, — сказала она, восхищаясь про себя тем, какой он все-таки славный. — Можешь подняться.
Что случилось? — спросила Листа, завидев его на пороге. Она показалась ему намного старше по сравнению с тем, какой была три года назад в театре, и это заставило его задуматься, кто из них на самом деле изменился: он или она. Входи, — сказала она. — Вот, садись. Что с тобой?
Мне так одиноко, — сказал он.
Ты не одинок, — сказала она, прижимая его голову к своей груди.
Одинок.
Нет, не одинок, — сказала она. — Тебе только так кажется.
Когда кажется, что одинок, значит, одинок. В этом суть одиночества.
Давай я что-нибудь тебе приготовлю.
Мне не хочется есть.
Тогда выпей чего-нибудь.
Мне не хочется пить.
Она принялась массировать его мертвую руку и вспомнила, как прикасалась к ней в последний раз. Рука притягивала ее к себе не потому, что была мертва, а потому, что была непознаваема. Непостижима. Даже полюбив, он не смог бы отдать ей всего себя без остатка. Им нельзя было обладать целиком, и он никем обладать целиком не мог. Эта невозможность страсти и пробуждала в ней страсть.
Ты женишься, Сафран. Мне утром пришло приглашение. Тебя это волнует?
Да, — сказал он.
Ну, тогда могу тебя успокоить. Перед свадьбой все волнуются. Я волновалась. И я знаю, что муж мой тоже. Но ведь Зоша такая хорошая.
Я ее ни разу не видел, — сказал он.
А я говорю — хорошая. И красивая вдобавок.
Ты думаешь, она мне понравится?
По-моему, да.
А я смогу ее полюбить?
Все возможно. В любви никогда не угадаешь, но шанс, безусловно, есть.
Ты меня любишь? — спросил он. — Любила когда-нибудь? Хотя бы в тот вечер, с кофе.
Не знаю, — сказала она.
Ты думаешь, есть шанс, что любила?
Он коснулся ее лица своей здоровой рукой, спустился по щеке к шее и затем под воротник блузки.
Нет, — сказала она, отстраняя его руку.
Нет?
Нет.
Но мне этого хочется. Честно. Не ради тебя.
Потому-то и нет, — сказала она. — Я бы никогда не смогла этим заниматься, если бы думала, что ты этого хочешь.
Он опустил голову ей на колени и заснул. В тот вечер, прежде чем уйти, он дал Листе книгу, которую зачем-то принес из дома (Гамлета в лиловом переплете) — он снял ее с полки, чтобы чем-нибудь занять руки.
Насовсем? — спросила она.
Когда-нибудь вернешь.
Ничего этого дедушка и Цыганочка не знали, занимаясь любовью в последний раз: он трогал ее лицо, мял нежную мякоть под подбородком, как тот самый скульптор, что оживил статую. Так? — спросил он. Взмах ее ресниц пощекотал ему грудь. Бабочки ее поцелуев вспорхнули над его телом, над шеей, над левой мочкой уха — примостились как раз туда, где мочка переходит в скулу. Так? — спросила она. Он стащил через голову ее синюю кофточку, расстегнул бусы, слизал пот с ее гладких подмышек, и пробежал пальцами от шеи к пупку. Ее соски цвета жженого сахара он обвел языком в кружочек. Так? — спросил он. Она кивнула и изогнулась. Теперь он теребил ее соски языком, сознавая, что все неправильно, все — от рождения до этого момента — сложилось в его жизни не так, но не с точностью до наоборот, а хуже: почти как надо. Двумя руками она расстегнула его ремень. Он приподнял ягодицы, давая ей возможность стянуть с себя брюки и трусы. Она взяла его член в свою руку. Ей так хотелось доставить ему удовольствие. Она была убеждена, что он никогда не получал удовольствия. Она хотела, чтобы свое первое и единственное наслаждение он получил с ней. Так? Он положил свою руку поверх ее руки и показал, как надо. Она сняла юбку и трусики, взяла его мертвую руку и сжала ее между ног. Густые черные волосы на ее лобке переплелись волнообразными завитками. Так? — спросил он, хотя она же и водила его рукой, точно дух по доске во время спиритического сеанса. Они служили друг другу проводниками по лабиринтам собственных тел. Она ввела в себя его мертвые пальцы, потеряв на мгновение чувствительность, точно в параличе. Смерть пронзила ее насквозь. Сейчас? — спросил он. — Сейчас? Она легла на него, обхватив его ноги своими. Она вложила член в его мертвую руку и направила к цели. Так хорошо? — спросил он. — Так хорошо?
Семь месяцев спустя, 18 июня 1941 года, когда первые налеты немецких бомбардировщиков озарили небо над Трахимбродом электрическими разрядами, когда дедушка испытал свой первый оргазм (первое и единственное наслаждение, которому не она была причиной), она полоснула по запястью ножом, затупившимся от вырезания любовных посланий. Но тогда, там, над его спящей головой, лежавшей под ее бьющимся сердцем, она не раскрыла своих планов. Она не сказала: Скоро твоя свадьба. И не сказала: Я собираюсь покончить с собой. А только: Как ты расставляешь книги?
Назад: Увертюра к иллюминации
Дальше: Иллюминация

