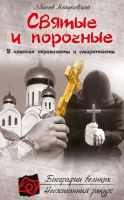Книга: 1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как трудно жилось в 1940-е годы
Назад: Герман Шелков 1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как трудно жилось в 1940-е годы
На главную: Предисловие
Предисловие
В ясный полдень на пляже, в середине лета, я лежал на спине и наблюдал за редкими облаками. В двух шагах от меня какой-то человек, сидя на песке, что-то бормотал. Он читал газету. Ему что-то не нравилось. Наконец он сказал: «Н-да, времена нынче тяжелые. Небывало ужасные времена. Что дальше-то будет?» И вдруг я услышал другой голос: «Это сейчас-то времена тяжелые? Ну, насмешили. Вы не жили в послевоенные сороковые годы, а пожили бы, нынешнее время показалось бы вам сказочным. Поглядите кругом: как хорошо! Замечательно!» Я повернул голову и увидел старую женщину в летней шляпе. Она приглядывала за маленькой девочкой, играющей с куклой. Человек с газетой был по виду дачник, не старше шестидесяти, и он не мог помнить, как жили сразу после войны. Однако он пожелал ответить старой даме: «Что вы сравнили! То было послевоенное время. В те годы не могло быть хорошо». Старушка сказала: «А почему бы мне не сравнивать? Я никогда не жила так трудно и тяжело, как в сороковые. И моя мама, и брат, и сестры тоже страдали, и все родственники и знакомые. О, что это было за время! Сколько раз я думала, что завтра уже не проснусь! Все последующие десятилетия казались мне удивительно прекрасными. Что угодно, лишь бы не сороковые. Если бы вы пережили то, что пережила я, вы посчитали бы, что сейчас просто-таки праздник».
Дачник молчал. А я подумал: «Видно, бабуся знает, что говорит. Ей, наверное, лет восемьдесят, а то и больше». Я захотел спросить ее о сороковых годах, но она неожиданно засобиралась, взяла девочку за руку и ушла. Вздохнув, дачник отшвырнул газету и сказал, что со старыми людьми не поспоришь: они могут помнить такое, с чем ничто в нынешнее время не сравнится, поскольку жили в сороковые. «То время нельзя сравнивать, – произнес он. – Оно несравнимо».
Эти слова засели у меня в голове. Что это за время такое, которое «несравнимо»? Что видели и испытали люди, жившие в послевоенные сороковые годы? Не написать ли мне об этом книгу, чтобы запечатлеть их воспоминания?
Этим же вечером я вернулся в Москву. Постучался к соседке, 1931 года рождения, и попросил ее: «Расскажите что-нибудь про сороковые годы. Вспомните, пожалуйста, какой-нибудь случай. Говорят, тогда жили очень трудно. Назовите, будьте добры, какую-нибудь характерную примету или особенность того времени». Соседка сказала: «Ах, я многое не помню! Память стала совсем слабая. Могу сказать, что жили очень плохо. Так плохо, что с тех пор такого никогда не было, а только лучше».
В течение недели я расспросил еще пятерых свидетелей того времени, и все они сказали примерно то же, что и моя соседка. Они помнили эпоху в целом, но подробности вспоминать не хотели. Сороковые годы не желали раскрываться передо мной. Я пожалел, что не остался в Подмосковье и не расспросил старую даму в летней шляпе, которую видел на пляже и которая, очевидно, хорошо помнила послевоенное время. Я снова выехал из Москвы и отправился в то место на реке, где отдыхал неделю назад, но старушку в шляпе так и не встретил.
Я понял, что мне предстоит немало потрудиться, чтобы разыскать тех людей, чьи воспоминания о сороковых годах не уместятся в одной фразе, чья память по-прежнему сильна, и у кого найдется большое желание говорить о совсем не радостных событиях. Кто захочет вспоминать трагические случаи?
И все же мне удалось найти таких людей. На это мне понадобился один год.
Вот что рассказали эти удивительные и замечательные старики и старушки.
Герман Шелков
* * *
Мария Ту-нова, 1933 года рождения: «Мы жили в подвале, три семьи, в каждой семье по двое-трое детей. Взрослых мужчин не было, только женщины. Даже дедушек не было – многие старые люди умерли в войну, в эвакуации. Наш дедушка умер в 1943 году в Барнауле, где мы пережидали военное время. Помню, его звали Иван Степанович, папа моей мамы. У моей подруги, тоже 1933 года рождения, дедушку звали Николай Иванович, он умер годом раньше, в 1942 году и тоже в Барнауле. Мою подругу звали Надя, по возвращении из эвакуации мы жили на одной улице, но ее семье повезло больше, у них положение было лучше, потому что их поселили в полуподвале. Что это означает? К ним проникал дневной свет, и они видели ноги прохожих! Это было счастье.
Мы жили отчаянно плохо. Недоедали, прозябали. Помню, как мама однажды принесла откуда-то новенькую, нераспечатанную коробку дорогих папирос, высшего сорта, положила на стол, стала радоваться и говорить: «Завтра поедим! Купим хлеба и жиров!» Мы с братом и с младшей сестрой очень любили это чудесное слово – «жиры». Это было топленое свиное сало. Его добавляли в кашу, чтобы было сытнее. А каша без жиров – это ужас что такое. И вот мама откуда-то принесла красивую, элегантную коробку папирос и выменяла ее на еду, на хлеб и «топленку». Наши продуктовые карточки не могли накормить нас досыта, это была утопия, сказка. Поэтому мы грезили только о еде, как все недоедающие люди. Это была наша мечта – поесть досыта. О, какая это радость, когда ты не голоден! Но В 1947 году, о котором я сейчас рассказываю, сытость была редким для нас состоянием.
Наша соседка тетя Света от голода часто сваливалась в обмороке. Бывало, выходит из своей комнаты, идет в кухню, падает в коридоре и затихает, будто мертвая. Ее поднимали, отливали водой. У нее тоже было двое детей, и они тоже жили только на продуктовые карточки. Но как бы плохо ей не было, едой с ней никто не делился. Это было не принято. Все выживали самостоятельно. Помрешь – твое дело. Так было в сороковые годы, наверное, повсюду, и во время войны, и сразу после. Все сами по себе. Такое было время. Мама отдавала последний кусок нам, своим детям, наша славная, святая для нас мамочка – наша спасительница. К другим людям в то время она была почти равнодушна. Таков, я думаю, материнский инстинкт любой женщины, обремененной детьми.
И все-таки из троих детей нашей мамы выжила только я. Брат и сестра умерли от болезней, связанных с неполноценным питанием. Сестра Жанна умерла в том же 1947 году, брат Дима на следующий год.
1947 год был тоскливый, очень голодный и пустой. Именно пустой. Радостей почти не помню, зато горя и забот было предостаточно.
Я и брат Миша учились в школе, а младшая сестра все время оставалась дома, болела из-за малокровия. Однажды мы приходим с занятий, а ее нет. Мама сидит на стуле бледная, молчаливая, губы поджаты. Сестра Жанночка, как мы ее звали, умерла. И ее уже забрали санитары, увезли. Мы, дети, не плакали. И никто не плакал. Мама нас молча накормила обедом, подала нам суп и хлеб. Брат Дима тоже часто болел, особенно страдал от простуды, у него воспалялось горло, поднималась температура. Он умер от пневмонии 2 февраля 1948 года в шесть часов вечера, и я осталась у мамы одна. Папа пропал без вести на фронте, мы о нем ничего не знали до 1955 года, когда вдруг где-то нашли останки наших солдат, и среди них он, погибший при взрыве. Мама надеялась, что он находится в каком-нибудь военном госпитале, лежит в беспамятстве после контузии, как иногда рассказывали про пропавших без вести – будто они живы, только ничего о себе не помнят. А папочка, оказывается, погиб еще в 1942 году.
В 1947 году было много бед. Год был очень тяжелый. Радости куда-то подевались. Радоваться было нечему. Вот в 1945 году люди радовались – война наконец закончилась, наступил мир, все должно быть теперь по-другому. Люди часто улыбались. С фронта возвращались родственники, знакомые. Ехали солдаты, пели песни. Они могли подарить нам, детям и подросткам, целую плитку шоколада, кулек семечек или буханку хлеба. И дарили! Это был праздник!
В войну люди ждали победы, разгрома фашистов, ждали с фронта родных и своего возвращения из эвакуации в оставленные города, потому многие держались, не унывали, не впадали в отчаянье, хотя было очень трудно. Нам было во что верить. А когда началась мирная жизнь, стало совсем по-другому. Я была подростком, но хорошо запомнила ощущение той атмосферы, в которой мы жили по возвращении из эвакуации. Атмосфера установилась подавленная. Нередко попадались люди, сильно удрученные, в отчаянье, глубоко растерянные и как будто замышляющие самоубийство.
1947 год был словно проклятый. Предыдущий 1946 год тоже был невероятно трудный, особенно когда наступила осень. Мама ходила по городу в поисках второй, дополнительной работы, возвращалась усталая, унылая и говорила: «Ничего нету. Все ищут, не я одна. Даже полы мыть не берут, и даже на ночь».
Представьте женщину с тремя детьми, которая боится думать о будущем. Впереди, голод, холод и постоянный страх, и мать троих детей гонит от себя мысли о завтрашнем дне. Это очень нелегко. Ведь женщины так устроены, что они обязательно должны думать о том, что их ждет впереди. А если в перспективе ничего хорошего, мрак, лишения – каково тогда женщине?
Мама работала в конторе дорожного и автохозяйства. Весь день писала, составляла какие-то списки, вела какой-то учет, подшивала наряды, учетные справки. Кончики ее пальцев часто были вымазаны чернилами. В конторской комнате ее стол был напротив двери, в невыгодном месте, потому что в холодное время из двери очень дуло. Люди входили и выходили, дверь открывалась и закрывалась, и мамочку обдавало холодом. Она ежилась, сжимала зубы. В холодное время под одеждой у нее были газеты. Я видела, как, вернувшись с работы, мама вынимала из нижнего белья газеты и аккуратно их складывала, чтобы назавтра использовать снова, так она спасалась от холода и от простуды. Обворачивала газетами бедра, попу. И вот что удивительно: она почти не болела, хотя питалась хуже нас, детей.
До войны мама была другая. Война, лишения изменили ее характер до неузнаваемости. В 1940 году я пошла в школу, в первый класс, и мамочка торжественно, высоко держа голову, привела меня за руку на школьный двор. Это была жизнерадостная женщина, грациозная и стройная, с красивым полненьким лицом, с красивыми длинными ногами. Она носила то шляпку, то беретку, и еще я помню маленькую малиновую сумочку. Можно сказать, мамочка была модница. На нее любовались мужчины. Бывало, она вынет из сумочки маленькое зеркальце, поглядит в него, поправит челку, проведет пальчиком по бровям, потом позволит на одно мгновение поглядеть в это зеркальце и мне. И часто она улыбалась! Но вот началась война, нас эвакуировали в Барнаул, и я больше никогда не видела мамулю прежней. Ежедневные тяжелые заботы сделали ее совершенно другой женщиной. Зеркальце куда-то исчезло. Исчезли мамины улыбки, смех. Пропали шляпка, беретка и малиновая сумочка. Чтобы нас прокормить, мама работала по двенадцать-четырнадцать часов. Приходила домой полумертвая от усталости. Засыпала сидя, в верхней одежде, во сне падала. Мы с братом Димой ее раздевали, укладывали спать. Утром она не могла подняться с постели, вставала с трудом, разбитая от забот и нервного напряжения. В такие моменты она почти не разговаривала.
Во время войны зимой в доме, где мы жили, было холодно, кругом сквозняки, на стенах плесень. Дрова по талонам, керосин, или «горючка», как его называли, тоже выдавался только по норме. Нормы были занижены, поэтому приходилось отчаянно экономить. Дрова стоили дорого, как и «горючка», и особенно дорого стоила любая еда. Мама просыпалась раньше всех, шла умываться неприятной студеной водой, к которой у меня с тех пор ненависть, готовила нам завтрак, и с каждым утром становилась другой, а прежняя наша мамочка исчезала. И однажды исчезла навсегда. Я помню этот день. Это были мамины именины, 11 февраля, и именно в этот день умер наш дедушка. Мама принесла откуда-то спирту, позвала в гости знакомую, пригласила ее за стол и сказала: «Давай выпьем за мои тридцать шесть лет! А когда папуля придет, выпьем еще с ним и за него, потому что он большой молодец, держится, никогда не жалуется, а ему очень-очень трудно, он старый, у него болезни!» И тут приходят какие-то люди и сообщают, что дедушку нашли на улице, возле ограды какого-то дома. Он умер просто, по-житейски: шел себе вдоль ограды, у него заболело сердце, он присел на кирпичное основание и скончался. Мама замолчала, наклонила голову, потом молча заплакала и стала смотреть на окно. Рот ее скривился. Но она не издала ни звука. Только позже она очень тяжело вздохнула и прошептала: «Ах, почему ты меня оставил? Вот как я теперь одна?» Дедушка тоже приносил домой деньги и продуктовые карточки, хотя он был пенсионер, ему было семьдесят три года, на работу его не звали. Он нашел место сам, самостоятельно. Занялся переписыванием бумаг в какой-то канцелярии. Он питался хуже нас всех, потому что меньше всех требовал, решительно отказывался от лишнего куска в пользу нас, детей. И никогда не жаловался. Его образ, образ мужественного человека, безропотно сносящего невероятные трудности, навсегда остался в моей памяти. Дедушка был щуплым, тонким от недоедания, страшно страдающим от холода, с болями в спине, в суставах, особенно в коленях, с сильно впавшими щеками. Но что за богатырская у него была воля! Он никогда не нервничал, не повышал голоса, старался как можно чаще улыбаться. Я думаю, он показывал нам пример стойкости. Он хотел, чтобы мы запомнили, каким должен быть истинный человек. И я до сих пор с той военной поры знаю: как бы тяжело ни было, нужно держаться, не падать духом.
После смерти дедушки мама надолго перестала улыбаться. Жить нам стало еще тяжелее, трудности наши удвоились. Теперь мамочка зарабатывала одна. Она даже перестала читать папины письма с фронта, хотя последнее мы получили уже давно, еще в 1942 году. А теперь был 1943 год. Мама перечитывала письма и вдруг бросила. Завела привычку тихо, негромким шепотом ругаться, обращаясь сама к себе. Вероятно, от этого ей становилось немного легче – таким способом, через сквернословие, она избавлялась от накопившейся злобы на жизнь, на судьбу. Но кто осудит женщину, работающую по четырнадцать часов, плохо питающуюся, живущую с тремя детьми в десятиметровой комнате?
В комнате у нас была только одна кровать, к счастью, широкая. Мы спали на ней втроем. Мама спала на большом сундуке, на тюфяке. Однажды вечером пришел какой-то милиционер, пришел вместе с мамой, и она сказала: «Вот он, сундук. Продаю. Берите его, не прогадаете. Поглядите, какой ладный, какой молодец! Ну, берете?» Милиционер сказал: «Хороший сундук, беру». И купил его, и увез. А эта вещь принадлежала не нам, а хозяйке комнаты. Что тут было, когда она узнала о пропаже! Она закричала: «Ах ты, дрянь такая! Где сундук, кому продала? А ну, пойдем в милицию! Давай адрес покупателя! Верни ему деньги! И выметайся отсюда, чтобы духу твоего здесь не было – ни тебя, ни твоих детей!» А мама спокойно ответила: «Еще чего! Катись-ка ты восвояси. Я тебе деньги за сундук потом верну, когда накоплю. Или новый сундук куплю. А эти деньги я уже потратила – мне детей кормить нужно. А если ты чего не поняла, пойдем на улицу, я тебе подробнее объясню – вот этим утюгом по твоей деревянной башке, добродетельная ты моя!» И мама вскочила и схватила со стола чугунный утюг. Хозяйка испугалась и выбежала. И почему-то не стала нас преследовать. Может быть, испугалась. А может быть, вошла в наше бедственное положение.
Этот поступок нашей мамы перевернул наше представление о ней. Она стала другой. Изменилась невероятно. До войны мамочка была интеллигентная женщина, а в войну интеллигентность уступила место решительности. Я не говорю о том, что по натуре наша мама стала хуже, испортилась. Нет. Она не сделалась склочницей, истеричкой или грубиянкой, она лишь распрощалась, как мне кажется, со всем романтическим, что есть в жизни. Она поставила себе цель – уберечь своих детей, и поэтому отбросила все, что мешало ей в достижении этой цели: слабость, неуверенность, пустые мечты и надежды, бессмысленные фантазии, наивные заблуждения. Разговаривала она теперь с людьми просто и ясно, без церемоний, иногда резко, иногда дерзко. Позже я поняла, что это был единственный способ не показаться слабой, простодушной и неумелой, чтобы не навлечь на себя беду, неприятности. Чтобы не пропасть. Ведь слабые и простодушные в войну быстро пропадали. А в эвакуации жилось чрезвычайно трудно, не легче, чем на фронте. На войне человека поджидала смерть, но и в тылу тоже – от недоедания, переутомления, нервозности, помешательства. Народу из числа приезжих, эвакуированных, умирало немало. Чаще, конечно, умирали старики, дети и нервные, неприспособленные к трудностям дамы.
Помню один трагический случай, произошедший в нашем доме. Рядом с нашей комнатой через коридор находилась другая комната, и там проживала некая тетя Валя С., эвакуированная из Ленинграда, и с ней ее мама. Чуть ли не каждую неделю в городе появлялись новые калеки с фронта, кто без ноги, кто без руки, кто вообще безногий или безрукий. Калек было немало. И не только мужчины! В нашем доме появилась фронтовая медсестра с палкой вместо ноги и без левой кисти. И еще без одного глаза. Деваться ей было некуда, но власти ее не бросили, а стали пристраивать. Ходили по домам, смотрели, можно ли куда-нибудь подселить несчастную женщину. И вот пришли в наш дом, поглядели везде, заглянули к соседям и нашли, что две дамы в одной комнате – это роскошь. И приказом военного коменданта определили фронтовую медсестру на жилплощадь к тете Вале С. и ее маме.
Принесли кровать, матрац, одеяло и подушку, тумбочку, чайник, кастрюлю, жестяную тарелку и кружку и сказали: «Живите здесь, товарищ сержант, а когда откроется дом инвалидов, мы вас туда переселим». Медсестра села на свою кровать, закурила и сказала: «Ну что, дамочки? Чаем не угостите? А я вас спиртом угощу». Выпив кипятку, а потом спирту, она стала дымить папиросой и рассказывать о войне. До войны это была простая женщина из рабочего поселка, нормировщица с завода, а в 1941 году ее послали на курсы медсестер, а оттуда сразу на фронт. И она полтора года отважно воевала. Вытаскивала из-под огня раненых бойцов, ползала под пулями в грязи и в снегу, оглушаясь взрывами гранат и снарядов. Стойкая, героическая женщина. Но однажды рядом с ней разорвался снаряд и лишил ее ноги, кисти и глаза. Настал ее последний день на войне. Героическую медсестру отправили во фронтовой госпиталь, а потом в тыл. И вот она очутилась в нашем доме, стала нашей соседкой. Работать она не могла, из дома выходила ненадолго, целыми днями сидела на кровати, курила и рассказывала о войне. Она делала то же, что делали все другие калеки, очевидцы фронтовых событий: без конца говорила о том, что пережила. Спустя всего несколько дней тетя Валя стала очень нервничать. Ходила бледная, кусала губы, трясла подбородком и бормотала: «Я больше так не могу, не могу!» Но ничего не объясняла. Зато объясняла ее мама, когда готовила в общей кухне: «Ах, как тяжело стало жить, просто невыносимо. Эта фронтовичка все время курит, пьет кипяток, грызет сухари и рассказывает об ужасах на фронте. Одно и то же! Вся комната в дыму – хоть в окно лезь, и без конца эти рассказы о том, кто как погиб, а кто заслужил медаль, а кому пулей ухо оторвало, и как ротный командир чуть не пристрелил струсившего старшину, а когда повел роту в атаку, его убил вражеский снайпер, пуля попала в сердце, и он лежал на снегу молодой, красивый и задумчивый. И прочее, и прочее. А потом снова кипяток, сухари, папиросы, и опять все сначала – о ротном командире, струсившем старшине, гибели, медалях, оторванном ухе и всем остальном. Что нам делать? Наших просьб эта дама не слышит! Простых слов не понимает! Куда нам деваться?»
У тети Вали не было детей, и наша мама ей сказала: «Подумаешь, рассказы о войне! Терпите! У вас ведь детей нет, забот вы тяжелых пока не знаете. Печетесь только о себе. Это еще ничего! Медсестру тоже можно понять. Конечно, можно. Она на фронте всякие ужасы повидала, натерпелась, калекой осталась, что ей за жизнь теперь? Вот однажды война закончится, вернетесь домой, в Ленинград, и будете вспоминать эту фронтовичку как нашу общую спасительницу. Вот поэтому и не скрипите зубами, остыньте. Все терпят, и вам надо держаться. Выше голову! Возьмите и сварите медсестре суп из перловки, наваристый, с салом. Окружите ее заботой, помогите ей, ведь вы же не инвалиды, у вас пока все хорошо…»
Тетя Валя С. не вняла этим словам нашей мамочки и продолжала волноваться и бледнеть. И однажды так разволновалась, что выбежала из дома и пошла куда глаза глядят. Стояла зима, морозы. Тетя Валя шла по дороге пешком, пока не очутилась за городом, в роще. Там она заблудилась, забегала, устала, села под деревом и замерзла насмерть. Ее убил психоз. Но смерть этой женщины впечатлила только ее собственную мать, что, конечно, естественно. А нашей маме было все равно. Она даже ничего не сказала, только пожала плечами. Героическая медсестра тоже, казалось, ничего не поняла: войны нет, снаряды не рвутся, отчего же ударяться в панику и умирать? Медсестра как будто и не заметила, что одной жиличкой в нашей квартире стало меньше.
Она продолжала дымить табаком, грызть сухари и рассказывать о войне. Через два месяца за ней приехала ее родственница и увезла куда-то на Дальний Восток.
Когда мы вернулись из эвакуации, мама была уже совсем другим человеком, нежели до войны. Нельзя сказать, что она стала чересчур строгой или замкнутой, или превратилась в скупердяйку и стяжательницу из-за постоянной нужды. Нет. Прежде у нее были кокетство и слабости, красивые мечты и фантазии модницы, непрактичность, капризы и расточительность, свойственные хорошенькой женщине, а теперь все это исчезло. Мама сделалась быстро соображающей, расчетливой и хладнокровной. Она узнала в жизни много горечи. Пережила смерть своих детей, самые страшные в ее жизни события. Она берегла сестру Жанночку и брата Диму, и все-таки они умерли от болезней.
Люди умирали после войны чаще всего из-за плохого питания. Скверное питание вызывало болезни крови, туберкулез, инфекции, бесконечные простуды, пневмонии. Была высокая детская смертность. Сужу по нашей семье и по тем семьям, которых знала лично, а также по рассказам знакомых. Когда я стала взрослой, я поняла, что ничего удивительного в этих смертях нет. Однообразная пища, в основном хлеб и крупа, без мяса и полноценных жиров, без молока, яиц забирала детские жизни. Мой брат Дима страдал простудами, судорогами, сонливостью именно из-за нехватки витаминов и прочих питательных веществ. Мама кормила нас перловой кашей с топленым свиным салом и говорила Диме: «Ешь, и станешь богатырем! Все богатыри ели кашу». Он ел и слабел, мучился простудами, кашлял, хрипел во сне, а иногда у него так сводило ноги, что он кричал, как ужаленный. Мама показывала его врачу, и тот выписывал какую-то микстуру, которую потом в аптеке наливали в наши бутылки и банки, потому что казенная посуда отсутствовала. Еще он говорил, этот врач, что детям следует давать молоко. Но откуда бы взялось молоко? В продаже молока не было, его отпускали только по талонам на усиленное питание, а эти талоны выдавали лишь людям с дистрофией и далеко не всем подряд. А у Димы не находили дистрофию, в его карточке писали: «Простуда, кашель, бронхит, воспаление легких». Теперь я понимаю, что если бы мои братик и сестренка пили по утрам молоко, ели хлеб со сливочным маслом, и хотя бы один раз в неделю на нашем столе были мясо и яйца, они бы не погибли. Но мясо, молоко, яйца и сливочное масло продавались только на базаре у частных лиц. На базар мама ходила, наверное, не чаще двух раз в месяц, когда выдавали аванс и зарплату. Потому что рыночные цены на продукты питания и мамочкина зарплата были несовместимыми понятиями. Иногда мама покупала на рынке два куриных яйца, варила их, мелко нарезала и добавляла в кашу. Но как часто мы ели яйца? Один раз в два месяца. Один раз в неделю ели селедку. Мяса не видели вообще, только сало. Мама покупала у торговцев за большие, немилосердные деньги соленое сало, чудесное на вкус, на вид розово-голубое, не топленое, нарезала ломтиками и делала маленькие бутерброды. Это было прелесть что такое! Мы улыбались от счастья, жмурились и урчали. С той послевоенной поры свежее розово-голубое свиное сало вызывает у меня почти ощущение культа, глубочайшее уважение. Сало спасло мне жизнь. Господь послал нам в помощь этот грандиозный продукт в самое тяжелое для нас время, и мы остались живы – не все, но выжили…
После смерти брата и сестры мама замкнулась. Ходила подавленная, словно пережила контузию. Часто брала в руки их вещи – одежду, ботиночки, ложки, еще что-то, прижимала к груди, к щеке и заходилась в сильном волнении. Еще бы: потерять детей восьми и одиннадцати лет! Слез у нее не было, зато тряслись голова, тело, руки. Потом мамочка отходила, садилась на кровать или на стул, подолгу молчала, ни с кем не разговаривала. Наша соседка тетя Нина, умудренная жизнью женщина, тоже пережившая смерть малолетних детей, только раньше, в 1932 году, научила маму: «Они сейчас в раю. Им хорошо. Ведь они безгрешны! Они бегают там по зеленой, сочной траве, играют, смеются, наблюдают за тобой с небес и шепчут: «Будь спокойна, мамочка, с нами все хорошо! Однажды мы с тобой увидимся и уже никогда не расстанемся. И будет у нас жизнь вечная и прелестная!» И мою маму эти речи поднимали, делали здоровее, спокойнее. Эти речи происходили из нашей великой христианской религии, а монотонные, упругие, металлические голоса, доносящиеся из радиоточки, официальные голоса нашего правительства, могли только убить, угробить, свести с ума. Эти свинцовые бормотания дикторов радио послевоенных сороковых годов казались дьявольщиной. Кто их придумал – такие бездушные? Помню морозное, унылое, тоскливое мартовское утро 1948 года. Мы сидим за столом – мама, соседка тетя Нина и я, поминаем моего братика Диму, умершего от пневмонии 2 февраля. Дима умер сорок дней назад, вечером, но мы собрались за столом утром. Передо мной кружка чая. Мама и тетя Нина пьют спирт. Они молчат. Им, женщинам и матерям, невероятно тяжело думать об умерших детях. И вдруг доносится металлический голос диктора: «В текущем году в стране увеличится выпуск товаров широкого потребления. Фабрики Министерства легкой промышленности с начала года увеличили производство тканей…» И мама вдруг усмехнулась и сказала: «У этого диктора такой голос, словно он сам не верит в то, что говорит». Затем мама вспомнила, что когда она заказывала гроб для Димы, гробовщик вздохнул и сказал: «Эх, настанут ли еще такие времена, когда гробы снова будут обивать тканью? Когда-то мы предлагали заказчикам шелк и бархат. А теперь даже усопшего накрыть нечем – не найдешь куска самой обычной материи!» Гробовщик жаловался на товарный голод. В сороковые годы это была эпидемия – отсутствие товаров. Ни одежды, обуви, ни мебели, ни предметов обихода в продаже вы не нашли бы, по крайней мере, в таких небольших городах, как наш. В нашем городе, казалось, магазины ничем не торговали, кроме чепухи. На полках стояли какие-то шкатулки, которых и до войны было много, рамки для фотографий, керосиновые фонари и еще что-то. Хочешь что-то купить из одежды, обуви или приличной еды – иди на базар. Только там, на рынке, и существовала торговля, но за каждую вещь просили большие деньги или драгоценные продукты – яйца, сливочное масло, сало, сахар. Можно было также расплатиться мылом. О мыле мечтали все. о нем вздыхали. Нам в школе говорили, что мыло – основа гигиены, а его в войну и сразу после войны нельзя было купить. Его доставали, выменивали. За мыло могли зарезать на улице, поскольку оно имело такую же ценность, что и деньги. Мамочкины пудреницы, малиновая сумочка, беретка и еще много чего ценного были выменяны в свое время всего на два небольших куска мыла.
В 1945—46 годах мама носила только вещи, приобретенные до войны. То есть каждому предмету было около восьми лет. Легко вообразить, насколько поношенная это была одежда. Остальное из своего довоенного гардероба мама продала в эвакуации, чтобы прокормить нас. Теперь продавать было нечего. Но на рынке мамочка ничего не могла для себя купить – ей это было не по карману. Она покупала только для нас. Правда, после одной-двух покупок на базаре мы еще туже затягивали пояса. И все-таки у мамы появлялись вещи, я это хорошо помню. Ее выручали кустари. Это были люди, которые предлагали товары, сделанные ручным способом в каких-то закрытых артелях и мастерами-надомниками. Они изготавливали обувь из автомобильной резины, перчатки, шапки и кепки из кожаной обивки дверей и диванов, платья, пиджаки, брюки и даже макинтоши и пальто из той же обивки, из портьер, штор, скатертей. Детям, может быть, и не приходило в голову, где кустари добывали материал, чтобы изготавливать такой необходимый для всех нас ширпотреб, но взрослые, конечно, понимали, откуда что берется. Все эти шторы, скатерти, обивки кресел и диванов в большинстве случаев были ворованные. Воры сбывали кустарям все, что им удавалось украсть, а воровство в сороковые годы было такой же эпидемией, как товарный голод.
Кустари обычно приходили по вечерам, когда все взрослые были дома, вежливо здоровались, показывали товар. Торговаться с ними было бесполезно – сколько помню, они всегда держались твердой цены, скидки не делали ни калекам, ни многодетным матерям. Такого понятия, как жалость не существовало. И все это хорошо понимали. В сороковые годы никто никого не жалел, сострадание было диковиной. Кустари хоть и казались приветливыми, но люди были жесткие, решительные, готовые дать отпор любой агрессии. Если с товарами приходили женщины, за их спиной непременно стоял бугай – «рожа как тыква, на лбу чуб, на губе папироса». У этих женщин частенько бывали дамские и детские вещи – сшитые из занавесок платья, пиджаки из старой, но еще вполне годной плюшевой портьеры или скатерти, обувь из какого-то «военного» материала. Мамочка сохранила детские ботиночки нашей покойной сестры Жанночки, купленные у кустарей, и однажды к нам – это были уже шестидесятые годы – пришел ремонтник, увидел их в серванте за стеклом и говорит: «Да это же футляр из-под бинокля!»
Помню, как в конце 1946 года наш город наводнили кустарные домашние тапочки, сшитые из какого-то материла, похожего на войлок. Сшиты они были кое-как, грубо, но поскольку стоили недорого, их покупали. Через год в городе появились такие же кустарные кофты, не шерстяные, не полушерстяные, а неизвестно из чего. Торговцы тапочками ходили по домам с доверху набитыми вещевыми мешками за плечами, потом с такими же мешками ходили продавцы кофт. Они произносили заманчивое, уютное слово «трикотаж». «Хозяйка, купите хороший трикотаж! – говорили они, развязывая мешки. – Купите сейчас, а то потом не будет!» Все торговцы упирали на то, что нам повезло – мы будто бы поймали счастливый момент. Мама купила и тапочки, и кофту. Кофта выглядела не нарядно и не украшала, но все-таки это был предмет одежды. Без одежды ведь совсем плохо.
В сороковые годы было много кустарных вещей. Мамочка носила пальто на вате, сшитое из диванной обивки темно-коричневого цвета. Вату для пальто добыли явно из того же дивана. Но мама была довольна, потому что настоящее пальто, фабричного производства, она купить не могла. В свободную продажу такие вещи в нашем городе не поступали, а спекулянты просили за одежду, сшитую на фабрике, слишком дорого. И хотя на рынке всегда можно было купить поношенную одежду – пальто, юбки, кофты и блузы, пиджаки и платья, она тоже стоила недешево. Это были ворованные вещи, привезенные из других городов. Бандиты нападали на дома, на прохожих, грабили их, сбывали добычу перекупщикам, а те увозили товар в другой город и сбывали на базаре.
Особенно плохо обстояло дело с дамским нижним бельем. О, это была всенародная беда! Мама надевала вниз, под одежду, белье, перешитое из солдатских кальсон. Когда мы ходили в городскую баню, я видела такое же белье из кальсон у многих женщин. Клапан, что был спереди на кальсонах, плотно и намертво зашивали, и чем аккуратнее это делалось, тем изящнее такое белье смотрелось. Фабричное же белье вызывало немалую зависть. Его берегли, за ним тщательно присматривали, поскольку в любую минуту его могли украсть. Впрочем, крали любую одежду – ведь ее всегда можно было выгодно сбыть, и притом очень быстро, уже через десять минут после кражи.
Сразу после войны трудно было раздобыть зубной пасты, зубных щеток. Зубной порошок, мятный, хорошо пахнущий, и зубные щетки привозили из крупных городов, из столиц республик, и, конечно, из Москвы. Люди, никогда не бывавшие в Москве, с открытым ртом слушали тех, кто посещал нашу главную столицу, и всегда расспрашивали, как выглядят столичные магазины, правда ли, что в московских универмагах можно купить одежду, обувь, нижнее белье, мыло, духи, пудру, принадлежности для бритья и стрижки, зубные щетки, коробочку зубного порошка. Москва была наглухо закрытым городом. В Москву пускали только по пропускам. Моя мама тоже спрашивала. Она, как и все другие женщины страны, завидовала столичным жительницам. Позже, через несколько лет, выяснилось, что многие рассказчики попросту выдумывали, сочиняли небылицы о снабжении Москвы, говорили, что оно высшей категории, «снабжение класса «экстра». Никто не знал, что это за снабжение такое – «экстра», существует ли оно на самом деле, и верили. Воображали себе богатые магазины, нарядные светящиеся витрины, улыбки и смех столичных дам, которых мужья и кавалеры приглашают посетить театр, кафе и прокатиться на таксомоторе. Слово «таксомотор» действовало на нас, живущих в ужасной нищете, волнующе и ободряюще. Всюду ходила такая фраза: «Быстро, как на столичном таксомоторе». Вероятно, это слово внушало нам надежду на восстановление нормальной жизни, на благополучие. А может быть, нам просто хотелось во что-то верить, ведь все давно уже устали страдать.
Как-то раз к нам пришел какой-то приезжий и спросил, здесь ли проживает такая-то семья. Фамилия этой семьи была нам незнакомая. Мы рассказали, что наш дом разбомбили, поэтому мы живем в чужом уцелевшем доме, в подвале, и ждем, когда наше жилье отстроят заново. Выяснилось, что этому человеку дали неверный адрес. Он расстроился, а потом развязал свой мешок и показал нам драгоценности: сахар, зубной порошок и мыло. «Купите что-нибудь или все сразу, – сказал он. – Мне срочно нужны деньги на обратную дорогу». А мама сказала: «Господи! Да где же вы все это взяли?» И приезжий ответил, что в Москве. Купил в универмаге. Мама задумчиво и зачарованно качала головой. Видимо, она представила себе этот универмаг: широкие лестницы, море электрического света, разноцветные люстры, служащие в униформе и, конечно, заваленные товарами прилавки. Незнакомец назвал сравнительно небольшую цену, но даже этих денег у мамочки не нашлось, и она отправилась занимать, кое-как собрала на мыло и зубной порошок, а сахар купила соседка, тетя Нина. И вот открытая коробочка зубного порошка стоит на столе, рядом лежит настоящее туалетное мыло в красивой бумажной обертке, и мы раз за разом наклоняемся и нюхаем эти драгоценные предметы. Это было в 1947 году. Брат Дима был еще с нами, а сестра Жанночка уже умерла… Я хотела позвать подругу Надю из дома напротив – пусть подивиться нашей удаче, но мама не велела этого делать. Я подумала, что она не хочет, чтобы нам завидовали. Ведь все мы были люди простые, обыкновенные, и зависть была естественным для нас свойством, но потом, повзрослев, я поняла: мама опасалась слухов и сплетен, которые могли навлечь на нас беду – воров или, еще хуже, налетчиков. Ведь наводчики не дремали, а ходили, вынюхивали, кто как живет, есть ли чем поживиться, слушали чужие разговоры, сплетни, домыслы. В то время все мы боялись за свою жизнь, потому что грабежи и убийства были частым делом. Поодиночке далеко старались не ходить, и если уж случалась такая необходимость, то одевались победнее, в последнее рванье. Вечером улицы пустели, а выходить ночью было равносильно самоубийству. Вообще люди очень боялись воров и бандитов и старались не болтать лишнего. Все ценное прятали подальше, деньги зашивали в одежду, а иногда клали в рот, изображали немых или контуженных. Я видела это собственными глазами.
Зубной порошок и мыло будоражили наше воображение еще только один день, а затем мама выгодно обменяла эти вещи на сало, сливочное масло и среднюю по величине соленую рыбину-селедку. Селедку она перетерла, смешала с частью топленого сала, и получилось селедочное сало, очень вкусное и калорийное. Сливочное масло она тоже растопила и тоже смешала с топленым салом, и мы ежедневно добавляли по полстоловой ложке этого лакомства в кашу, а селедочное сало один раз в день намазывали на хлеб. Хватило на полный месяц. Если бы мои брат и сестра питались так и все последующие месяцы, они, может быть, дожили бы до сегодняшних дней. Но, к нашему горю, этого не вышло.
Наверное, мама очень хотела оставить пудру себе, и мыло тоже, ведь она хорошо помнила то время, когда без манипуляций с пудрой, помадой, лаком и тенями не проходило ни одного ее дня. Но раздумывала ли она хоть минуту? Я уверена, что нет. Жертвуя чем-либо ради нас, она никогда не рассуждала, нужна ли эта жертва и можно ли поступить иначе.
Мамочка рано состарилась. В сорок лет выглядела так, словно ей за пятьдесят. Очень многие женщины и мужчины потеряли во время войны свою прежнюю привлекательность, особенно пострадали дамы. Всего за два-три года из полненьких, румяных и хорошеньких они превратились в сухих, бледных и хмурых. Это черное дело сделала война и ее верные помощники – плохая еда и вода, тяжелые жилищные условия, холод, тревоги и переживания, а также многочасовой труд и потери близких людей. Когда я смотрю на один мамочкин снимок 1940 года, где она особенно хорошенькая и веселая, я с горечью думаю: «Эта симпатичная женщина не знает, что через три года потеряет отца, через шесть лет младшую дочь, а через семь – сына. Также потеряет мужа. И будет жить в подвале, без солнечного света, недоедать, а вместо красивой одежды ей придется носить ужасные вещи, сшитые из диванной обивки и скатертей. И еще она не знает, что всего через пять превратиться совсем в другую женщину. Что за горькая судьба!» Да уж, судьбу женщин, подобных моей маме, переживших войну, иначе как горькой не назовешь.
Но мама не роптала. Она как будто поняла, что в жалобах нет никакого смысла, что это лишь жесты и звуки. Она впадала в задумчивость. А затем у нее появилась привычка читать газеты, потому что книг не было. Иногда книгами в войну отапливали помещения, но чаще их использовали как бумагу для письма – писали между строчками, так как обычная бумага была редкостью, и конечно, для курения махорки. А еще из них делали кульки для крупы, соли и семечек. Если книги были редкие и ценные, их можно было выгодно продать и обменять на продукты. Ноу нас не водилось даже самой захудалой книжки. Мы уезжали в эвакуацию налегке и вернулись ни с чем, и поэтому мама читала газеты. Напьется морковного чаю с сухарями, сядет за стол под лампой, подопрет рукой щеку и принимается за чтение. Газеты годились любые, без разбору, чаще всего они были старые, их использовали для свертков. За чтением мамуля проводила время, чтобы отвлечься. Ведь другого досуга не было. К тому же она была одинокая женщина. Кроме меня, у мамочки некого не осталось.
Сразу после смерти моего брата мама стала отчаянно меня беречь. Сделалась излишне подозрительной и маниакально заботливой. Зимой, весной и осенью каждый день щупала мне лоб, проверяла, нет ли температуры. Бросалась ко мне, сажала на стул, сама снимала с меня обувь, щупала носки или портянки. Если они бывали хоть немного влажные, мамочка восклицала: «Ах, насквозь сырые!» и тут же растирала мне ноги, закутывала их в одеяло, затем бросалась ставить чайник, чтобы поить меня кипятком. Даже самая крошечная мысль о том, что и я могу заболеть и умереть, делала ее безумной. Она постоянно думала о еде для меня и доставала ее, выменивала, покупала, заставляла есть хлеб с маслом, кашу с молоком, в обед и вечером запихивала в меня толченую вареную картошку с топленым салом, селедку и говорила: «Ты очень, очень худенькая, нужно поправляться, набирать вес!» В 1948 году мне исполнилось 15 лет, я была подростком, росла и вытягивалась, но особенной худобой не отличалась. Мама боялась, что я заболею туберкулезом, от которого люди умирали после войны тысячами. От этой болезни сгорела наша соседка тетя Нина. От туберкулеза умерла и моя подруга Надя. Мы учились с ней в одном классе. Надя умерла в 1948 году, в ноябре. В нашей квартире в подвале умерли еще двое детей. Тетя Нина жила с родной сестрой, у которой были два сына, два мальчика, семи и девяти лет. Один из них, семилетний, умер от пневмонии, как и мой брат. Вскоре после этого у тети Нины открылся туберкулез, она задумала уехать куда-то в теплые края, но не успела. И мамочка еще свирепее стала стеречь мое здоровье и кормить меня за покойных Жанночку и Диму.
Продукты питания, полноценные и в ассортименте, стали появляться на прилавках магазинов таких городов, как наш, в начале 50-х годов. И хотя продуктовые карточки отменили в 1947 году, да еще провели денежную реформу, с питанием было плохо. К тому же люди зарабатывали мало. При этом вокруг процветало воровство, тащили и крали все, что можно. Продавцы разбавляли молоко, обвешивали и устраивали пересортицу, мочили водой сахар, чтобы он прибавлял в весе, иногда даже мочили крупу и уверяли, что в таком виде ее доставили в магазин. Приезжие люди рассказывали о коммерческих магазинах, которые снова появились там и тут в крупных городах, и что в них можно купить все, что угодно – мясные изделия, рыбу, сыры, яйца, шоколад, сгущенное молоко, какао, кофе, сливки, конфеты, ликеры, наливки, шампанское и пирожные и прочие удивительные гастрономические вещи, но только по баснословной цене. А у нас в магазинах можно было купить хлеб, крупу и подсолнечное масло. Сахар, сливочное масло, мясные и рыбные консервы появлялись в продаже редко. Зато эти продукты всегда можно было купить на рынке.
Помню, как в 1949 году мы с мамой поехали в нашей родственнице, которая проживала в Горьком. Эту поездку я запомнила на всю жизнь. Кругом была ужасная бедность, люди были замкнуты и настороженны. Тревоги на лицах людей было больше, чем спокойствия или веселья. Хорошо помню, что в те годы люди решительно не доверяли друг другу. Никакую вещь не оставляли без присмотра – это было безумием. Не оставляли одних маленьких детей – их могли раздеть, то есть украсть одежду и обувь. Мы с мамой тоже все время глядели по сторонам. И вот мы приехали в Москву, в самый лучший город нашей страны, стали ждать на вокзале поезд до Горького. Народу в зале ожидания было много. Мы сидели на лавке, разглядывали людей, и тут я увидела вывеску «Буфет». Мама тоже ее заметила. Пойти и поглядеть, что продают в буфете, было для меня таким же развлечением, как посетить театр или цирк. И я стала умолять мамочку разрешить мне пойти и посмотреть, какой едой торгуют в столице. Мама отчаянно боялась за меня и все-таки разрешила: «Десять минут! Слышишь? Обещай мне!» Я пообещала и отправилась. Но вернулась раньше – прибежала и говорю: «Ах, что там такое! Кексы, шоколад, бутерброды с маслом и сардинами, пирожки с повидлом, чай, горячее молоко и… вареная курица!» И мамочка прошептала: «Неужели курица? Ах, в самом деле?» Она пошла посмотреть, а когда вернулась, долго качала головой и приговаривала: «Вот это да!» Курятина появилась на нашем столе нескоро, спустя несколько лет. Ее в любой день можно было купить в магазинах кооперативного потребсоюза, правда, по завышенной цене. Ну и, конечно, на базаре, где за нее тоже просили немало. Обычно мы покупали ее в выходные и праздничные дни.
На всю жизнь мама сохранила привычку кормить меня, как подростка. То есть до отвала. Даже когда я вышла замуж, и мама приходила к нам с мужем в гости, она щупала мои руки и плечи, проверяя, не прячу ли я худобу. Из ее сумки появлялись домашние пироги и пирожки, и я ела их и нахваливала, зная, что у мамочки станет хорошо и спокойно на сердце. Она будет улыбаться. Это было для меня очень важно. Я всегда мечтала видеть мою мамочку улыбающейся. Ведь она так много повидала горя!
Мама скончалась в 1974 году. Ей было шестьдесят семь лет. Думаю, что если бы не тяжелые потрясения сороковых годов, она, золотая моя, прожила бы на двадцать лет больше».
* * *
Анастасия Жел-ова, 1932 года рождения: «Первые послевоенные годы я помню хорошо, потому что было очень трудно. Людям было тяжело. Часто умирали от недоедания, от болезней, а еще можно было умереть от рук дерзких преступников. Помню, у нас были знакомые, дядя Вася П. и его жена Нина Георгиевна, они благополучно пережили войну, а в 1946 году погибли. Возвращались домой, свернули с улицы в свой двор, а в подворотне – налетчики. Нина Георгиевна закричала, а налетчики стали стрелять. Когда наших несчастных знакомых обнаружили, они были мертвые и раздетые. Преступники забрали одежду, или «ширпотреб», как тогда говорили. Из-за этого «ширпотреба» дядю Васю и его жену и застрелили. Это был обычный будний день в ноябре 1946 года, и обычный случай. Никого это происшествие не удивило. Только нам, детям, лишний раз прочитали наставление о том, что нужно быть очень осторожными, не ходить поодиночке и ни в коем случае в темные часы. Хотя мы и так хорошо знали, как много преступников охотятся на улицах за «ширпотребом», детским и взрослым. И очень боялись этих преступников. Страх в то время был самым распространенным и естественным чувством.
За два дня до гибели, дядя Вася П. и его жена были у нас в гостях. Уходя, дядя Вася забыл захватить свой футляр для очков. По забывчивости оставил его на подоконнике. Оказалось, что навсегда. Этот футляр долго лежал в нашем комоде среди других вещей, а теперь он у меня. Недавно я на него глядела. Старый-престарый потертый, незамысловатый футлярчик. Но когда я беру его в руки, сразу вспоминаю сороковые годы. Ох, до чего же непростое это было время!
Войну мы пережидали, как и многие другие, в эвакуации, за Волгой. А в нашем родном городе хозяйничали фашисты. Мы желали им смерти. Ведь они были душегубы, мучители. Все мы знали, что они ведут себя на нашей земле, как гнусное отродье, а бабушки говорили, что они как демоны. И мы мечтали, чтобы наша доблестная армия поскорее очистила наш СССР от этой нечисти.
В конце 1944 года нам разрешили вернуться в свой родной город. Я и два моих младших брата обрадовались, а мама приняла эту новость сухо и сказала: «Еще неизвестно, где мы будем жить. Вдруг наш дом разрушен?» Она боялась, что мы плохо устроимся и будем бедствовать. Мама сказала: «Пусть сначала другие поедут, а мы поглядим, что они расскажут». Но все решил папа. Он пришел однажды вечером и объявил: «Поедем! Я получил назначение. Буду заведовать отделом в городском Управлении здравоохранения. Нам выделят большую комнату в квартире и в дальнейшем обещают улучшить наши условия!» И мы поехали.
В эвакуации мы занимали половину крестьянского дома, жили тесно, но все-таки сносно. Мы привыкли. Мама работала на заводе. Папа служил в «аптечном хозяйстве», как он называл свою работу. Он был ответственным работником на складе медикаментов. Любил учет, порядок, был бережливым человеком. Хорошо помню, как аккуратно он носил свое пальто с барашковым воротником. Это пальто я запомнила на всю жизнь, потому что любила гладить воротник и говорить: «Барашек!» Мы, дети, скучали по животным. Потому что из-за войны животные совсем выпали из нашей жизни. Не было ни собак, ни кошек, ни голубей. Иногда можно было увидеть только унылых лошадей, которые работали как транспорт при заводах. Мы радовались каждой птичке на ветке, но и птиц было мало, и даже вороны куда-то подевались. В войну все переживали тягостное ощущение пустоты. Лишь летом 1947 года я впервые за долгое время увидела на улице собаку. Мы стали смотреть на нее, как на чудо. Живая собака! Мы пошли за ней, показывая на нее пальцами, желая ее потрогать, погладить. Молодой песик скакал и резвился, а мы счастливо улыбались и смеялись. Он принадлежал одному старшему офицеру, и тот всегда находился рядом, потому что собаку могли украсть и съесть. И украли бы, и съели, а из шкуры сшили бы варежки или детскую шапку. Жизнь сразу после войны была такая трудная, что крали и тащили все, что ни попадя. А уж собаку стащили бы несомненно, сварили бы в котле, набили бы себе брюхо. Или продали бы на рынке под видом баранины. Это было тогда легко сделать, поскольку из-за хронического недоедания многие люди потеряли бдительность относительно состояния и качества продуктов.
Еда занимает в моей памяти отдельное место. Слишком много с ней было связано, вокруг нее крутились чувства, желания и мечты. В сороковые годы она была главным нашим стремлением. О хорошей еде вздыхали. Все, что имело отношение к еде, было чрезвычайно серьезно, насчет этого не шутили. Ломтик свежего черного хлеба, посыпанный сахаром, – объедение, достойное восторга. Белый хлеб с яблочным повидлом – вершина детских радостей, выше только небеса и рай. Хорошая еда – это праздник, улыбки и смех, счастье и радость. Я мечтала вырасти, заработать много денег и купить себе повидла и сгущенного молока, белого хлеба и шоколада. Другие прелести жизни имели куда меньшее значение, а порой вовсе казались пустыми. Так я частенько рассуждала все сороковые годы.
Нашей повседневной едой была перловая или пшенная каша, перловый суп, черствый хлеб, сухари, консервы, топленое сало, сухой картофель. Раз в неделю или в десять дней папа доставал мясные консервы, селедку, а иногда сгущенное молоко и яичный порошок. В то время это были чрезвычайно ценные продукты питания. Как-то раз папа принес маленький сверток, а в нем оказалось сливочное масло. Мы нарезали хлеба, заварили морковный чай. Мама сделала бутерброды с маслом, и все не могли нарадоваться. Это было в 1943 году. Вовсю громыхала война, наши бесстрашные солдаты били фашистов, а мы в тылу работали на победу. Мне было одиннадцать лет, и я ходила после школьных занятий помогать маме. Работала в бригаде, которая вязала веревки и канаты для фронта. Однажды в бригаде появилась узбечка, очень хорошая, добрая женщина. Она привезла с собой мешочек сухофруктов и со всеми поделилась, хотя это было безрассудством. Я не помню, чтобы в сороковые годы люди делились едой. Моя цепкая детская память этого не схватила. Делиться едой в то время означало то же, что раздавать налево и направо золото и бриллианты. А та дама-узбечка взяла и раздала всей бригаде весь свой мешочек с сухофруктами. Я получила две горсти этого питательного лакомства, принесла домой, и у нас в этот день был праздник. Мы эти сухофрукты измельчили, сыпали на хлеб и ели, как сладость, как пирожное.
В войну всем было трудно. Но вот что удивительно: на базаре можно было купить такую еду, о которой все уже забыли. У частных торговцев можно было купить курятину и куриные яйца, рис, гречку, горох, крестьянское подсолнечное масло и даже какао. Какао! Торговцы предлагали соленое сало, не топленое, а куском, с мясными прожилками. Вся эта еда стоила невероятно дорого. За нее порой просили столько, что в нынешнее время это соответствовало бы такой покупке, как мебельный гарнитур. Однажды мы с мамой шли через базар, и одна торговка, рядом с которой крутился бугай, охранявший ее, предложила маме купить мешочек рису. Помню, она запросила цену, которая в наши дни соответствует цене хорошего телевизора или холодильника. А мешочек с рисом был не больше полулитровой банки. Торговка говорила: «Если будешь варить суп с тушенкой, хватит на два месяца». Рис хорошо разваривался, и в этом была его главная ценность. Но мама только вздохнула. Куда нам до риса! Таких больших денег у нас не водилось. А в другой раз торговка предложила нам кулек гороху. Боже мой! Горох! Но мама снова помотала головой. И тогда торговка сказала: «Если денег нет, могу сменять. На серебро – ложки, ножи, вилки. Или на спирт. Или на мыло. Или на медицинскую вату и марлю». Вата и марля были редкостью и имели огромную ценность, особенно для женщин. Брикет ваты можно было сменять на кусок сала. Брикет марли был в пять раз ценнее. А уж если у вас был спирт, это означало, что вы владеете неслыханной драгоценностью. Спирт в сороковые годы – могущественный продукт, как мыло. Мыло и спирт ценились выше золота. Бутылку спирта можно было сменять на набор из сливочного масла, сала, муки и сахара. А мыло порой было ценнее спирта.
Торговка не знала, что наш папа работает на аптечном складе, где хранятся и вата, и марля, и спирт. Узнав, она, наверное, сильно бы удивилась. Ей, возможно, показалось бы это невероятным: как можно работать на аптечном складе и не прихватить что-нибудь! Наверное, она не боялась присваивать государственную собственность. Рис скорее всего был ворованным, поскольку его не продавали в магазинах и не отпускали на рабочие карточки. Риса во время войны мы не видели. Его в военные годы было очень мало, он поступал лишь в госпитали и в прочие учреждения, где людям требовалось усиленное питание. Где же взять рис, если его нет в продаже? На государственном продовольственном складе. А как его взять? Украсть. То есть тайно присвоить себе. А потом продать его на базаре по баснословной цене или очень выгодно сменять. Так, наверное, и рассуждала бы торговка, узнай она, где работает наш папа. Но папа очень-очень боялся даже думать о воровстве, потому что был ответственным человеком. Прежде всего он отвечал за свою семью, за всех нас. Еще в 1942 году я слышала его слова, сказанные маме: «Что ты, Любаша! Возьми я хоть что-нибудь с полки в нашем складе и положи в карман – все, конец. Обвинят не в воровстве, а в саботаже. И по закону военного времени присудят высшую меру, расстреляют…» Это была страшная речь. Наверное, мама спросила папу, не может ли он тайно вынести со склада что-нибудь ценное, чтобы можно было поменять на еду. И он ей ответил. Мама испугалась и замолчала. И больше не спрашивала папу о его возможностях. Он был ей дорог, и она готова была терпеть лишения военного времени, лишь бы в нашей семье не случилось никакой беды.
В войну воровства на государственных предприятиях и в учреждениях было мало. Из-за страха, конечно. Все боялись угодить под скорый и безжалостный суд. Судили даже стариков и детей, никого не жалели, потому-то люди и боялись. Атмосфера повсюду была тяжелая. Люди приглядывали друг за другом, следили, а иногда доносили. А бывало и так, что некоторые нехорошие граждане любили пугать впечатлительных людей «законом военного времени», нарочно распускали слухи, что государство за воровство казенного имущества расстреливает всех подряд. У нас в бригаде все до ужаса боялись взять себе даже самый тоненький канатик или веревочку. Однажды я случайно сунула в карман моток бечевки, и пожилая работница, заметив это, сразу сказала: «Да ты что, деточка! В тюрьму захотела? А ну, вынь немедленно!» Я испугалась и впредь была очень внимательной.
Оттого-то я сейчас и удивляюсь, вспоминая, какие продукты питания некоторые торговки продавали на рынке: как они не боялись? Ведь продукты явно были украдены с государственного склада, особенно рис, гречка, сливочное масло, сахар, горох. За воровство можно было лишиться жизни, а люди все равно тащили! Ну и ну. А папа, повторю, даже думать боялся о том, чтобы прихватить что-нибудь, брикет марли, например, или спирту. Ведь мы без него пропали бы.
Папа был нашим спасением. Мы за него держались. Он был очень хороший человек. Преданный своей стране, честный. И до конца преданный нам, своей семье. На фотокарточках того времени у него круглое лицо и круглые очки. Он был немного похож на члена правительства Щербакова. Это мамина сестра так говорила, потому я и запомнила эту фамилию – Щербаков. Папа очень любил нас, своих детей. Когда началась война, его вызвали в военкомат, чтобы отправить на фронт, мама стала собирать его в дорогу, но вот он пришел домой и сказал, что ему запретили ехать на фронт, дали бронь и велели заниматься распределением медикаментов с аптечного склада. С этого дня какие-то недоброжелатели стали писать на него доносы. Папа часто приходил домой задумчивым и вздыхал. Мама спрашивала его, в чем дело, неужели неприятности? «Пашенька, разве что-то не сходится? – тревожно спрашивала она. – Неужто растрата?» Папа отвечал: «Нет, все сходится, все точно и аккуратно, как и положено. Но сегодня к нам приходили из НКВД, проверяли, расспрашивали. И назавтра вызвали на допрос к следователю. Вероятно, кто-то написал донос…» Ах, сколько раз папу проверяли и вызывали в НКВД! И всякий раз его не в чем было упрекнуть. Но доносы все шли и шли. Об этом папочка рассказал мне в 1954 году. Только тогда он узнал, кто желал ему зла, кто хотел для него тюрьмы и даже смерти. Летом 1954 года папа познакомился на футбольном матче с бывшим полковником из НКВД, рассказал ему про доносы во время войны, и тот пообещал разузнать. И вот что оказалось: доносы посылала одна наша хорошая знакомая, Лидия Петровна. Мы, дети, звали ее тетя Лидочка. Она была женой приятеля нашего папы, который тоже служил в «аптечном хозяйстве», но ему не дали бронь, а послали на фронт. Он там доблестно воевал, не погиб, и в 1945 году благополучно вернулся домой. Тогда же они с тетей Лидочкой пришли к нам в гости, и мы все очень радовались, веселились. Тетя Лидочка навещала нас и в войну, потому что эвакуировалась вслед за нами в тот же город, что и мы. Папа и мама с ней дружили, всегда были преданы этой дружбе, и вот оказалось, что это именно она хотела, чтобы папа пропал навсегда, сгинул. Мстила ему за то, что его не взяли на фронт, а мужа отправили воевать. Какая коварная дама! И надо же: когда она приходила к нам, то всегда улыбалась. Улыбалась, а в мыслях проклинала нас и желала, чтобы мы пострадали. Что за ужасный порок – зависть!
Когда муж тети Лидочки вернулся с войны, доносов стало меньше. То есть тетя Лидочка перестала заниматься своим черным делом. И вскоре эта семья перебралась в другой город. Оттуда они писали нам письма: «Все хорошо, тепло, много солнца, приезжайте погостить…» Один раз папа и мама приняли это приглашение и поехали. Все им понравилось.
И вот в 1954 году мы узнали, какой злой и опасный человек был рядом с нами. Вот какая была трудная и удивительная жизнь в то время.
Доносы, однако, поступали и от других людей. Вероятно, кто-то желал занять папину должность. Особенно много доносов и кляуз стало поступать с зимы 1946 года. Мы уже вернулись в свой родной город, поселились в многоквартирном доме, заняли большую комнату, 30 квадратных метров. На пятерых. Папа перегородил ее, и получились две комнаты. В одной мы, дети, а в другой родители.
Папа служил в Управлении горздрава, заведовал отделом. Что это означало в то время? Хороший дополнительный паек четыре раза в год и другие льготы. Будучи начальником отдела можно было сделать неплохую карьеру. Папа был коммунист, во всем и всегда разделял политику государства. Никогда, даже шепотом не высказывался о главе нашей страны плохо. Также не помню, чтобы он славил Сталина. Вероятно, он проявлял разумную сдержанность и добросовестно выполнял свои обязанности. Дела в своем отделе вел аккуратно, точно и в срок исполнял приказы начальства, не был строптивым, вспыльчивым, допускал лишь необходимую строгость в учете и организации. А на него писали доносы! По несколько штук в год. Тот полковник НКВД в 1934 году выяснил, что всего за несколько лет было написано тридцать шесть доносов! Но почему? Откуда у людей была на папу такая злость? Причина, видимо, вот какая: он казался удачливым, производил впечатление везучего человека.
У папы, как я уже говорила, было круглое лицо. А это в сороковые годы значило очень много. Не изможденные, не худые, а упитанные, округленные, физически складные люди производили особое впечатление. Они вызывали зависть и уважение. На таких мужчин с повышенным интересом глядели женщины, а если такой мужчина был еще и «прилично» одет, его принимали за высокое начальство или за невероятно удачливого, зажиточного человека. Упитанность была мерилом благополучия. А добротный гардероб свидетельствовал о больших возможностях. Ведь в войну и после войны люди жили в основном плохо. Питались кое-как, надевали на себя все что можно, и порой это были вещи, сшитые из скатертей, занавесок, диванной обшивки. А какая была обувь! Нередко ее изготавливали кустарным способом из автомобильной резины, брезента и низкосортного войлока. А папа носил костюм и пальто, сшитые в ателье. Ему повезло: какой-то его знакомый поделился с ним случайно добытым хорошим материалом, и оба они сделали заказы у портного. Это было в 1941 году, перед самой войной. Но ведь хорошие вещи еще нужно сберечь, и папе это удалось. Это в войну не многим удавалось, а папочка очень бережно относился к любым вещам, и его гардероб хорошо сохранился. А те, кто плохо знали папу, думали, что он богач. Должно быть, они фантазировали себе, что он время от времени приобретает все новые вещи, причем в магазинах и ателье, а не кустарные или поношенные с базара. А папа имел всего-то один костюм, вязаную жилетку, пару рубашек, пару галстуков, полуботинки да галоши. Ну, еще пальто и плащ на весну-осень. Вот и весь гардероб «богача». Однако людям этого не объяснишь. Если они внушили себе, что такой-то гражданин удачливый и зажиточный, разубедить их в этом непросто. Таково, видимо, свойство человеческой натуры.
Сейчас, когда я прожила свою жизнь и могу судить о различиях послевоенных десятилетий, я думаю, что тяжелее всего людям приходилось именно в сороковые годы. Я была подростком и хорошо запомнила многие события, явления и ощущения того времени. На улицах, к примеру, была такая ужасная преступность, что наша жизнь могла оборваться в любой день. Как мой папочка уберег себя от налетчиков – это просто-таки поразительно! В 1945—48 годах на людей, бывало, нападали даже днем, а уж шагнуть одному или вдвоем в ночь, в темный вечер – это было самоубийство. В темноте вас поджидали злые люди с пистолетами и ножами, чтобы добыть «ширпотреб» и другие ценности. Заглядывали в рот – нет ли золотых зубов и не спрятаны ли за щекой деньги. Забирали не только одежду и обувь, часы и украшения, прихватывали также портсигары, кисеты, футляры с очками. Бывали случаи, когда снимали с людей даже нижнее белье. Не раз и не два мы слышали вечером и ночью за окошком пальбу. Страх забирался к нам даже в постели, под одеяло. Помню, мой младший брат спросил меня, откуда взялись налетчики, из темноты? «Да, из темноты», – тихо сказала я. «А кто они?» – спросил брат. Я сказала, что разбойники. Но я и сама не знала, кто они, эти налетчики. Мне было тринадцать лет. Только позже, когда я подросла, я могла рассказать, откуда эти налетчики взялись.
В войну из-за комендантского часа, из-за патрулей не было такой преступности, как в первые послевоенные годы. Бродить по улицам в темное время суток запрещалось, на это нужно было иметь разрешение. После работы все сидели по домам и мечтали, как хорошо будет, когда мы победим фашистов. Папа, чтобы нас развеселить, рассказывал, какая хорошая жизнь настанет после войны. Будет «всё-всё-всё». Товары будут продаваться в больших, светлых и ярких магазинах. Полки затрещат от товаров. Появятся игрушки, а также сладости – конфеты, пирожные, торты, монпасье и, конечно, мороженое. Шоколадом и ситро будут торговать на каждом углу, даже в подворотнях. А сколько будет еды – об этом и говорить не стоит. Сто видов хлеба и булок! Сто видов колбас и сосисок! От таких папиных речей мы сладко дрожали. Как нам хотелось, чтобы фашисты поскорее сгинули!
Тогда наша великая страна-победительница будет производить огромное количество товаров. И мы будем счастливы. Папа говорил, что будут построены дома с просторными квартирами. Города засияют и засверкают. Папа говорил нам о мечте, и мы мечтали. Думаю, многие мечтали в то время о хорошей жизни, даже те, у кого не было ну совсем никакого воображения. Ведь люди не могут без мечты. Мечта – это надежда. А жизнь без надежды – это существование во мраке. Но вот война закончилась, люди вернулись в свои города, и как все устроилось? Стало очень трудно. Все населенные пункты разделили по категориям снабжения. Если ваш город промышленный, значительный для экономики страны, то он, как и центральные города, достоин первой категории снабжения. Это означает бесперебойную поставку хлеба и муки, сахара и жиров, молока, крупы и консервов, и даже мяса. Это столовые, закусочные и магазины. Еще это означает ускоренное восстановление и строительство домов. Вторая категория доставалась тем городам и областям, которые были обычными средними городами, а не индустриальными центрами. Также вторая категория снабжения назначалась тем районам, которые кормили нашу родину, то есть сельскохозяйственным центрам. Туда привозили хлеб и муку, жиры и крупу один или два раза в неделю. Там были плохие столовые, и ассортимент товаров был бедный. Третья же категория – для всех остальных. Те граждане, которые проживали в областях с третьей категорией снабжения, могли запросто умереть от недоедания в любом возрасте. Умирали целыми семьями. Умирали маленькие дети, школьники, студенты, зрелые люди и старики. Помню, как в 1948—49 годах одна наша знакомая, которая проживала в поселке с третьей категорией снабжения, потеряла всех своих трех детей, а также двух сестер и мать. Все они умерли от туберкулеза, пневмонии и малокровия, вызванных недоеданием.
Наш родной город был второй категории. И когда мы вернулись из эвакуации, то сразу это почувствовали. Все думали, что по случаю Победы отменят продуктовые карточки, но их не отменили. И все ждали, что развернется гражданское строительство, но оно не развернулось. И почти все предприятия находились еще в эвакуации. Поэтому в нашем городе была ужасная безработица. Люди искали себе место и не могли его найти – все было занято. Хуже всего было старикам и инвалидам, так как их вообще никуда не брали. Старики, пережившие войну, стали умирать. В нашем доме, например, в 1946 году умерли сразу четыре бабушки и два старичка. Для мамы тоже поначалу не нашлось места, она обошла, помню, весь город, но у нее ничего не получилось. Папа отчаянно старался ее устроить хоть куда-нибудь, и, наконец, летом 1946 года маму приняли на работу в заготовительную контору. Но сколько людей проиграли в попытке найти место! На улицах появились нищие. Люди бродили по дворам с гармошками, играли, прося подать хоть что-нибудь на жизнь, и нередко с ними были дети. Нищих можно было встретить повсюду, на базаре и возле городских бань, у торговых лавок с керосином, у дровяных складов. Они стояли или ходили, вытянув руку, унылые, осунувшиеся. Но им редко подавали. И они, конечно, умирали. Один такой нищий пришел во двор нашего дома, ходил-ходил, глядя на окна, а потом сел и умер. Кто он был такой, никому не было известно. Соседи позвали милиционера, тот пришел, оглядел нищего и ушел. А потом приехали санитары и увезли покойника. Я запомнила этот день еще потому, что в тот же вечер в наш двор пришел человек и наклеил на двери объявление: «Выступает знаменитый джигит Али-бек! Номер с кинжалами и саблей! Спешите видеть. Плата продуктами. Также берем дрова и вещи».
На следующий день во дворе появились какие-то люди с Кавказа, расстелили ковер, и на этот ковер вышел джигит Али-бек с двумя ножами и под гармошку стал исполнять танцевальный номер. Потом станцевал, размахивая саблей. Вокруг него собралась толпа, которой тут же напомнили, что за выступление Али-бек берет плату продуктами. Все мы страдали от скуки, потому что развлечения были редкостью. Жизнь протекала чрезвычайно однообразно, тоска была беспросветная, поэтому на Али-бека вышли посмотреть все. Потом помощник джигита стал собирать плату. Люди давали хлеб, муку, крупу, сахар, яичный порошок, сушеные яблоки, папиросы. Джигит ни от чего не отказывался. В 1946—48 годах во дворах выступали в основном лилипуты, джигиты и силачи. Силачи выглядели зрелищнее всего. Помню такое объявление: «Силач Магомед показывает чудеса силы и воли! Жонглирование двухпудовыми гирями! Разрывание цепей! Гнет кочергу! Пальцами сгибает гвозди!» Мы очень хотели поглядеть на этого Магомеда и ждали, когда он придет. И вот он появился, силач Магомед. Молодой мужчина с усами, невероятно мускулистый, с огромными плечами и шеей. Стал подбрасывать гири и ловить их. Потом согнул чугунную кочергу и отдал ее зрителем – пощупать и убедиться, что она действительно чугунная. После этого разрывал цепи, гнул гвозди. Представление длилось полчаса. Гири, цепи и гвозди лежали в тележке с одним колесом. Многие люди были ошеломлены: до чего же сильный человек! А мама удивлялась, сколько же этому Магомеду требуется еды, чтобы быть таким мускулистым и сильным. Она качала головой. Но все мы были довольны, что увидели представление. Жизнь была такая трудная и унылая, что люди редко улыбались. Лица у всех были озабоченные. Бедность, болезни, страх за свою жизнь и жестокое однообразие – вот как протекали сороковые годы. Бедность была повсеместная. Хорошего было мало. Смотреть решительно не на что. Наш город зимой утопал в снегу, весной и осенью – в грязи, а летом в пыли. Вечером улицы едва освещались. В домах часто не было воды, плохо работали уборные. Люди жили тесно, недоедали, ссорились и отчаивались. Наверное, не было домов, где не случались бы драки, склоки и самоубийства. Тяжелее всего, как оказалось, было мужчинам, вернувшимся фронта. Особенно офицерам.
На войне офицеры привыкли командовать, распоряжаться, привыкли к субординации и к тому, что многие заботы можно переложить на младших по чину. Еще офицеры привыкли проявлять свою натуру и полюбили внимание к себе. Ведь многие на войне становились храбрецами потому, что были на виду. И вот некоторые такие офицеры чувствовали себя в 1946—48 годах ужаснее всего. Им было очень-очень тяжело. Приехали с войны, поглядели, какая тут жизнь, затосковали и запсиховали. У нас в квартире проживал Максим Иванович, фронтовой капитан, так вот он голодал из-за того, что не мог найти работу, и от этого сходил с ума. Когда он приехал с войны, он каждый день улыбался, напевал, делал в своей комнате физзарядку. Это было в конце 1945 года, а зимой 1946 он стал как будто другим человеком. Продал свою военную форму, ремни, сапоги, шинель. Купил вещи похуже, сильно поношенные, невзрачные. Очень похудел, осунулся. И сильно помрачнел. Ему никак не удавалось найти место, и он не знал, на что жить. Уже никто не слышал, чтобы он напевал. И улыбок его уже никто не видел. Он ходил злой, бормотал что-то нехорошее. Судьба поставила его в невыносимые условия: нужно было научиться выпрашивать, унижаться. А он не мог, он был храбрец-удалец, ротный командир. И однажды он куда-то исчез. Пять дней его не было, а потом в нашей квартире запахло разлагающимся телом. Взломали его дверь, заглянули в комнату, а он висит в петле! На столе записка: «Это не жизнь! Ухожу добровольно. Прощайте. Ваш Максим, гвардии капитан». Его комнатка была самая маленькая, как чулан, и в этой маленькой комнатке фронтовой герой от голода, тоски и неудач и решился на самоубийство. Когда его вынесли на улицу и положили в санитарную машину, мы, дети, тоже вышли. Старая облупленная санитарная машина, грязная, унылая улица, серые неухоженные дома с тусклыми окнами, и мы – плохо одетые, бледные и грустные оттого, что наш сосед повесился. Думали ли мы о том, что жизнь изменится к лучшему, и все станет, как рассказывал папа? Мы, дети, наверное, еще думали. А вот взрослые, я полагаю, уже нет. Особенно те, кто вернулись с фронта. Некоторые из них, увидев, что мирная жизнь обернулась горькой действительностью, затосковали и занервничали. Были такие, которые говорили, что вой снарядов, визг пуль, внезапная гибель товарищей и прочие ужасы войны им привычнее, интереснее и ярче. Я сама слышала от фронтовиков такие речи. Мирная жизнь показалась им невыносимее войны. На фронте им было лучше. До сих пор помню, как ругался другой дядя-военный, который был соседом наших знакомых. Он ненавидел эту убогую жизнь и вопил: «За что я воевал? Вот за это?» Он попросту бесился от злобы. Надрывался: «Гады! Тыловая мразь!» Вероятно, он был недалеким, темным человеком. Верил в то, что пока он сражался на войне, нехорошие люди, прятавшиеся от фронта, превратили его страну в смрадную яму, в тоскливое болото. Видно, он считал, что перед ним, вернувшимся с победой, должна была развернуться другая картина: всюду яркие краски, море света, простор, новенькие дома, улицы, лакированные автомобили, улыбающиеся хорошенькие женщины, богатые витрины и вообще изобилие. А у него не было даже вдоволь табаку.
И он не мог позволить себе каждый день кружку пива или стакан вина. Карманы его вечно были пусты. Весь его гардероб – военная форма. В шкафе хранится только старая пижама. Купить ничего нельзя, нет в продаже. Каждый день диким злым зверем ходит по пятам голод. На обед и на ужин у него частенько один хлеб да кипяток. Он худеет и тускнеет. За лучшую жизнь нужно драться, нужно обивать пороги учреждений, предприятий, искать место, жалобно просить, упрашивать, клянчить. А кругом равнодушие и недоверие. Помогают только своим, выручают только самых близких. На героев войны смотрят просто, без интереса, как на пустое место. Но тяжелее всего дома, там настоящая война с теснотой, тоской, пустым желудком и не проходящей злостью на жизнь. «Мерзавцы! – кричал военный. – Мне, боевому командиру, некуда деться!» Но на его крики никто не обращал внимания. Это ведь было в 1946 году. За годы войны люди научились не обращать внимания на истерики, вопли и слезы. Разжалобить людей было почти невозможно. Хочешь отравиться – травись, только не на глазах у детей. Выбросился из окна – ну что ж, сам себе сделал развлечение. Поэтому, сколько бы тот военный ни кричал, никто ему не сочувствовал. Только говорили: «Слушай, мил-человек, шел бы ты во двор надрываться! Там над головой облака висят, вот к ним и обращайся». У военного от злости на лбу вздувались вены. Наконец его взяли в дорожную бригаду, строить дорогу. Это была временная работа, но все-таки лучше, чем ничего. И офицер немного успокоился. У него завелись деньги, он мог ежедневно выпивать вина и пива, а то и водки. Это ему помогало, примиряло его с действительностью. Однажды приходим в гости к своим знакомым, а он пьяный сидит на сундуке в общем коридоре и рассказывает дряхлой бабушке, которая ждала очереди в уборную, о том, как он жил на войне: «И этот немецкий городок мы захватили почти без боя… Потери, конечно, были, но малые. Да. И уже через час я имел в зубах сигару, в руке – стакан с коньяком, а еще ломоть вяленого мяса. И какие-то хрустящие галеты. И вот я сижу в старинном кресле, ем, пью и дым пускаю, и думаю о хорошей, белокурой мадам… Да. Ведь я был усач и герой, и кругом интересный мужчина. Думал: «Вот победим фашистов, заживем как положено!» И вот те на: приехали. Промахнулись… Тоска-а и чепуха-а… Представляешь, бабуся, я даже застрелиться хотел!»
Конечно, не все военные хныкали, психовали и впадали в истерику. Ведь все люди не могут делать одно и то же. Характеры все-таки разные. Родственник моей подруги, которого звали дядя Гриша, ни разу никому не пожаловался, хотя ему тоже было несладко. На войне он бил фашистов, а здесь, в мирное время и в родном городе, ему пришлось бить других врагов: безденежье, безработицу, тоску и голод. Сначала ему повезло – его взяли в бригаду возчиков. На телеге, запряженной лошадью, он подвозил бочки с водой. Но вскоре почему-то снова остался без работы. Когда я приходила к подруге, он всегда был дома, то чай пил, то курил, сидя на табуретке, то сапоги начищал. Бездельничал. А потом оказалось, что он «работает» по ночам. Все знали, что он сидит без дела, а у него между тем появились деньги на вино и закуску, и он даже мог одолжить тридцатку-другую соседям, выручить их. Добрый был человек. То есть всем так казалось. Но вот однажды за ним пришли из угрозыска. Вошли в квартиру и спрашивают у соседки: «Где комната Григория П.?» Она им указала, и они попросили ее позвать жильца, а тот неожиданно почувствовал опасность и затаился. Тогда они стали стучать в дверь и говорить: «Григорий Пос-ков, открывайте и сдавайтесь! Не то дверь вышибем и стрелять будем! Давайте без глупостей!»
Но дядя Гриша сдаваться не пожелал, а распахнул окно, вскочил на подоконник и полез на крышу. Мы с подругой как раз свернули с улицы во двор ее дома, поэтому все увидели своими глазами. Дядя Гриша отчаянно пытался сбежать от милиции, карабкался на крышу, а ему кричали: «Дурак! Куда лезешь, ведь застрелим! Сдавайся!» И вдруг начали стрелять. Ранили дядю Гришу, и он, раненый, ухватился за водосточную трубу и тоже закричал: «Все, все! Не стреляйте, сдаюсь!» Потом ему помогли влезть в окно соседней квартиры. Там его уже ждали. Выяснилось, что он налетчик из банды грабителей. Вот это да! И в банде этих налетчиков были одни бывшие фронтовые офицеры. Нападали на людей, грабили лавки, склады, магазины. Не знаю, приходилось ли дяде Грише стрелять и убил ли он кого-нибудь. Об этом не говорили. Ему присудили десять лет тюрьмы. Через десять лет он вернулся и снова поселился в той же квартире, у родственников. Но вскоре умер. Вот какая история про военных. Вспоминая дядю Гришу, я размышляю о том, что в сороковые годы не только отпетые негодяи шли в налетчики, а разочаровавшиеся в жизни военные, офицеры и солдаты. Вот кто, как оказалось, вместе с разбойниками появлялся из темноты с ножами и пистолетами.
Но мы боялись не только вечера и ночи, а еще утра, когда все шли на работу или на учебу. Дома оставались старые люди и малые дети, и они, бывало, все утро проводили в тревоге. На квартиру могла напасть какая-нибудь вооруженная шайка, или в форточку мог забраться малолетний вор. Мой младший брат однажды очень сильно испугался, когда увидел за окошком лицо незнакомого мальчишки. Это был «форточник», которого послали на «дело» воры повзрослее. «Форточник» думал, что в комнате никого нет, и уже собрался открыть форточку ножом. Если бы она не поддалась, то замазку смазали бы серной кислотой, и она размягчилась бы и отошла, и тогда стекло можно было бы выдавить. Мой брат болел ангиной, лежал в постели. Воришка появился за окном, когда он не спал, а читал книжку. И оба они – и братец, и воришка – испугались. Братец потом рассказывал нам, что он даже немного описался от страха. Он вскочил, выбежал в коридор, постучался к соседке, и та ворвалась в нашу комнату с криком: «Воры, воры!» Она была опытная женщина и знала: главное – поднять шум. Воришка спустился по водосточной трубе и убежал. Скорее всего, это был мальчик, потерявший в войну всю свою семью. Таких детей было много. Некоторые из них разрешили проблему собственного существования простым способом – воровством. Сбивались в шайки, воровали и грабили.
В первые послевоенные годы люди маниакально зорко присматривали за своими портфелями, сумками, свертками. Сумки, портфели, чемоданы держали как можно крепче. Свертки прижимали к себе и были готовы к тому, что в любой момент может появиться мальчишка и броситься под ноги. Падая, люди иногда выпускали из рук свое имущество, и тогда его подхватывали другие мальчишки, которые тут же быстро удирали. Нашу квартиру пытались ограбить каждый год. То «форточники» лезли в окна, то мошенники стучались с лестничной площадки в дверь, прося дать напиться или уточнить адрес, или разыгрывая сердечный приступ, или говоря, что к соседям приехал родственник или родственница. Являлись также фальшивые водопроводчики, электрики, просили открыть дверь и впустить их в квартиру. А один раз постучался фальшивый милиционер, одетый как все милиционеры, только китель и галифе у него были мятые, словно их перед тем, как надеть, он вынул из мешка. Это было утром, когда в квартире находились лишь две наши соседки, обе пожилые. Одна из них, Людмила Ивановна, была очень подозрительная женщина, и она, даже поглядев в скважину и увидев милиционера, не открыла дверь, а стала спрашивать: «Чего надо? К кому? Зачем?» Фальшивый капитан милиции сказал, что ведется особая перепись жильцов нашего дома, потребовал впустить его, а тетя Людмила Ивановна сказала: «Нет, не открою. Хотите – ломайте дверь, хотите – арестовывайте. Но вы не милиционер. Не верю». И не открыла. Капитан ругался, угрожал, но так ни с чем и ушел.
Воры лезли к нам в дом, вероятно, потому, что приметили, какое «приличное» пальто и «добрый» костюм у моего папы. Преступники устраивали за ним слежку, чтобы выяснить, где он живет. Пускали за ним мальчишку, и тот возвращался и называл адрес. Воры думали, что если у папы такие хорошие пальто и костюм, то и в доме у него найдется, чем поживиться. Впрочем, на папу с ножом и кастетом нападали и на улице, в самый обычный день, а один раз подбежали с обрезом ружья. Пытались его раздеть. И вот какое чудо: каждый раз папе удавалось отбиться. Осенью 1946 года он прибежал домой сильно запыхавшийся, но радостный, и рассказал, что несколько минут назад на него напали двое налетчиков и стали стаскивать плащ и рвать из рук портфель, и папа одного грабителя хотел лягнуть ногой по колену, но промахнулся и угодил в промежность, и тот упал на колени, а другому грабителю досталось портфелем по носу, да так сильно, что он закричал. Папочку пытались раздеть и ограбить даже на углу нашего дома. И каждый раз ему везло. Я думаю сейчас, что он был заговоренный, «отмоленный», потому что совершил хороший, светлый поступок: спас икону. Об этом мне незадолго до своей смерти рассказала мама.
Это был удивительный случай: зимой 1942 года, в морозный день, папа поехал на грузовике в какой-то поселок, и в дороге грузовик сломался. Водитель сказал, что пешком никто из них не дойдет, замерзнет, поскольку мороз стоит не шуточный, за тридцать градусов. Будет лучше, если они останутся на месте, потому что через три часа по этой дороге должен проехать еще один грузовик. И они остались сидеть в кабине. Но вот мороз стал пробираться в кабину, и вскоре оба так замерзли, что даже моргали с трудом. Тогда водитель принялся шарить под сиденьем, ища какую-нибудь тряпку, которую можно было бы поджечь. Кругом степь, пусто, деревьев никаких нет, костер развести не из чего. И вот, пошарив под сиденьем, водитель нашел икону. Он на этом грузовике работал недавно и об иконе ничего не знал. А она была большая, размером с крупную книгу. «Вот вам и деревяшка! – сказал водитель. – Мы ее сейчас разломаем, подожжем и согреемся. А то околеем». Но папа сказал: «Это же икона, товарищ. Разве можно ее жечь? Последнее дело. Лучше мы отдерем доску от борта вашего грузовика, наломаем щепок и разведем костер. И дождемся помощи. А икону сбережем. Правильно?» Услышав о порче государственного имущества, водитель испугался, замахал руками и завопил: «Вы что, ополоумели? За одну доску с борта нам могут присудить десять лет тюрьмы! Никогда, ни за что! Дайте сюда икону – за нее нам ничего не будет!» Папа икону не отдал. Вынул блокнот, вырвал страницу, отогрел дыханием окоченевшие пальцы и написал расписку, из которой следовало, что всю ответственность за порчу госимущества он берет на себя, а водитель ни при чем. Тогда водитель согласился оторвать доску. Так они и спаслись. И икону спасли. И после этого папе везло больше, чем его знакомым. Ни один донос, написанный на него, не повлиял на его судьбу, и ни один налетчик не причинил ему серьезного вреда. Вот как вышло: папа спас икону, а она спасла его. Ведь он ее забрал к нам домой, а потом отдал какому-то священнику. Совершив светлый поступок, папа смог уберечься от многих неприятностей.
Я узнала об этом только в восьмидесятые годы, когда папы уже не было. Но тогда, в сороковые, даже папа не знал, почему ему везет. Наверное, он не догадывался. А на него писали доносы. Его коллега по работе, которого, кажется, звали Дмитрий Степанович или Степан Дмитриевич, набивался ему в товарищи, стремился подчеркнуть свое доброе расположение, и при этом каждые три месяца отправлял в НКВД письмо-«сигнал», в котором перечислял все новые случаи папиной враждебной деятельности. Он писал, что папа в частном разговоре ругает правительство и хвалит Англию и Америку, критикует советские законы и порядки. Это выглядело примерно так: «Считаю своим долгом сообщить, что настроенный враждебно к правительству СССР гражданин П. 14 марта сего года при проверке документации в конторе склада намеренно устроил двойную проверку, чтобы затянуть или отложить отправку медикаментов со склада в лечебные учреждения… При этом он отрицательно отзывался о правительстве нашей страны, называя его работу некомпетентной… Говорил, что в Америке люди живут лучше…» Но поскольку доносов в НКВД поступало бесчисленное множество, то прочитать каждое письмо было трудным делом. Письмо, бывало, так и не распечатывали, а лишь клали в особый ящик для хранения. Этот Дмитрий Степанович клеветал на папу и ждал, что из этого выйдет. Очевидно, он очень надеялся, что папу лишат должности, «снимут с работы», как говорили в то время, чтобы самому занять папино место. Обычное дело в сороковые годы. В чем причина такого коварства и злобы? Зависть и желание улучшить свое материальное положение. Поэтому Дмитрий Степанович писал и писал свои доносы.
Иногда, как я уже говорила, папу вызывали в НКВД и устраивали расспросы. Спрашивали: «Зачем вы устроили двойную проверку документации? Затягивали отправку медикаментов?» Папа отвечал: «Хуже всего – это преступная халатность. Она играет на руку врагам. Враги только и ждут, чтобы наша страна утонула в халатности, безалаберности и некомпетентности. Представляете, что будет, если лечебное учреждение получит недостаточно лекарств и перевязочного материала только потому, что документы были оформлены неправильно? Но я устраиваю двойные проверки не всегда, а лишь в тех случаях, когда документами занимаются молодые работники». Порой папа чувствовал себя так, словно именно сегодня его заберут в тюрьму. Этого он боялся больше всего, потому что у него было трое детей. Без папы мы, наверное, сгинули бы. И когда он шел в НКВД, он волновался и тревожился. Но вот его отпускали, а через некоторое время из-за новых доносов вызвали снова. Такое было время!
Хорошо помню Новый год с 1946 на 1947. У папы на работе служащим разрешили устроить новогодний вечер, и каждому работнику позволили привести одного своего ребенка. Папа привел меня, а мои младшие братцы с нетерпением ждали, когда я вернусь, потому что знали: на вечере будет какое-то удивительное угощение, и что я обязательно принесу его домой и поделюсь. Я очень радовалась такому событию. Новогодний вечер! Праздничное угощение! Вечер должен был начаться в семь часов. В 1946 году 31 декабря и 1 января были рабочими днями, поэтому служащие папиного учреждения, закончив работу, всего-навсего сдвинули столы, развесили бумажные гирлянды и устроили праздничное чаепитие. Елки с игрушками не было. И на следующий день уже ничто не напоминало о празднике. Но вечером 31 декабря все веселись, улыбались, поздравляли друг друга. Я заняла место рядом с папой. Новогодним угощением был нарезанный треугольниками и завернутый в фольгу хлеб со сливочным маслом и с повидлом, что выглядело и празднично, и таинственно, а также карамельные конфеты и шоколад. Шоколад! Каждому досталось по кусочку, и так как папа отдал свою порцию мне, у меня были два кусочка, оба для младших братьев. Я их завернула в фольгу. И еще я отложила в сторону четыре карамельные конфеты и хлеб с маслом и повидлом. Тоже для братцев.
Вечер начался с поздравления – его произнес начальник учреждения. Потом поздравления произносили начальники отделов. Папа в своей речи сказал, что в наступающем 1947 году в стране будет производиться больше лекарств, больше продуктов питания и товаров повседневного спроса, и жизнь поэтому станет намного лучше. Правительство делает все для улучшения жизни людей и сделает еще больше. Вот так сказал папа, я это хорошо запомнила. А в 1954 году бывший полковник НКВД показал папе донос, в котором Дмитрий Степанович сообщал, что на новогоднем вечере в канун 1947 года папа восхвалял промышленность Соединенных Штатов Америки, говоря, что эта страна производит несравнимо больше лекарств, продуктов питания и изделий легкой промышленности. Ах, этот Дмитрий Степанович! Взял и все подло переврал! Наверное, он очень надеялся, что в наступающем году папу обязательно отправят в тюрьму или хотя бы снимут с работы. А ведь я сидела напротив этого человека и видела, как он улыбается и во всем поддерживает папу. Он восклицал: «Правильно! Верно!», хлопал в ладоши, а на следующий день отправил в НКВД донос.
На этом вечере все много смеялись. Молодые сотрудники изготовили уморительную новогоднюю стенгазету. Чья-то умелая рука нарисовала добрые по смыслу и веселые карикатуры на работников. Какому-то дяде вместо тела нарисовали градусник, а одной тете – бутылочку с микстурой. Я это хорошо помню. Эту газету сняли со стены и пустили по рукам, и в ней, кроме рисунков, были веселые стихи, сочиненные тоже весьма умело. Когда газету вернули на стену, один из служащих папиного отдела взял аккордеон и стал играть. Пели песни, танцевали. Два сотрудника по очереди пригласили на танец ту тетю, которую изобразили в виде бутылочки микстуры. После этого праздничный вечер закончился, все стали расходиться. Конечно, люди с большим удовольствием задержались бы еще на час или даже на два, но все понимали, как это опасно – ходить вечером по улице, пусть даже под Новый год. Мы с папой пошли домой как можно быстрее, мы почти бежали, и, слава Богу, добрались без происшествий. Братья ждали с нетерпением и сразу бросились ко мне: «Ты что-нибудь принесла? Какое угощение было на вечере? Покажи скорее!» Люди нынешнего поколения, наверное, сказали бы: «Какая чепуха – хлеб с маслом и повидлом!», но в то время никто не назвал бы это чепухой. А карамельные конфеты и шоколад – и подавно. Братцы подпрыгивали от радости, хотя папа сказал им, что эти подарки они могут съесть только после ужина. Ведь мама приготовила новогодний ужин. 1946 год был сложный, в последние месяцы стало плохо с хлебом, не говоря уже о других продуктах питания. А у нас на столе была крольчатина. Папа и мама откладывали деньги и купили на базаре мясо кролика, мама сделала из него жаркое. А еще у нас был рис! Немного. Каждому досталось по две ложки, но все-таки это был настоящий рис. Мама и папа выпили вина, поздравили нас и друг друга, пожелали счастья и здоровья. После этого нас уложили спать, а к папе и маме пришли гости, наши соседи, дядя Олег и тетя Зоя, хорошие, интеллигентные люди, только всегда грустные. У них умер маленький сын от какого-то воспаления, и кроме этого несчастья, были и другие серьезные неприятности. В войну они работали в тылу на заводе, жили очень плохо, в тесном бараке, причем раздельно, а когда война закончилась, их с завода не отпустили, а решили оставить на Урале. А они, эти дядя Олег и тетя Зоя, только и ждали того дня, когда наконец им разрешат уехать домой, то есть в наш город, потому что они здесь выросли, здесь проживали их родственники и знакомые. Другие рабочие того уральского завода тоже были возмущены: почему их не отпускают по своим городам, когда наступила Победа и больше не нужно изо всех сил трудиться для фронта? Однако никого не отпускали. Помню, что дядя Олег несколько раз рассказывал об этом папе и маме и всегда – очень печально. Он говорил, что некоторые рабочие самовольно покинули завод и уехали, то есть попросту сбежали, но их разыскали и арестовали. Сам дядя Олег тоже самовольно уехал с Урала на две недели, чтобы повидать свою маму и сестру, а когда вернулся, его также обвинили в дезертирстве и арестовали. Это было осенью 1945 года. Тетя Зоя продолжала работать на заводе, а ее муж находился в тюрьме. Наконец его и других арестованных выпустили, объяснив, что такова милость правительства по случаю Победы, но с Урала уезжать все же запретили. Многие были в отчаянье, как рассказывал дядя Олег. Ведь при заводе рабочие жили в невероятно трудных условиях, семьи нередко были разделены, многие скучали по родным, по своим городам, к тому же никому не нравилось такое ужасное отношение – точно к рабам. Вот уже наступил 1946 год, стране уже не требовались снаряды и патроны в прежнем количестве, а рабочих все равно не отпускали. И опять началось бегство людей. Убежало, как сказал дядя Олег, не меньше двухсот человек. Потом еще столько же. Никто не хотел оставаться и жить в бараках, в ужасной тесноте и тяжелых бытовых условиях. Многим не нравился климат. Но большинство людей хотели соединиться со своими родными, а еще они, конечно, волновались за свои дома и прочее имущество, оставленное в родных городах. А заводское начальство поступало жестоко – не принимало это в расчет. «Мы так тяжело трудились, – рассказывала тетя Зоя, – а с нами так скверно поступили. Предательски. Но за что? Разве мы не были преданы нашей стране? Разве мы не приближали Победу?» Дядя Олег и тетя Зоя смогли вернуться только летом 1946 года, в августе. Они были обижены на правительство за такое нехорошее к ним отношение и редко улыбались. Все сороковые годы они жили с ощущением разочарования и тревоги, будто каждый день ожидали подвоха со стороны властей. Впрочем, многие люди в то время относились к окружающей жизни недоверчиво. На моего папу писали доносы, и он знал об этом и все время ждал неприятностей. Завистливые люди хотели занять его место. Но папа не мог упредить их злые намерения – разве это возможно? В пятидесятые годы он сказал мне: «Не мог же я писать встречные доносы!»
В 1947 году в его отделе случилась неприятная история: из сейфа пропал ордер на покупку пальто. В то время одежду и обувь нельзя было купить в магазине свободно, это были товары повышенного спроса, и на их приобретение требовался ордер, а его выписывали только по решению руководства организации или предприятия. Ордерами награждали лучших работников. И вот кто-то украл ордер. Стали расследовать, расспрашивать и, наконец, нашли вора: им оказался один молодой работник, который сразу во всем сознался и вернул ордер. Его судьбу стали решать на собрании коллектива: отдавать человека под суд или пожалеть. Папа сказал: «Поскольку наш товарищ действовал на сиюминутном порыве, а не по хладнокровному расчету, как бандит, то его следует строго предупредить и простить. Иначе что его ждет?
Тюрьма. А что в ней хорошего? Она сломает человеку жизнь, и все из-за какой-то бумажки». Все согласились и простили молодого работника. А через несколько дней папу вызвали в Управление и сказали, что на имя начальника Управления поступили письма, в которых сообщалось, что именно папа придумал эту хитрую комбинацию с кражей ордера, втянув в преступление молодого служащего своего отдела. Будто бы папа задумал украсть ордер, купить по нему пальто и в тот же день продать его по спекулятивной цене, то есть в три раза дороже, и таким образом нажиться. Но когда воришку поймали, папа бросился выручать его из беды, предложив не отдавать его под суд, а простить. В Управлении папу спросили: «Ну, что скажете? Происходило что-либо подобное в действительности или нет?» Папа ответил, что даже в самые трудные моменты жизни, в войну, когда его дети недоедали, он ни разу не посягнул на чужое имущество, хотя на складе медикаментов, где он служил, было много ценнейших вещей и препаратов, которые можно было легко обменять на продукты питания. Тогда папе сказали: «Но ведь в Управление поступило сразу три письма с одинаковой версией преступления – это ведь тоже что-то значит! Если бы одно письмо, а то сразу три!» Это означало, что сразу три служащих папиного отдела написали на него донос. Но папа лишь повторил: «Я честный человек. Иначе я еще в войну занимался бы кражами и попался. Разве вы этого не понимаете?» Папе поверили. Он вздохнул и пошел домой.
Такие случаи, как этот, не только оскорбляли и унижали человека, они изматывали его нервную систему и подрывали здоровье. Атмосфера острой подозрительности, скрытого коварства и недоброжелательности продолжалась до пятидесятых годов. Так рассказывал мне папа в 1954—56 годах и позже. Сколько ему пришлось вытерпеть! Некоторые невоспитанные люди обвиняли его в том, что он отсиживался в тылу, пока они воевали и калечились на фронте. Такие слова, я помню, кричал наш сосед по лестничной площадке. На войне он был лихим танкистом, а в мирной жизни стал унылым, вечно недовольным пьяницей. Встречая папу, он раздраженно что-то бормотал. Папа обращался к нему: «Вы хотите что-то мне сказать? Скажите. Давайте решим это вопрос сейчас и навсегда». Бывший танкист сначала не решался, но однажды, напившись, принялся орать: «Поглядите, какое у него пальто! А откуда? И почему? Потому что в тылу отсиживался!» Конечно, он использовал другие слова, бранные и отвратительные, и с этим, как оказалось, ничего нельзя было поделать. Никто не мог его унять, даже собственная жена. Он срывал свое недовольство жизнью на человеке в «приличном» пальто и не бывавшем на фронте, и папе приходилось молча сносить эти оскорбления. В 1948 году наш сосед, напившись, замерз насмерть. Его жена очень горевала, долго ходила подавленная и потерянная. Еще бы: дождаться мужа с фронта и потерять его из-за пьянства.
Став пенсионером, папа сделался огородником и садоводом, до осени пропадал на даче, испытывая огромное удовольствие, выращивая овощи, собирая урожай груш и яблок. Долгие годы его жизнь была далека от блаженства, и вот, наконец, ему стало очень хорошо. Зимой папа часто ходил в библиотеку читать исторические книги. Он прожил семьдесят четыре года. Мамочка пережила его на пять лет. Приходя на могилу родителей, я всегда здороваюсь: «Здравствуй, мамочка, здравствуй, папочка». Иногда я подолгу гляжу на фотографию папы. Мы, его дети, живем на свете благодаря его честности, выдержке и огромному терпению, и если бы не эти папины качества, как бы сложилась наша судьба в очень-очень трудные сороковые годы? Наверное, мы пропали бы».
Назад: Герман Шелков 1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как трудно жилось в 1940-е годы
На главную: Предисловие