Книга: Смотреть и видеть. Путеводитель по искусству восприятия
Назад: Глава 1 Об избыточности
Дальше: Глава 3 Осторожно: Q!
Глава 2
Минералы и биомасса
Чтобы узнать новое, ступайте дорогой, которой вы шли вчера.Джон Берроуз
Между большим каменным зданием и стайкой красных и белых кирпичных домиков приютился прелестный особняк из красного песчаника с изящной выгнутой лесенкой перед входом. Но я почти не смотрела вверх. Под ногами было слишком много интересного.
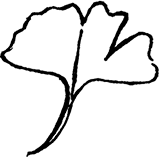
Если вы прошли мимо человека, остановившегося на тротуаре, чтобы рассмотреть каменные плиты под ногами, знайте: возможно, вы только что упустили шанс познакомиться с Сидни Горенштейном. А это досадно, поскольку вам наверняка было бы интересно узнать то, что этот человек думает о сине-сером песчанике. Горенштейн, геолог по образованию, когда-то преподавал в колледже, но потом бросил, при этом продолжив организовывать экспедиции для студентов. Он сорок лет координировал экскурсионную программу Американского музея естественной истории (Нью-Йорк). Он и по сей день с энтузиазмом водит немноголюдные пешие экскурсии по Верхнему Манхэттену.
Я встретилась с ним прохладным осенним днем у служебного входа музея. Горенштейн, улыбаясь, первым подошел ко мне. Я держала в руке микрофон, и во мне легко былоузнать человека, который вчера ни с того ни с сего позвонил ему. А в нем было легко узнать геолога, который взял трубку после первого же гудка и сразу согласился со мной встретиться. На Горенштейне были очки и удобная для прогулки одежда – несколько слоев под легкой курткой, – а кудрявые волосы выбивались из-под бейсболки. Взъерошенный, скромный и слегка рассеянный ученый из детских книжек и моего воображения.
Но пусть вас не вводят в заблуждение непринужденные манеры и неброский головной убор: Горенштейн знает об истории Нью-Йорка последних 400 млн лет гораздо больше, чем мы с вами, и скоро ненавязчиво покажет вам, как мало вы на самом деле знаете. Он исподволь начал знакомить меня со своим увлечением. Еще до официального старта, когда мы только отошли от музея, я сделала замечание о брусчатке, которой выложен двор: я предположила, что асфальт, наверное, не настолько ему интересен, как “настоящий” камень. Горенштейн искоса взглянул из-под своей кепочки и усмехнулся: “Ну, на Земле есть только минералы и биомасса. То, что под ногами, имеет природное происхождение. Так что асфальт – одна из двух этих вещей”.
Действительно, асфальт – это смесь вязких остатков перегонки нефти с минеральными наполнителями, то есть камешки, песок и связующий материал. Такая смесь не только “настоящая”, но и состоит из вторсырья. Горенштейну изгибы каменного покрытия говорили что-то о природной топографии лежащей под ним земли. Он показал мне, что даже форма каменных плит – следствие природного феномена. Шестиугольные плитки сделаны по образцу булыжников, которыми мостили дороги в Римской империи. А римские булыжники представляли собой базальтовые камни удивительной шестиугольной формы, которая естественным образом возникает, когда вулканическая лава охлаждается и сжимается. Нам не нужно было никуда идти, чтобы увидеть геологию города: она лежала прямо перед нами, перед музеем.
Это настоящее откровение: смотреть так же, как Горенштейн, на город, который всегда казался мне просто нагромождением построек. Вспоминая о геологии, мы всегда думаем о том, что под ногами. Горенштейн показал мне, что геология – это также и то, что окружает нас со всех сторон.
“Вот что я вижу, – сказал он, указывая на здание музея и окружающий его садик. – Здание музея – это крупный выходящий на поверхность массив горной породы, а то, что вокруг него – это травянистая равнина с разбросанными по ней деревьями”.
Иными словами, суррогатный природный ландшафт – гора и равнина – десятки раз воспроизводится в каждом квартале. Любой дом построен из камня или сложен из стволов некогда живых деревьев. Все так называемые рукотворные объекты начали свое существование в виде природных материалов, которые были разобраны на части, обработаны и затем вновь собраны в форме предметов, удовлетворяющих нашим целям.
Если увидеть город с этой точки зрения, он не покажется неестественным. Холодный камень имеет природное происхождение. Он почти живой: впитывает воду, нагревается под лучами солнца и линяет из-за дождя. Камни, как и мы сами, стареют: поверхность размягчается, прожилки становятся заметнее. Если смотреть на город как на природный ландшафт, он не кажется вечным: даже исполинский многоэтажный дом постепенно разрушается под влиянием упорной и терпеливой работы ветра, воды и времени. Дождевая вода оставляет минеральные потеки под оконными отливами. Медные украшения окисляются – и зеленые струйки стекают на камни. Стальные элементы ржавеют, окрашиваясь в красно-рыжий цвет. Мало что так красноречиво указывает на естественное происхождение города, как процесс его старения. Камни обрастают мхом. Плющ ползет по кирпичам, проникая в щели между ними, и в конце концов разрушает их. Дерево темнеет от влажности, светлеет от старости и изнашивается. Когда-нибудь этот город, как и все остальные города, разрушится и станет фундаментом для построек других поколений.
Мы поднялись по мраморным ступенькам, ведущим к выходу из музея. Ступени вогнуты в середине и закруглены по краям: их истерли ноги бесчисленных посетителей. Каждый из проходивших по лестнице ступал на мрамор и перемещал семнадцать (или около того) его молекул к краю ступеньки или к боковой стороне. Через миллион шагов форма камня изменилась со столообразной на слегка вогнутую. Я прикоснулась к сверкающим перилам. Медь была отполирована жиром из сальных желез миллионов рук, сопровождавших идущие по лестнице ноги. Пока я размышляла о том, как люди влияют на камни, Горенштейн вернул меня к мысли о том, как камни влияют на людей.
Ведь Горенштейн – геолог. Во время прогулки он был одновременно со мной и не со мной: шагал рядом, но при этом улыбался и украдкой кивал своим “друзьям”, как он называл различные каменные создания, мимо которых мы шли. Мы были окружены ими: когда начинаешь обращать внимание на камни, оказывается, что они очень разнообразны – и вездесущи. Они – это здания, дороги, тротуары, бордюры, клумбы, ограды и стены, ступени, площадки, навесы и декоративные элементы. “У каждого камня особые характеристики: минеральный состав, размер зерна, общий вид, – сказал Горенштейн. – Поэтому в итоге начинаешь узнавать их, как друзей. Когда я гуляю с людьми, я стараюсь не уделять камням слишком много внимания; это неучтиво. Но когда я гуляю один, я прохожу по этим местам, и камни приветствуют меня”. Этих своих друзей он знал хорошо. Горенштейн на одном дыхании назвал мне более шестидесяти пород, которые различил на фасаде и внутри величественного здания музея. Красный гранит из Миссури соседствовал с гранитом из Род-Айленда, рядом с которым лежал камень с Тысячи островов. Внутри музея коралловый риф со Среднего Запада соседствовал с камнем из Германии возрастом около 400 млн лет.
Возле тротуара компанию им составляли столбики из железной руды (неизвестного возраста) и относительный новичок – дерево гинкго (Ginkgo biloba). Мы с Горенштейном остановились полюбоваться: желтые листья и оранжевые плоды серым ноябрьским утром. Дерево оделось в осенний наряд, но выглядело в нем еще выразительнее: оно жило и менялось в привычном нам временном масштабе, в отличие от своих соседей – железа и гранита. С точки зрения геолога гинкго – самое подходящее дерево для каменного города. Гинкго называют “живым ископаемым”: за 200 млн лет оно почти не изменилось. Однако я, как и большинство жителей Нью-Йорка, когда-либо выходивших из дома, знаю это дерево по другой причине. Его плоды пахнут, как деликатно сказано в книгах по садоводству, “неприемлемо”.
Мы с Горенштейном постояли на углу, и я начала сквозь подошвы ощущать холод камней. Горенштейну холод, казалось, был нипочем. Он всматривался в прошлое: через дорогу лежал Центральный парк. “На острове Манхэттен нет ни кусочка настоящей природы; здесь все искусственное”, – сказал он, предвосхищая вопрос о происхождении парка. Парк кажется уголком дикой природы, однако, по словам Горенштейна, он целиком рукотворен, как и обступившие его здания. Впрочем, можно сказать, что и парк, и дома в равной степени естественны: в конце концов, и то и другое из камня.
Многим известна история Центрального парка. Его построили Фредерик Лоу Олмстед и Калверт Вокс. Сейчас прямоугольник площадью 340 га вполне можно назвать географическим центром Манхэттена, однако в период строительства парк лежал севернее городских кварталов. Он открылся в 1858 году. Парк вырос на месте трущоб, овечьих пастбищ, свиноферм, мыловарен и заводиков по производству костяного угля. И хотя сегодня местность выглядит нетронутой, на самом деле это не так. Парк олицетворяет собой ландшафтную архитектуру.
Горенштейн кивнул в сторону гигантского валуна, выглядывающего из-за стены парка: “Вот, например, естественный выход породы”. Валун поднимался из земли под острым углом и мог бы выглядеть устрашающе, если бы время не смягчило его очертания. Я увидела двух детей, игравших на другой стороне валуна, – курточки на ножках, карабкающиеся вверх и вниз по каменным плечам. “Вот так местность выглядела до того, как срыли холмы. Тут видно, куда их переместили”, – прибавил Горенштейн. Он указал на окружающую парк низкую каменную стену. Холмы, мешавшие Олмстеду и Воксу, были обезглавлены, сглажены и превращены в блоки, из которых сложили стену.
“Значит, они родственники?” – спросила я. Живая сила камней, которая благодаря опыту Горенштейна стала открываться мне, и родство парка со стеной вызвали у меня смутные неприятные воспоминания о цыплятах, которым дают корм, изготовленный из других цыплят.
– Ага.
Это был сланец. Манхэттенский сланец. Точнее, “сильно выветренный, от ржавого до темно-бордового цвета, от средне– до грубозернистого гнейс (из биотита, мусковита, плагиоклаза, кварца, граната, кианита и силлиманита) и, в меньшей степени, сланец”.
Человек, пишущий о геологии, всегда рискует тем, что аудитория впадет в ступор. “Сланец”, “гнейс”, “филлит”, “метаморфические”, “осадочные”, “кремнисто-обломочные”, “сланцеватые”… Когда я слышу слово “палеозой”, меня клонит в сон. Возможно, геологический масштаб времени в сочетании с многосложными специальными терминами (а их тысячи) оказывают на организм кумулятивный усыпляющий эффект.
Конечно, моя реакция на палеозой означает лишь то, что я ничего не понимаю в геологии. Следить за деталями гораздо проще, если хоть немного знаком с темой. А когда “хоть немного” превращается в большой массив знаний, человек может с полным правом назвать себя профессионалом. Знания влияют не только на то, что мы видим и слышим, но и на то, что мы замечаем. С помощью нейровизуализации можно увидеть, чем отличается мозг профессионала и обычного человека во время реакции на стимул. Посмотрите на мозг танцора во время представления, и вы увидите гораздо больше активных зон, чем в мозге человека, не умеющего танцевать. Профессионализм позволяет человеку приобрести еще больший профессионализм.
Слушая рассказы Горенштейна, я вспомнила о шахматах. Когнитивные психологи охотно изучают природу профессионализма: как он приобретается, поддерживается и применяется. С 70-х годов XX века исследователи охотно изучают поведение и способности шахматных гроссмейстеров. Во-первых, у опытных шахматистов удивительно хорошая память, во-вторых, шахматная доска позволяет без особых усилий оценить объем этой памяти. А память у шахматистов действительно очень глубока: опытный игрок, наблюдая за игрой, видит совсем не то, что игрок начинающий. Глаза профессионального шахматиста смотрят на доску абсолютно не так, как глаза новичка; окидывая доску взглядом, они видят гораздо больше. Опытные игроки замечают не только расположение фигур, но и их историю – откуда они пришли и куда двинутся. Часто они видят десятки потенциальных ходов – вплоть до самой победы! – или десятки прошлых ходов, от начала игры.
Гроссмейстеры держат в памяти феноменальное количество комбинаций. Показано, что типичный гроссмейстер помнит 50–300 тыс. комбинаций из 5–7 фигур, стоящих на доске неслучайным образом. Такие игроки игроки располагают до 100 тыс. дебютных ходов. Память позволяет им воспроизводить в уме точное расположение большого количества фигур во время сеансов одновременной игры, посмотрев на них лишь однажды. Иногда эта способность распространяется и на случайные комбинации фигур – ведь случайная комбинация выглядит странной и очень характерной для тех, кто видит логику в расположении фигур. Когда же на доску смотрит новичок, он, напротив, видит хаос. Если новичок внимателен, то он, вероятно, сможет по памяти воспроизвести несколько положений на доске. Но не более того.
Дело в том, что эксперт видит смысл в расположении фигур, а новичок – нет. В глазах профессионала все фигуры связаны друг с другом, и каждую комбинацию на доске он сравнивает с другими досками, которые он видел или на которых играл. Комбинации становятся знакомыми, как лица друзей.
Сравнение с лицами весьма уместно. Нейробиологи довольно давно знают о функции веретенообразной извилины, отвечающей за восприятие и распознавание лиц. Люди умеют быстро распознавать лица на фоне других предметов, находить знакомое лицо в толпе и держать в уме бесчисленное количество лиц, даже недолго виденных. Восприятие ребенка с самого начала сосредоточено на лицах. Во время прогулок мой сын с нескрываемым интересом вглядывался в лица прохожих, чем многих нервировал. Недавно ученые обнаружили, что веретенообразная извилина активируется у шахматистов не только тогда, когда они смотрят на лица, но и когда играют в шахматы. У фигур нет никаких признаков, напоминающих человеческое лицо, так что, судя по всему, этот участок мозга отвечает за распознавание визуальных объектов, на которые мы смотрим “профессиональным” взглядом. Все мы эксперты в восприятии и распознавании лиц; для тех же, кто стал профессионалом в распознавании других визуальных объектов, эти объекты все равно что лица друзей и родственников.
Я взглянула на Горенштейна, который смотрел на своих каменных “друзей”. Могу поклясться, что долю секунды видела, как его веретенообразная извилина светилась узнаванием.
Вернемся к палеозою. Я подозреваю, что многие относятся к геологии так же, как я сама (невежественно). Именно поэтому я посвятила несколько изнурительных дней попыткам понять, что такое сланец. Следуйте за мной: ваш мозг начнет изменяться с каждым прочитанным словом.
Сланец – это метаморфическая порода. Слово “метаморфическая” означает “изменяющая форму”. Здесь этимология объясняет почти все. Сланец начинает формироваться из глины и ила на дне океана. Несколько сотен миллионов лет назад, в эпоху, которая до сих пор остается безымянной, континенты сталкивались, массивы суши раскалывались, и глина под давлением опускалась к земному ядру, прессовалась, нагревалась, снова прессовалась. Очень, очень долго. Затем глина выталкивалась на поверхность – уже в форме сланца. Минералы, которые вдавливались в сланец, придавали ему слоистый вид, который отличает его от гнейса – метаморфической породы с более зернистой структурой.
Вот история сланца. Но для нас она не заканчивается. Сланец – это основная порода в моем городе. Небоскребы стоят на сланце. Много лет линия горизонта Манхэттена с перемежающимися низкими и высокими зданиями изменялась под влиянием необходимости возведения фундаментов небоскребов на материковой породе. В Нижнем и Среднем Манхэттене сланец можно найти прямо под почвой, но на промежуточных улицах он залегает глубже. В некоторых местах сланец выглядывает из-под “земли” (поверхность, на которой мы помещаем дороги и дома) и незаметно захватывает территорию. Центральный парк испещрен такими подглядывающими камнями. Олмстед и Вокс оставили их, чтобы парк выглядел естественнее, а также соорудили из сланца холм, с которого можно любоваться созданным ими пейзажем.
В день нашей прогулки нью-йоркские сланцы сверкали включениями слюды под полуденным солнцем. Мы остановились. Я провела рукой по глубоким горизонтальным царапинам на поверхности. “Это оледенение”, – сообщил Горенштейн. Я, наверное, выглядела озадаченной, потому что он пояснил: “Давным-давно здесь прошли ледники и отшлифовали камни”. Нынешняя форма береговой линии в районе Нью-Йорка и уровень моря – следствие бесславного отступления тающих ледников. Их следы остались и на сланцах. Ледники несут с собой мелкие камни и царапают скалы. Исчерченная поверхность, которой я коснулась, сохранила следы такого движения. По словам Горенштейна, царапины выдают направление движения льда: на юго-восток (наступление) или на северо-запад (отступление). Если вы заблудитесь в Центральном парке, вы сможете понять, куда вам следует идти, по царапинам на сланцах, которые выполняют роль слегка уклоняющейся стрелки компаса: они указывают на юго-восток, в сторону Среднего Манхэттена. Эти “эрратические валуны” разбросаны, как объекты современного искусства, по парку и всему городу.
Едва мы вышли из парка, как нам стали сигналить машины: мы неосторожно переходили улицу и чуть не угодили под автобус. Мне показалось, что геология осталась позади, но эта иллюзия длилась недолго. Покинув проспект, мы скоро оказались у здания, перед которым стояла подпорная стенка высотой до колена. Это ничем не примечательное светлое сооружение отделяло тротуар от площадки с мусорными баками. Горенштейн, к моему удивлению, остановился. Лично мне довольно грязная стенка, если не считать нескольких лежавших на ней ярко-желтых листьев, вовсе не казалась привлекательной. Но Горенштейну она показалась бесценной.
– Известняк… Это известняк из Индианы. А вот ходы червей.
Он показал на длинный завиток. Тот действительно имел форму червя. Но это же камень!
Да, камень. “Он когда-то был сыпучей – осадочной – породой на дне моря, и морские черви рыли в нем ходы”. Когда камень был мягким осадочным отложением, древние морские черви проедали сквозь него ходы. Следы, на которые показывал Горенштейн, были кусочками породы, которые химически изменились, пройдя через пищеварительную систему червя, а затем окаменели. Возле соседнего дома мы нашли еще несколько следов древних беспозвоночных: “О, а это морская лилия! И мшанка. А вот двустворчатый моллюск”.
Все эти персонажи не были мне знакомы. Я начала вглядываться в пеструю поверхность, а Горенштейн объяснял, что именно мы наблюдаем. Известняк главным образом сложен из окаменелостей. Как и сланец, он сформировался в Очень-Древнюю-Геологическую-Эпоху на дне океана – и конкретно этот океан находился на месте Среднего Запада. В результате движения морских вод дробились раковины мелких беспозвоночных – улиток, морских гребешков и так далее. Морские лилии (криноидеи) – небольшие животные, сидящие на стеблях из сложенных в столбик дискообразных пластинок. Мшанки – сидячие животные в форме веера, похожие на кораллы. А двустворчатые моллюски, например гребешки, оставили в камне следы в форме знакомых всем ракушек.
Пластинки морских лилий выглядели как монетки с отверстием в форме буквы О в центре – древние жетончики морского метро. Я вдруг стала видеть их повсюду. Следы беспозвоночных были разбросаны по всему зданию, как граффити. Я увидела улицу новыми глазами: она перестала быть скучным набором камней, а сделалась морским дном. Я почти потеряла дар речи.
“Как это удивительно – видеть на стене следы червей, которым 300 млн лет”, – пробормотала я, хотя для Горенштейна этот факт, должно быть, был совсем не удивительным.
Он не стал отвечать. Вместо этого он поманил меня за собой. Мы шли по улице, и Горенштейн рассказывал. Если воспринимать город как место геологических изысканий, открытия будут следовать одно за другим. Горенштейн показывал различные элементы на тротуаре и улицах, на стенах, крышах и лестницах, во внутренних двориках, на карнизах и декоративных розетках. Все это были камни, и все они были ему знакомы. Один квартал – случайно выбранный из множества кварталов в этом или другом городе – хранил историю множества эпох и мест. Мне он напомнил составленную сумасшедшим мозаику, в которой красный гранит из Миссури соседствовал с породой из Ноксвилла, штат Теннесси, а известняк-иммигрант из Франции помещался рядом с уроженцами Среднего Запада, и все они с молчаливым уважением прислушивались к чужим акцентам. Между ними возвышались несколько знаменитых нью-йоркских особняков из красновато-коричневого песчаника: ему, как я узнала, 200 млн лет. Под ногами лежал бетон из известняка, цемента и камешков, и гранитные плиты из штата Мэн, и серо-голубой песчаник из Вермонта.
Мы остановились посмотреть на серо-синий песчаник. “Он из Проктора в Вермонте, – определил Горенштейн. – Тут видна очень интересная вещь, которую мы обычно не замечаем. Видите щечки с клиньями?”
Я рассмеялась. Вопрос явно с подвохом!
Но нет. “Видите расходящиеся линии? Каменотес ударил по валуну, чтобы его расколоть”.
У каждого камня множество историй, потому что у каждого камня множество жизней. У любого камня есть родители: в случае известняка это морские обитатели. Даже здесь, в этом тихом пристанище, которое камень обрел после сотен миллионов лет неспокойной жизни, он много повидал. Все карьеры, в которых добывают камни, имеют разные характеристики, и знатоки умеют определять, из какого карьера те происходят. Различные технологии добычи минералов, дробления камня на удобные для работы фрагменты и способы обработки камня приводят к тому, что каждый камень имеет характерные отметины и цвета. Один из способов расщепления таких пород, как известняк, заключается в использовании щечек с клиньями – стержня с двумя клиньями по краям. Когда их вбивают в камень, он раскалывается. На половинах остаются линии раскола (Горенштейн назвал следы тем же словом, что и инструмент, который их оставил), а иногда видно даже округлое отверстие от инструмента.
Час спустя, когда мы дошли до конца квартала, мне было почти страшно глядеть вокруг. Идея города как вертикального геологического разреза вызывала головокружение. Я больше не могла смотреть на квартал как на ряды строений, аккуратно расставленных по проспектам. Теперь квартал и его содержимое казались мне мешаниной геологических эпох и мест. Даже одинокое здание на 76-й Западной улице при ближайшем рассмотрении оказалось анахронизмом: итальянский мрамор соседствовал с известняком из Индианы возрастом 330 млн лет, который граничил с голубым известняком с Катскильских гор возрастом 365 млн лет. И все это рядом с валунами из манхэттенского сланца (около 380 млн лет), которые 12 тыс. лет назад были обнажены отступающими ледниками.
Горенштейн улыбнулся: “Есть еще много интересного!” Он подарил мне способность интересоваться камнями – а такой подарок дорогого стоит. Прогулка по улице, обставленной камнями, становится захватывающим путешествием по геологическим эпохам. Теперь я видела, как изменил Горенштейна его опыт. Он никогда бы не смог пройти по кварталу, не заметив его геологии. Все мы в чем-то гроссмейстеры: у нас есть места, где мы ориентируемся лучше всех, предметы, которые изучили до мелочей, уникальные моторные навыки или спортивная ловкость. Я подумала, что на шахматной доске сознания Горенштейна, наверное, аккуратно расставлены минералы. Он пожал мне руку, повернулся и пошел обратно к музею, сопровождаемый своими друзьями.
Назад: Глава 1 Об избыточности
Дальше: Глава 3 Осторожно: Q!

