4. «Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ПОЧЕСТЕЙ, НО НЕ ОТ БОРЬБЫ»
Единственный наш долг перед историей — переписывать ее заново.Оскар Уайльд. «Критик как художник»
(Из беседы с народом 22 августа 1951 г.)
В какой-то день 1948 года Эвита послушалась совета Хулио Алькараса, знаменитого парикмахера звезд аргентинского кино в его золотую пору, и начала обесцвечивать себе волосы, ища подходящий светлый тон, который бы выгодно подчеркивал черты лица. На втором или на третьем сеансе у Нее опалились кончики волос, и поскольку Ей надо было спешить на открытие больницы, она попросила кончики обрезать. Парикмахер предпочел решить проблему, зачесав Ей волосы назад, оставив лоб открытым и сделав на затылке большой пучок на шпильках. Этот медальный облик, возникший благодаря случаю и спешке, так и остался в памяти людей, словно все прочие Эвиты были поддельными.
Когда я более тридцати лет назад познакомился с Хулио Алькарасом, мне и в голову не приходило, что Эвита может стать героиней романа. Я не видел в ней ни героини, ни мученицы. Она мне представлялась — к чему лукавить? — женщиной властной, вспыльчивой, резкой в выражениях, фактически исчерпавшей свои возможности. Она уже принадлежала прошлому и тем политическим сферам, с которыми я никак не был связан.
Позвольте мне вернуться к марту 1958 года. В эту пору я по вечерам встречался, чтобы читать стихи, с Амелией Бьяджони и Аугусто Роа Бастосом либо ждал рассвета на неприветливых тротуарах площади Конститусьон, где пахло дезинфекцией и свежеиспеченным хлебом. Я тогда мечтал писать большие романы: не знаю почему, но мне чудилось, что они должны быть большими и насыщенными, чтобы фоном их была вся страна, — романы объемом в целую жизнь. Думал я также о женщинах, отвергнувших меня, о пропастях, пролегающих между знаком и предметом, между живым существом и породившим его случаем. Думал о чем угодно, но только не об Эвите.
Алькарас значился в списке визажистов и парикмахеров, о которых мне надо было написать для иллюстрированной истории аргентинского кинематографа. Ему приписывалось создание дугообразных валиков, «бананов», благодаря которым Мария Дуваль превратилась в аргентинскую версию Джуди Гарланд, и завитков на макушке женщин-вамп, вроде Тильды Тамар. Из кресел его салона, украшенного гипсовыми ангелами и голливудскими афишами, видны были витрины магазинов и маленьких кафе, где студенты-гуманитарии изображали из себя Сартра или Симону де Бовуар.
В первый раз Алькарас назначил мне свидание в девять часов вечера у входа в его парикмахерскую. Чтобы оживить его память, я принес коллекцию фотоснимков, на которых он то водружал шлем на голову Сулли Морено, то колдовал щипцами над прической Паулины Сингерман, то усмирял сеткой кудряшки близнецов Легран. Полное фиаско. Его воспоминания оказались такими блеклыми, что, когда я их записал, они ничем не украсили мой бесцветный текст. Как работал Марио Соффичи с актрисами — требовал ли, чтобы они вживались в ситуацию, или объяснял им суть персонажа? Как часто прерывал съемки, приказывая подправить кому-то локон?
— Погодите, погодите, — повторял Алькарас и застревал в каких-то тупиках памяти.
Единственный снимок, рассеявший его флегму, был тот, где он прилаживал накладку на плешивый лоб Луиса Сандрини во время съемок фильма «Самый несчастный человек в деревне». Он поднес фото к свету и указал мне на размытую фигуру молодой женщины в нелепой шляпе с перьями.
— Видите? — сказал он. — Это Эвита. Ради нее ко мне приходят много журналистов, они знают, что я был ее поверенным.
— И что вы им рассказываете? — спросил я.
— Ничего, — ответил он. — Я никогда ничего не рассказываю.
Больше года я о нем ничего не слышал. Время от времени бульварные журналы вспоминали метаморфозу Эвиты, начиная с полунищей юности до ее осени императрицы, и публиковали фотоснимки, где сравнивались в разные периоды ее прически и маникюр. Хулио Алькараса не упоминал никто. Казалось, будто он отправился в странствие в иной мир. Присланное им в апреле или в мае 1959 года письмо было для меня неожиданностью Первое и самое главное, — писал он, — я хочу поблагодарить вас за то, что вы обо мне написали в вашей иллюстрированной истории. Эту вырезку мы храним, вставили в рамку и повесили в салоне моей парикмахерской. Ее нельзя не заметить, потому что она отражается в большом зеркале. Я не раз думал о том, о чем мы с вами беседовали в тот день. И я понимаю, что мне, пережившему столько разных историй, было бы очень глупо не попытаться их рассказать. Почему бы вам не заглянуть в мой салон побеседовать во вторник или в среду, часиков в девять, как в тот раз?»
Я пошел, единственно чтобы его не обидеть. Даже теперь мне непонятно, как это произошло. Алькарас угостил меня кофе, начал рассказывать разные истории, и вскоре я уже записывал. Вспоминаю полумрак салона, длинный ряд зеркал, в которых отражались проходящие мимо люди. Вспоминаю резкий запах красок и фиксаторов. Вспоминаю неоновую вывеску с пестрым попугаем, который то загорался, то погасал. Прошлогоднего тусклого господина как не бывало, теперь он излучал свет. Возможно ли, чтобы один и тот же человек был таким разным, когда говорит и когда молчит? Это не различие между днем и ночью в одной и той же местности, а различие двух пейзажей-антиподов. «Погодите, погодите», — говорил он, но теперь лишь для того, чтобы свернуть из одного рассказа в другой, что-бй сделать передышку, прежде чем отворить шлюзы своей памяти. Он вспомнил сумеречный день с тучами москитов на болотах, где тонули Франсиско Петроне и Элиса Христиан Гальве, снимаясь в фильме «Пленники земли»; изобразил со злорадным удовольствием исторические вершины, к которым поднимался Меча Ортис в «Сафо» и в «Крейцеровой сонате». Я почувствовал, что мы входим в экраны многих кинотеатров сразу и вторгаемся в потоки прошлого многих людей. Как я сказал, стоял май или апрель, но дул влажный февральский ветер, и бульвары Буэнос-Айреса были голубыми от цветов индейского жасмина, цветущего в ноябре. Постепенно мы съехали на тему Эвиты и, углубившись в нее, уже не знали, как выбраться.
Алькарас познакомился с Эвитой в 1940 году, в окрестностях Мар-дель-Плата, на съемках фильма «Время храбрых». Было раннее летнее утро, в сизой дымке паслись коровы. У Эвиты была вычурная прическа со свисающими темными локонами, которые подчеркивали крупные черты ее лица, и тиарой из крупных завитков. Она подошла к нему, когда он разогревал щипцы над углями походной печки, и, не обращая внимания на его презрительную мину, показала ему, несколько фотографий из фильма «Горькая победа».
«Причеши меня, Хулито, как Бетт Дэвис, — попросила она. — Может, мне лучше сделать побольше локонов?»
Парикмахер окинул ее дерзко-любопытным взглядом с головы до ног. За несколько дней до того он узнал в Эвите девушку с унылым лицом и жалким бюстом, послужившую моделью в наборе порнографических открыток. Портрет на обложке, который еще можно было увидеть в киосках вокзала Ретиро, изображал ее перед зеркалом, в маленьких трусиках, с отведенными за спину руками, как бы готовящейся снять бюстгальтер. Снимки должны были возбуждать, однако цель не достигалась из-за неопытности модели: на одном она, изогнувшись влево, старалась показать округлость ягодиц с таким испуганным взглядом, что желаемый эротический эффект совершенно исчезал; на другом прикрывала груди ладошками и облизывала губы так неловко, что в углу рта был виден только самый кончик языка, меж тем как большие круглые глаза затуманивала какая-то ягнячья тупость. Если бы Алькарасу не случилось увидеть эти открытки, он, возможно, ни за что не согласился бы заняться прической Эвиты и их жизни разошлись бы врозь в то же мгновение. Но неопытность ее поз на снимках вызвала у него жалость, и он решил ей помочь. Он потратил полтора часа своего драгоценного времени, превращая ее не в Бетт Дэвис из «Горькой победы», а в Оливию Хевиленд из «Унесенных ветром».
— Так я уберег ее облик от смешных черт, — сказал он мне. — Для костюмов 1876 года прическа 1860 года была более оправданной, чем современная стрижка с завитыми концами волос. В конечном счете Эвита стала творением моих рук. Я сделал ее.
Десять лет спустя то же самое скажет Перон.
Чтобы показать, что он не преувеличивает, Алькарас повел меня в заднюю комнату парикмахерской. Он включил лампочки в небольшом зале, стены которого были все в зеркалах. Возможно, то было пророчество, что сама реальность неоднократно будет повторяться в дальнейшем. А быть может, предупреждение, что Эвита не захочет быть в единственном числе и начнет возвращаться целыми толпами, миллионами, но тогда я этого не понял. В первый раз я увидел лишь один лик реальности или, если угодно, первый всполох долгого пожара. Я увидел расставленные полукругом двенадцать стеклянных голов на постаментах из раскрашенного гипса — они изображали такое же количество причесок Эвиты. Брюнетка с пробором посередине, появившаяся в короткой сценке «Бремени храбрых», беспомощно глядела на девушку со светлыми косами за ушами, танцевавшую самбу в «Цирковой кавалькаде»; я увидел Эвиту в тюрбане возле другой Эвиты, с каштановой челкой и огромной искусственной розой надо лбом; увидел женщину с прической в виде башни и обрамляющими лицо локонами, которую с восторгом встречали жители Мадрида на Пласа-де-Ориенте и в некотором замешательстве приветствовал Пий XII в Сикстинской капелле; увидел, наконец, Эвиту с гладко зачесанными золотистыми волосами, которую бесконечно тиражировали фотоснимки последнего ее периода и которую я считал единственной. Рядом висел прозрачный пакетик, в котором виднелись несколько золотистых завитков.
— Эти локоны я срезал, когда причесывал ее в последний раз, мертвую, — сказал парикмахер. — Такой же локон я всегда ношу с собой под крышкой моих часов.
Он показал его. Было почти двенадцать ночи. От вымощенного плитками пола поднимался горьковатый запах духов. Я увидел свое отражение в зеркалах вдоль стены. Я тоже походил на призрак.
— Постепенно я осветлял ее волосы. Применял все более сильную краску. Причесывал ее с каждым разом все проще, потому что она всегда спешила. Стоило немалого труда убедить ее перейти на пучок, ведь она всю жизнь ходила с распущенными волосами. Когда она наконец согласилась, Эвита стала совсем другой. Я создал ее, — повторил он. — Я создал ее. Из жалкой потаскушки, с которой я познакомился возле Мар-дель-Плата, я создал богиню. Она этого даже не понимала.
Мы стали встречаться с ним каждую среду в девять часов вечера. Обычно я усаживался на скамейку у маникюрного столика с раскрытым блокнотом и пачкой сигарет «Коммандер», и Алькарас начинал выкладывать свои воспоминания. Порой для бодрости мы выпивали по стопке можжевеловой. А порой забывали о жажде и вообще обо всех желаниях. Думаю, что в эти минуты без моего ведома и родился этот роман.
Алькарас сказал, что вплоть до 1944 года он больше не имел сведений об Эве Дуарте. Когда же он встретил ее на съемке «Цирковой кавалькады», она была уже другим человеком. Бог знает, в какие бездны нищеты пришлось заглянуть этой бедной девушке, подумал он тогда. У нее был взгляд раненого животного, и говорила она властным тоном. Никому не позволяла себя унизить. Защищенная своими связями в политическом мире, она опаздывала на съемки, приходила с темными кругами под глазами, гримершам не удавалось их замазать. Она как бы разрывалась между желанием блистать в своей роли и страхом разочаровать полковника Перона, военного министра, который был ее любовником и оплачивал ей квартиру. Перон появлялся в студии «Пампа филмс» два-три раза в неделю, пил мате с директором и актерами, потом запирался с Эвитой в театральной уборной, ожидая, пока она переоденется.
— В этот период, — сказал Алькарас, — я и стал ее поверенным.
Из того, что он потом говорил, у меня сохранились какие-то отдельные слова, кости мертвого языка, лишенные смысла. Фразы вроде «Луна-пк., фестив. после земле-тряс. я сейчас подниму сказ, ей Полковник, спасибо что сущ. В ту ночь уехал в Имб.» ничем не могут пригодиться историкам, ничем не пригодились и мне, когда я писал «Роман Перона». Только кое-где записки становятся более внятными, и можно увидеть некий рисунок, словно в головоломке, где какие-то фрагменты то здесь, то там потерялись.
Воспоминания парикмахера никогда не публиковались. Я не сделал этого из-за лени или же потому, что мои мысли были далеки от Эвиты. Чтобы писать, требуются здоровье, случай, счастье или страдание, но главное, требуется желание. Устные рассказы — вроде насекомых, их надо убивать как можно скорее, и эти истории про Эвиту всегда были для меня всего лишь бессмысленным трепыханьем во мраке.
В конце 1959 года я по своим записям восстановил монологи Алькараса, просто из привычки к порядку, и отнес их ему на просмотр. У меня было чувство, что, когда его голос прошел через фильтр моего голоса, безвозвратно пропали скупость интонации и судорожный синтаксис его фраз. Таково, думал я, проклятие записанной речи. Она может воскресить чувства, ушедшее время, случайности, связавшие одно событие с другим, но она не способна воскресить реальность. Я еще не знал — и еще много времени прошло, пока это почувствовал, — что реальность не воскресает: она рождается в другом виде, преображается, заново придумывает себя в романах. Я не знал, что синтаксис и интонация персонажей возвращаются в другом облике и что они, пройдя сквозь сито письменной речи, превращаются в нечто иное.
Нижеприведенный текст, к сожалению, реконструкция.
И, если угодно, выдумка, воскресающая реальность. Прежде чем написать эти страницы, я испытывал сомнения. Как это передать? Алькарас говорит, я говорю, кто-то слушает, или все мы говорим сразу, играем в свободную игру — читаем и пишем одновременно?
Алькарас говорит. Я пишу.
Меня Эвита всегда уважала. На всех она покрикивала, но со мной сдерживала себя. Однажды она попросила меня поучить ее, как вести себя за столом, потому что Перон то и дело захаживал к ней с важными особами пообедать. И вот начал я ее, как говорится, школить: «Вилку, нож, ложку бери за кончик, — говорил я. — Когда поднимешь бокал, мизинец поджимай». Но лучше всего ее выучил ее инстинкт. Говорят, у нее были дефекты дикции, но дело было не в этом, а в трудных словах, которые она вставляла, не зная точного их смысла. Я слышал, как она говорила: «Иду к дантологу» вместо «Иду к дантисту» или «Мне не хватает моих жалований» вместо «Мне не хватает моего жалованья, или зарплаты». От этих ляпсусов она спасалась, наблюдая исподтишка, как говорят другие, и еще тем, что когда ей какое-то слово поправляли, она его записывала в тетрадку.
Когда закончились съемки «Цирковой кавалькады», она несколько месяцев колебалась в выборе занятия. Плакала перед зеркалом, не зная, куда себя деть. Она не знала, то ли оставаться под сенью Нерона как простая содержанка — в ту пору он еще не заговаривал о женитьбе, — то ли продолжать карьеру актрисы, ради чего она столько боролась. Теперь нелегко представить себя на ее месте. Как-то забывается, что в те времена девственность была священна и женщины, жившие с мужчиной без венчанья, подвергались жесточайшим унижениям. Девицам из порядочных семей, имевшим несчастье забеременеть, не разрешалось делать аборт. Аборт был наихудшим из преступлений. Их отправляли в какой-нибудь дальний город, чтобы они там родили, и младенца отдавали в сиротский приют. Эвита могла рассчитывать на понимание своей матери, которая сама прошла через все испытания бедности и общественного презрения, однако она понимала, что высокие военные власти не допустят, чтобы военный министр оформил брак с такой женщиной, как она. Оставаться рядом с Нероном означало в какой-то мере самоубийство — ведь рано или поздно потребуют, чтобы он от нее избавился. Но Эвита верила в чудеса радиороманов. Она полагала, что если была одна Золушка, то могла быть и вторая. С этой верой она очертя голову кинулась в пустоту. Случайно ей повезло. В самые тяжелые минуты сомнений она напрасно ждала совета Нерона, он не желал высказывать свое мнение, отвечал — пусть она руководствуется своим чувством. Это повергало ее в еще большее смятение — она принимала за равнодушие то, что с его стороны, возможно, было доверием к ее здравому смыслу.
Судьба бросала ее из стороны в сторону, и не успела она опомниться, как кино и радио перестали что-либо значить в ее жизни. Думаю, что последние ее сомнения рассеялись в октябре 1945 года, когда Перона арестовали и она, всеми покинутая, заперлась в своей квартире, ожидая, что придут забрать и ее. Более чем когда-либо она тогда отождествляла себя с Марией Антуанеттой, героиней своей юности; она была Нормой Ширер, слышащей из камеры в тюрьме Тампль барабаны гильотины. Когда Перон был освобожден и переживал ночь своей славы на Пласа-дель-Майо, Эва умирала от страха, причесываясь в спальне перед зеркалом. У нее были опухшие губы и рана на плече. Утром того дня, когда она ехала на квартиру к своему брату Хуану, толпа студентов узнала ее и с криком: «Долой Кобылу! Убьем эту Дуарте!» — разбила стекла в машине и осыпала ее палочными ударами. Она спаслась чудом. В зеркале она видела себя уродливой, обезображенной и не хотела выходить из дому, пока Перон не увез ее на виллу своего друга в Сан-Николасе. В эти дни Эвита была в величайшей растерянности. Она не представляла себе, что ее ждет. Как-то вечером она позвонила мне по телефону. «Ничего, что я побеспокою тебя, Хулио? — сказала она. — Могу я с тобой поговорить?» Прежде она никогда не просила позволения. И в дальнейшем больше никогда не просила.
Вам известно, что было потом. Еще до конца октября Перон узаконил свои отношения с ней в районном отделении регистрации браков — они жили тогда в квартире на улице Посадос, — а через два месяца их союз был освящен в одной из церквей Ла-Платы. Для этой церемонии я сделал Эвите изумительную прическу — высоко взбитые волосы, лежащие двумя волнами, из которых пробивались веточки флердоранжа. Хотя кампания по выборам президента была в разгаре и у них обоих не было времени даже на сон, Эвита все же старалась улучить минутку, чтобы заглянуть в мое заведение на углу улиц Парагвай и Эсмеральда, где я постепенно осветлял ей волосы и пробовал все более простые прически. Новая роль уважаемой дамы смущала ее. Еще несколько месяцев назад она была второстепенной актрисулей в радиосериалах, которых никто не слушал, девчонкой, выпрашивавшей, чтобы ее сняли для журнала. И вдруг она в одночасье превратилась в замужнюю даму, жену самого знаменитого в республике полковника. У любого человека голова пошла бы кругом от такой перемены, тем паче в ту эпоху, когда женщина была нулем без палочки, незаметной тенью мужа. Но не у Эвиты. Почувствовав, что она имеет власть над судьбами людей, она обрела величие. Видели вы ее на снимке, сделанном при выходе из собора 4 июня 1946 года, под руку с женой вице-президента Хасмина Ортенсио Кихано? Обратите внимание на эти сжатые от страха губы, на холодный недоверчивый взгляд, на судорожную напряженность всего тела. В тот день я сделал ей скромную прическу, оставив лишь намек на локон, видневшийся из-под полей шляпы, но в этом величественном нефе, где Перон был миропомазан как президент республики, при звуках торжественного «Те Deum», Эвита едва не потеряла сознание. В какой-то миг ей показалось, что она оттуда уже не выйдет. А посмотрите на нее всего через месяц в театре «Колон», когда она простирает руки к толпе, ждущей ее у входа. Теперь уже никто не мог выдержать ее взгляда.
Она знала, что раньше или позже всякой власти приходит конец, и хотела испытать за один год то, на что у других уходит вся жизнь. Она отказывалась от сна. В три часа утра звонила по телефону своим помощникам, чтобы отдать какое-то распоряжение, и в шесть звонила узнать, выполнено ли оно. В считанные дни она создала целую сеть из министров, соглядатаев и блюдолизов, которые держали ее в курсе всего, что происходило в правительстве. В этом она оказалась искусней Перона. Но старалась она не для того, чтобы, как говорится, затмить Перона, а потому, что он по сути был слабым человеком.
Как-то утром в феврале я пришел в Дом президента, чтобы ее причесать и заплести косу. Я заметил, что она чем-то угнетена, и, пытаясь ее развлечь, заговорил о своих кузинах, приехавших из Лулеса в провинции Тукуман искать мужей в Буэнос-Айресе.
— Ну и как? Нашли? — спросила она.
— Никогда не найдут, — сказал я. — Обе жутко некрасивые, большие носы, бородавки, у той, что покраше, большущий зоб, который нельзя оперировать.
Она остановила меня, явно думая о чем-то другом. Я уже привык к переменам в ее настроении, которые ее враги приписывали истерии. С неожиданной мягкостью она взяла меня за руки и сказала:
— Выйди на минутку, Хулио, и подожди меня. Мне надо в уборную.
Примерно через полчаса она снова меня позвала. На ней был английский костюм, туфли на высоком каблуке, и она попросила уложить ей сзади двойной пучок, как в особо важных случаях. Притронувшись к ее голове, я ощутил, что она пышет жаром. Вся она была напряжена, ее душила одна из тех внутренних бурь, которые потом свели ее в могилу. Я попробовал возобновить разговор о моих кузинах, но она резко меня прервала:
— Причесывай побыстрей, Хулио. Меня ждут люди. А о своих кузинах не беспокойся. Уж я им найду каких-нибудь женихов. Ты же знаешь, всегда найдется крючок и на дырявый горшок.
В зале внизу я увидел собравшихся вождей ВКТ и делегатов Женского перонистского движения. Эвита поздоровалась с ними, нахмурив брови, и стала слушать их длинные выступления. Ей предлагали стать кандидатом на пост вице-президента республики, а она, жаждавшая этого поста больше всего на свете, ответила, что все будет зависеть от согласия супруга. Для меня тогда — дай теперь — политика вроде игрального автомата. Представьте же себе мое изумление, когда я увидел, что генерал, будто догадавшись, что к нему взывают, появился в резиденции в этот неурочный утренний час. Лихорадка Эвиты усилилась. То и дело она судорожно вскидывала голову. Наблюдая за ней с верхней галереи, я страдал с нею вместе. Но она ни на миг не теряла самообладания. С поразительным присутствием духа она изложила мужу, что происходит.
— Я сказала товарищам, что я и пальцем не пошевельну без твоего согласия.
— И они тебе поверили? — спросил генерал.
— Я никогда не говорила более серьезно.
— Разве я могу сопротивляться воле всех этих господ? Даже старенький Кихано просил меня, чтобы я помог сделать тебя вице-президентом.
Этой двусмысленной фразой Перон дал понять, что если Эвита получит этот пост, то лишь потому, что он этого хочет. Начиная с того дня я видел Эвиту только мельком, в спешке. Она вызывала меня то в семь утра, то в одиннадцать вечера, чтобы слегка подкрасить волосы или подправить прическу. Из ее собственных волос я сделал для нее два накладных пучка, которые прикреплялись шпильками — головка выглядела безупречно. Один из пучков я сохранил. Вы его видели в моем «музее», в задней комнате парикмахерской.
Кузины прожили у меня несколько месяцев. Днем они помогали мне в парикмахерской, записывали клиентов и подменяли маникюрщиц. По утрам ходили на распродажи и покупали самые ненужные вещи, от шляп викторианской эпохи и зеркал в черепаховой оправе до серебряных вешалок и похоронных канделябров. Поскольку им аккуратно присылали арендную плату с плантаций сахарного тростника, затруднений с деньгами они не испытывали. Страдали они из-за того, что молодость вянет и впереди перспектива остаться в старых девах. У них еще была надежда познакомиться с Эвитой, но все никак не представлялся случай, потому что Сеньора жила так, что к ней было не подступиться.
Жила она так или не так, но я ее почти не видел. Она святая, она гиена — в эти недели про Эвиту говорили все что угодно. В одном уругвайском пасквиле Перону злорадно советовали примерить женское платье. В подпольном памфлете я прочитал, будто в публичном доме Хунина, где ее мать якобы была хозяйкой, Эвита двенадцати лет лишилась невинности во время пирушки землевладельцев, просто из явной склонности к пороку. Почти во всех листках был оскорбительный намек на ее прошлое, но не меньше злобы высказывали те, кто говорил о ее настоящем. Ее называли Агриппиной, Семпронией Нефертити; подобные сравнения не трогали Эвиту, потому что она не имела ни малейшего представления, кто это такие. Ее обвиняли в поощрении лести и цензуры, в превращении профсоюзов в исполнителей ее воли, в обожествлении Перона и в провозглашении священной войны против неверных. Некоторые из этих обвинений имели реальные основания, но их реальность ни в малейшей мере не умаляла слепую любовь, которую к ней питал народ.
Не знаю, как Эвита этого добилась, но вскоре она сумела быть одновременно везде. Я слышал, что она раскрыла несколько попыток покушения на ее жизнь, и что главарей едва не подвергли кастрации, чтобы унять один из ее приступов ярости. Слышал, что она настроила Перона против полковника Доминго А. Мерканте, также претендовавшего на пост вице-президента. Я читал, что в одно утро она посетила Сальту, а в другое Кордову или Катамарку, даря дома, раздавая деньги или обучая азбуке детей в сельских школах, бесконечно повторявших одни и те же фразы: «Эвита меня любит. Эвита добрая фея. Я люблю Эвиту…» Она проезжала тысячи километров в поезде — одна, триумфально, как истинная королева.
В течение апреля и мая 1951 года весь Буэнос-Айрес был обклеен плакатами с ее лицом, и даже на Обелиске реяли огромные предвыборные плакаты с надписью: «Перон — Эва Перон, формула отечества!» Меня удивляло, что почти во всех своих выступлениях Эва повторяла: «Я хочу, чтобы меня уполномочили», словно ей было мало обещания Перона и требовалась еще поддержка профсоюзов. Она хорошо знала своего мужа и остерегалась слишком выпячивать себя. Она стала без меры превозносить его в своих выступлениях. Почитайте, если сумеете, что она говорила в те месяцы: «Я влюблена в генерала Перона и в его дело, — повторяла она. — Герой, которому нет равных, заслуживает того, чтобы иметь мучеников и фанатиков. Ради его любви я готова на все: на мученичество, на смерть».
Два или три раза ее уносили с торжественных актов в обмороке, однако, едва придя в себя, она снова вела себя по-прежнему. Врачи поставили диагноз анемия или недосыпание, но я подозревал, что у нее рак. Знаменитый доктор Иванишевич явился к ней однажды с бригадой по переливанию крови. Эвита вытолкала его взашей, и бедняге — а он был министром, ставленником Церкви, — оставалось только подать в отставку. «Я хочу, чтобы меня уполномочили, — повторяла Эвита. — Я нуждаюсь в том, чтобы меня уполномочили, потому что даже врачи вступили в заговор, чтобы удалить меня от вас, дорогие труженики. В заговор вступили олигархи, гориллы, врачи, антипатриоты, ничтожества». В конце концов заправилы ВТК поняли намек и решили выдвинуть ее кандидатуру на торжественном собрании.
Подготовка началась почти за месяц. Накануне этой церемонии, которая была объявлена как Открытое собрание хустисиалистов, остановилась жизнь во всей стране — битком набитые поезда привозили жителей провинций, которые потоками вливались в незнакомую столицу, без единого сентаво в кошельке, — им все предоставлялось бесплатно, даже кабаре и отели. Вообразите себе эту темную массу людей, никогда не видевших двух больших зданий рядом, ослепленных огнями небоскребов. Не могу вам передать, как возбудились мои кузины при виде бесконечного шествия неустрашимых холостяков. Они просили меня раздобыть им местечко на почетных трибунах, но я уже больше десяти дней не видел Сеньору и не решался ее беспокоить. Я подумал, что они, пожалуй, обойдутся без моих услуг. Вся жизнь пошла кувырком, вечер превратился в утро, слова потеряли свой привычный смысл, мне казалось, что мы по уши погружаемся в море лжи, но я не понимал, в чем она состоит и с какой правдой можно ее сравнить. Вы лучше поймете, что происходило, заглянув в газеты. Вот, например, вырезка из «Кларина»:
Судя по газетам, организатором торжества была ВКТ, однако на самом деле привела в действие эту машинерию Эвита. Это у нее родилась идея о бесплатных поездах и омнибусах, она распорядилась объявить нерабочие дни, чтобы облегчить передвижение людей, по ее желанию гостиницы бесплатно принимали постояльцев и раздавалась бесплатная еда. Перон был почитателем фашистских инсценировок, и почти все его массовые мероприятия копировали то, что делал Дуче. Но Эвита, чей культурный диапазон ограничивался киноэффектами, желала, чтобы ее выдвижение походило на голливудскую премьеру с юпитерами, духовыми оркестрами и большим стечением народа.
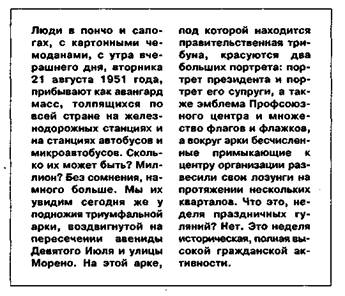
Кузины вышли из дому часов в девять утра и направились к месту действия, накрашенные и разнаряженные, как рождественская елка. Я остался дома один, слушал радио. То и дело передавали речи, восхвалявшие тех, кто воспользовался солнцем выходного дня и расположился под деревьями авениды. У меня было предчувствие, что Сеньора может вызвать меня в любой момент. Я не ошибся. Около трех часов дня зазвонил телефон. Меня очень срочно приглашали явиться в здание министерства общественных работ, находившееся позади правительственной трибуны. «А как я смогу пройти? — спросил я. — По радио говорят, что там собралась невиданная масса людей». — «Об этом не беспокойтесь. Через четверть часа мы за вами заедем».
Меня повезли в одном из президентских автомобилей, по дороге нас нигде не задерживали. Таким образом я сумел увидеть несколько картин города в этот день, хотя сам не знаю, насколько мои впечатления достоверны. У стен гробницы Мануэля Бельграно устроили кинотеатр под открытым небом, где крутили пропагандистские фильмы о домах для престарелых, о детских городках и детских приемных пунктах, основанных Эвитой. Множество патриотов, всерьез уверовавших в слова об Открытом собрании, зажигали свечки от факела в столичном соборе, где находится гробница генерала Хосе де Сан-Мартина, — они требовали, чтобы его гроб несли в процессии до триумфальной арки на авениде Девятого Июля. Какой-то трансатлантический пароход затерялся близ наших гаваней, и хотя все мы слышали отчаянный рев его сирен, никто не спешил к нему на помощь; впоследствии я узнал, что пароход этот сел на мель в илистом месте реки и что моряки с него высадились на берег, чтобы принять участие в празднестве.
Среди всей этой праздничной суматохи Эвита была одна. Она смотрела на цветущие хакаранда из окон грандиозного кабинета в министерстве общественных работ. На ней был темный английский костюм строгого покроя, шелковая блузка, в ушах бриллиантовые серьги, повторявшие контур ушных мочек. Была она бледная, еще более исхудавшая, с обострившимися скулами. Заметив меня, она грустно улыбнулась. «А, это ты, — сказала она. — Как хорошо, что тебя нашли».
Не знаю, почему эта сцена вспоминается мне как бы под покровом тишины, когда в действительности воздух был насыщен всевозможными звуками. Снаружи гремели аккорды марша «Перонистские ребята», громкоговорители вдали повторяли песенку «Кофейник булькает, буль-буль» Никола Паоне, а на авениде погромыхивали барабаны и преждевременные хлопки фейерверочных ракет — фейерверк должен был состояться в полночь. Однако все, о чем я с Эвитой говорил в тот день, сохранилось в моей памяти очищенным от посторонних звуков, как будто все эти шумы кто-то отрезал ножницами. Вспоминаю, что вместо обычного приветствия у меня вырвалась сочувственная ложь: «Какая вы сегодня красивая, сеньора!» Вспоминаю также, что она мне не поверила. Волосы у нее были распущены и подхвачены лентой, лицо еще без макияжа. Я предложил вымыть ей голову шампунем и сделать массаж, чтобы она расслабилась. «Нет, причесывай, — сказала она. — И смотри, чтобы пучок хорошо держался». Она опустилась в одно из стоявших в кабинете кресел и принялась напевать песенку Паоне «булькает, буль-буль», наверное, не сознавая, что делает, только чтобы удержаться от слез.
— Как там на улицах развлекаются люди ? — спросила она. И, не дожидаясь ответа, сказала: — Политика, Хулио, это дерьмо. Никогда тебе не воздадут по заслугам. А если ты женщина, тем более. Тебя смешают с грязью. А если хочешь добиться чего-то серьезного, приходится это вырывать Зубами. Оставили меня одну. С каждым днем я все более одинока.
Не требовалось большой проницательности, чтобы догадаться, что она жалуется на мужа. Но если бы я показал, что это понял, она бы рассвирепела. Я попытался ее утешить.
— Уж если вы одиноки, что сказать обо всех прочих? — сказал я. — У вас есть весь народ, все мы, есть генерал. Там, снаружи, миллион человек пришли, только чтобы вас увидеть.
— Возможно, они меня не увидят, Хулио. Вот возьму и не выйду, — сказала она. В этот миг я почувствовал, как она напряжена. Кулаки ее были сжаты, жилы напряглись, желваки на скулах судорожно двигались. — Вот и не буду с ними говорить. Зачем мне говорить, если я даже не знаю, что должна им сказать.
— В таком состоянии, сеньора, я вас видел уже не раз. Это нервы, Когда покажетесь на трибуне, вы обо всем этом забудете.
— Как я могу забыть, когда никто со мной не говорит честно. Только мои бедолаги, они одни здесь говорят со мной честно. Со всеми другими надо иметь толковый словарь. Генералы исподтишка поддерживают Перона и требуют, чтобы он не дал мне стать кандидатом. А знаешь, что он им отвечает? Мол, пусть идут в задницу, мол, я это я, и я делаю то, что хочу. Но ведь я не делаю то, что хочу. Во всей этой истории, Хулио, замешано множество людей. Тут осиное гнездо, интриги, козни — ты и вообразить себе не можешь. Даже Перон начал уставать. Недавно я его поймала и говорю: Ты хочешь, чтобы я отказалась? Ладно, отказываюсь. Он поглядел на меня отсутствующим взглядом и ответил: Поступай, как тебе хочется, Чинита. Как тебе хочется. Я уже целую неделю не смыкаю глаз. Вчера перед тем как принять ванну, я почувствовала озноб, до того я уже приняла три или четыре таблетки аспирина, и вдруг я подумала: ведь он президент. Если он хочет, чтобы я была вице-президентом, он должен это сказать народу. Я схватила телефон и позвонила в Розовый дом. Воспользуйся Открытым собранием, сказала я ему. Начни свое выступление с объявления о том, что ты хочешь выдвинуть меня в кандидаты. Господа, скажи, это я ее выбрал. Тогда прекратятся всяческие сплетни. Само собой ясно, что я тебя выбрал, ответил он, но заявлять об этом совсем другое дело. Вовсе не другое дело, говорю я. Ты и я уже сколько месяцев за это боремся. Если теперь отступим, меня съедят заживо. Не тебя, а меня. Надо не злить партию, сказал он. Партия — это ты, возразила я. Дай мне подумать, Чинита, сказал он. Теперь я занят. Это он впервые не знает, как поступить. Сегодня утром у нас была перепалка. Я настаивала на своем. Он почувствовал, что я вот-вот взорвусь, и попробовал меня успокоить. Будет очень нехорошо, если выдвину тебя я, сказал он. Никогда не следует смешивать дела правления с семейными, сказал он. Надо соблюдать приличия. Будь ты трижды Эвита, ты моя жена — выдвинуть тебя должна партия. Мне на эти приличия плевать, перебила его я. Или ты объявишь о моем выдвижении, или я не покажусь на Открытом собрании, придется тебе самому там отбиваться. Ты не понимаешь, сказал он. Прекрасно понимаю, сказала я. И бросила трубку. Через минуту люди в ВКТ уже все знали. Они бросились умолять меня, чтобы я пришла. Сеньора, вы не можете так поступить с неимущими, сказали мне. Они притащились бог знает откуда ради вас. Что я? Я никто, сказала я. Обыкновенная женщина. Они это сделали ради генерала. Нет, говорят мне. Кандидатура генерала известна. Они пришли ради вас. Я не могу присутствовать на торжестве, сказала я. Если народ будет требовать, нам придется прийти за вами, сказали мне. Это ваше дело, сказала я. Я буду смотреть на торжество из министерства общественных работ. Как только я это сказала, тут же раскаялась. А потом подумала: это Открытое собрание — моя затея. Я его заработала. Я его заслужила. Я его не пропущу. Пусть приходят за мной.
Всякий рассказ о чем-то неточен по определению. Реальность, как я уже сказал, нельзя ни рассказать, ни повторить. Единственное, что можно сделать с реальностью — изобрести ее заново.
Сперва я думал, что, когда соединю записанные кусочки, когда передо мной воскреснут монологи парикмахера, моя история будет готова. Да, она была готова, но это были мертвые буквы. Потом я потратил много времени, разыскивая тут и там ископаемые остатки того, что происходило на Открытом собрании. Я рылся в архивах газет, читал документы той эпохи, слушал записи радиопередач. Без конца повторялась одна и та же сцена: Эвита, не знающая, как отстраниться от слепой любви народных толп, то приближалась, то отдалялась; Эвита, умоляющая, чтобы ей не позволяли сказать то, чего она не хочет говорить, а затем — чтобы не мешали ей говорить. Ничего нового я не узнал, ничего не прибавил. В этом бесполезном ворохе документов Эвита нигде не была Эвитой.
В 1972 и 1973 годах, после того, как ее тело извлекли из анонимной могилы в Милане и возвратили вдовцу, я написал киносценарий, претендовавший на то, чтобы реконструировать историю ее неудавшегося выдвижения, с фрагментами из хроник и фотографиями массовых шествий. Мне хотелось, чтобы в этом рассказе был некий сюжет и одновременно символический смысл, но я не был способен определить, насколько он правдив. А для меня в то время дыхание правды было главным. Если же там, в сценарии, нет Эвиты, о правде нечего и говорить. Не призрака Эвиты, а ее детского плача, ее голоса в радиороманах, музыки ее души, ее жажды власти, ее крови, безумия, отчаяния, того, что было ею во все мгновения ее жизни. В некоторых фильмах мне случалось почувствовать, как люди и их дела возвращались из бессмертных глубин истории. Я знал, что иногда это получается. Мне нужна была помощь. Нужен был кто-то, кто мне сказал бы: «Так оно и было, как ты рассказал». Или указал бы, в каком направлении работать, чтобы изображение совпало хотя бы с иллюзией правды. Я вспомнил о Хулио Алькарасе и позвонил ему по телефону. Он не сразу узнал меня. А узнав, пригласил встретиться в десять вечера в кондитерской «Рекс». Он сильно постарел, жаловался на звон в ушах и судороги в ногах.
— Не знаю, смогу ли я вам помочь, — сказал он.
— А вы не старайтесь, — успокоил я его. — Вы только слушайте меня и расслабьтесь. Представьте себе, что вы опять там, на Открытом собрании, и если что-нибудь из того, что я говорю, противоречит вашим воспоминаниям, остановите меня.
— Ладно, читайте ваш сценарий, — сказал он. — Представляю себе, вроде я сижу в кресле в кино и смотрю свою жизнь.
— Это лучше, чем жизнь. Здесь вы можете в любой момент встать и уйти. В жизни намного трудней. А теперь, — попросил я, — забудьте об окружающем шуме. Вообразите, что гаснет свет. Что поднимается занавес.
(Время после полудня. Авенида Девятого Июля в Буэнос-Айресе.)
Панорамный снимок толпы. С правительственной трибуны до Обелиска яблоку негде упасть. Реют флаги. По снимкам с самолета видно, что собралось миллиона полтора человек. В центре улиц лес плакатов. Освещение резкое, очень контрастное. Жарко, что видно по тому, как люди одеты. Кадры с триумфальной аркой над правительственной трибуной. Крупный план: огромные фотографии Перона и Эвиты. Общий план: море колышущихся носовых платков. Циферблат часов: пять часов двадцать минут.
Крики толпы медленно усиливаются. Грохочут барабаны. То здесь, то там взрываются нестройные гейзеры «Перонистского марша».
На правительственной трибуне движение.
ГОЛОС ДИКТОРА (за кадром):
Друзья, друзья! На трибуне этого исторического Открытого собрания хустисиалистов появляется его превосходительство президент республики генерал Хуан Доминго Перон.
Перон выходит к барьеру правительственной трибуны с распростертыми руками. Волнение в толпе, опасное движение, прилив желающих приблизиться к кумиру.
Шквал оваций (Все громче звучит неожиданное имя. Перон? Перон? Нет, невероятно. Толпа выкрикивает имя Эвиты).
ХОР ГОЛОСОВ:
Эээ-вии-та!
Крупный план: недовольное лицо генерала. В судорожном тике вскидываются его брови. Микрофон берет генеральный секретарь ВКТ, почти карикатурно толстый господин. В его речи сильно чувствуются дефекты дикции.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ХОСЕ Г. ЭСПЕХО (в дальнейшем просто ЭСПЕХО):
Мой генерал…
Крупный план: Перон, лицо мрачное.
…вотздесь собрался народ нашего отечества, чтобы сказать вам, своему единственному вождю…
Крупный план: огромный портрет Эвиты.
… как во все великие минуты, сказать: «Здесь! Мой генерал!»
Картины толпы.
ХОР ГОЛОСОВ (мгновенно):
Здесь!
(Это слово, естественно расплываясь, переходит в настойчивое:)
Эээ-вии-таа.
Лицо Перона по-прежнему серое, губы сжаты, он стал как-то меньше ростом. Не будет ли жестоко выставлять теперь напоказ его раздражение, оттеняемое фоном опьяненной толпы? Оставляю это на усмотрение режиссера. Генералу неприятно быть второстепенным актером при самом большом стечении народа за всю историю перонизма. Он решает привлечь внимание обездоленных. Поднимает руки, потом прижимает их к сердцу. Люди прыгают, отвечают на его приветствие лихорадочными жестами. Но его имя не выкрикивают. Они зовут ее:
ХОР ГОЛОСОВ:
Эээ-вии-таа! Эээ-вии-таа!..
Солнечный свет постепенно меркнет. Перон снова угрюм. Эспехо, вытирая невидимую влагу на усах, пытается овладеть ситуацией, но только ухудшает ее.
ЭСПЕХО:
Мой генерал…
(Тон умоляющий. Его голос заглушают выкрики толпы.)
Мой генерал… Мы здесь замечаем отсутствие одной особы, вашей супруги, Эвы Перон, которой нет равной в мире…
(Овация.)
ХОР ГОЛОСОВ:
Пусть выйдет Эвита! Где Эвита?
ЭСПЕХО:
Друзья! Вероятно, ей мешает выйти к вам ее скромность, самый драгоценный ее дар… (Дальнейшее неразборчиво.) Разрешите нам, мой генерал, пойти за ней, чтобы и она присутствовала здесь.
Опять начинается безумие. Камера следует за уходящим Эспехо. Потом рыщет в лесу серых брюк с очень четкой складкой, пока не останавливается на нетерпеливо притопывающей туфле. Это Перон. Камера ползет вверх по его туловищу, задерживается на недобрых глазах, останавливается на гладком катке напомаженных волос. (Внимание! Эти кадры существуют. Режиссер при желании может поискать их в одном из двух изданий испанской хроники «НоДо», 22 августа 1951 года.) На голову генерала спускаются сумерки. Половина седьмого.
(Вечер. То же место в Буэнос-Айресе.) Мы видим, как выходит на трибуну Эвита, за ней Эспехо и свита чиновников.
— Это те, которые пошли за ней в министерство общественных работ, — сказал парикмахер. — Я шел позади. Я сделал ей двойной пучок, наложил легкий слой макияжа. Она была прелестна.
Общий план: толпа в экстазе. Кадр с женщинами, стоящими на коленях на тротуаре у Испанского клуба. Кадр с семьями рабочих, плачущими у подножия Обелиска. Кадр с самой Эвитой, посылающей с трибуны воздушные поцелуи. Она тоже не может сдержать рыданий. Крупный план: слезы Эвиты (имеется великолепный снимок в «НоДо»). Эспехо выходит вперед.
ЭСПЕХО:
Я прошу объявить генерала Хуана Перона кандидатом на пост президента республики и сеньору Эву Перон кандидатом на пост вице-президента.
Эвита укрывается в объятиях мужа. Потом подходит к барьеру трибуны с неуверенным видом: «Я…» Ее губы шевелятся. «Я…» Ничего не слышно. Наконец она начинает свое длинное выступление. (Действительно длинное. Есть полный текст в «НоДо» и в «Су-сесос Архентинос». Предлагаю режиссеру воспроизвести только один абзац, предпоследний.)
— Зачем? — перебивает меня парикмахер. — Она не знала, что сказать, была еле жива от страха, чувствовала осуждающий взгляд Перона, и от этого ее неловкость еще усиливалась. Сравните эту речь с теми, которые она произносила в предыдущие месяцы. Там Эвита атадеет своим голосом, играет им, как ей заблагорассудится. Ее голос наполняет все пространство. А здесь не то. Она была не в своей тарелке. Если вы покажете ее в этом плачевном состоянии, вы погубите величественный эффект того, что будет дальше.
— Всего один абзац, — настаиваю я. — Предпоследний.
ЭВИТА:
Я ничего не совершала. Все сделал Перон. Перон — это отечество. Перон для нас — все, мы, остальные, находимся на астрономическом расстоянии от вождя нации. Мой генерал, я пользуюсь духовными полномочиями, которые мне дают неимущие нашей страны, и объявляю вас, еще до всенародного голосования за вас, президентом аргентинцев. (Овация.)
Перон ее обнимает. Беспорядочные снимки трибуны (хорошие снимки в «Сусесос Архентинос»). Кто-то из профсоюзных лидеров, стоя спиной, обращается к Эвите (эта сцена есть в одном из двух изданий «НоДо»).
ВЕДУЩИЙ:
Сеньора, вы еще не сказали нам, согласны вы или нет выдвинуть свою кандидатуру… (Поворачиваясь к микрофону): Сеньора! Народ ждет… Что вы ему ответите?
Внизу у трибуны группа женщин машет белыми платочками.
ХОР ГОЛОСОВ:
Пусть соглашается \ Эвита… \ Пусть соглашается \ Эвита… \
ЭСПЕХО (за кадром):
Друзья! Послушаем, что скажет генерал Перон.
Крупный план: Перон торжествующе выходит вперед. Внезапно он застывает на месте — кажется, будто остановилось движение камеры. Но нет, это Перон оцепенел от изумления. Он услышал дерзкий выкрик, а затем хор голосов и топот толпы.
ГОЛОС (за кадром):
Пусть говорит товарищ Эвита!
ХОР ГОЛОСОВ (за кадром):
Пусть говорит\Эвита!\Пусть соглашается \Эвита! \
ПЕРОН (Пытаясь овладеть собой):
Друзья… (Шум не стихает.) Друзья… Только сильные и доблестные народы являются хозяевами своей судьбы…
Пока камера медленно движется вверх и охватывает волнующуюся поЪерхность толпы, колыханье флагов на балконах и оазисы немногочисленных костров, голос генерала постепенно исчезает. Кадры изображают ту же обстановку, но уже вечером. Вспышки прожекторов высвечивают, словно пузырящуюся пену, миллион голов. Откуда-то движутся потоки факелов. Вдруг все застилает чернота, полный мрак. Из него на зрителя наплывает раскаленное жерло микрофона. (Пусть режиссер вспомнит кадр в фильме «Великолепные Эмберсоны», шедевре Орсона Уэллса, который потом затмил «Гражданин Кейн». Найдите его, совершите плагиат.) Из этого религиозного небытия плывет голос, которого все ждут:
ЭВИТА (за кадром):
Мои дорогие неимущие, дорогие мои…
Камера, отступая, показывает орлиный профиль Эвиты, и надолго останавливается, загипнотизированная ее гибкими руками и дрожанием ее губ.
ЭВИТА:
Я прошу собравшихся здесь женщин, детей, тружеников не заставлять меня делать то, чего я никогда не хотела. Ради объединяющей нас любви я прошу вас прежде, чем я приму решение, столь важное для моей жизни, жизни скромной женщины, дать мне хотя бы четыре дня на размышление.
ХОР ГОЛОСОВ (за кадром, но очень четко и ритмично):
Нет! Нет! Эвита! Сейчас! .
— Вам следовало бы тут показать выражение лиц стоящих на трибуне, — сказал парикмахер. — Эспехо был в смятении, не знал, что делать. Он начинал понимать — слишком поздно, — что Открытое собрание стало одним из тех исторических недоразумений, которое может ему стоить головы. А Перону все не нравилось. Он наблюдал за происходящим с неудовольствием, с нетерпением. Никто никогда не мог понять, почему дело зашло так далеко. Миллион человек пересекли огромные пространства Аргентины — и ради чего? Вы видели лицо Эвиты? Выходя на трибуну, она была уверена, что Перон лично объявит ее кандидатуру. Иначе зачем бы он ее вызывал? Все оказалось каким-то балаганом. Чтобы не рассердить мужа, ей приходилось лгать. Но она не хотела лгать. Она не могла так поступить со своими неимущими. Толпа и Она внезапно оказались втянуты в импровизированный диалог, этакое сальто мортале без сетки. Эвита не была готова произнести ни одно из тех слов, которые Она теперь начнет говорить. Они шли у Нее от души, от интуиции. Почему в вашем фильме вы не передаете весь диалог целиком? Он очень трогательный.
ЭВИТА:
Друзья, поймите меня! Я не отказываюсь от моего боевого поста. Я отказываюсь от почестей.
Толпа поднимает вверх факелы, машет платочками. Эвита отчаянными жестами пытается их успокоить.
ХОР ГОЛОСОВ:
От-ве-чай! Ска-жи-да!
ЭВИТА:
Друзья! Я предполагала другое, но в конце концов я сделаю то, что скажет народ. (Овация) Вы думаете, что, если бы пост вице-президента был простой должностью и я для него годилась, я бы уже не ответила «да»? Завтра, когда…
ХОР ГОЛОСОВ:
Сегодня! Сегодня! Сейчас!
Зва поворачивается к Перону. Он ей что-то говорит на ухо.
— Знаете, что ей сказал генерал? — заметил парикмахер. — Он сказал: «Пусть уходят! Попроси их разойтись».
ЭВИТА:
Друзья… Ради объединяющей нас любви… (Она подносит руки к горлу. По ее жестам кажется, что она хочет высвободить это рыдание, но не знает как. Она вздыхает. Овладевает собой.) Умоляю вас не принуждать меня делать то, чего я делать не хочу. Прошу вас как друг, как товарищ разойтись…
ХОР ГОЛОСОВ:
Нет! Нет! (Голоса сливаются, смешиваются.) Объявим всеобщую забастовку! Всеобщую забастовку!
ЭВИТА:
Воля народа — закон. Я согласна…
Картины толпы — люди прыгают, танцуют, играют факелами. Взрываются вулканы фейерверков. С балконов рассыпают конфетти, луч прожектора скрывается за лесом знамен. Слово «согласна» звучит на все лады, как псалом.
ХОР ГОЛОСОВ:
Согласна, согласна! Сказала, согласна!
На трибуне Эвита отрицательно качает головой, опускает руки.
ЭВИТА:
Нет, друзья! Вы ошиблись. Я хотела сказать: я согласна с тем, что мне говорил товарищ Эспехо… Завтра, в двенадцать часов…
ХОР ГОЛОСОВ (Свист! А затем:)
Сейчас, сейчас! Не завтра, сейчас!
ЭВИТА:
Я прошу у вас только чуточку времени. Если завтра…
ХОР ГОЛОСОВ:
Нет! Сейчас!
Эвита опять поворачивается к Перону. Лицо ее осунулось от растерянности и испуга. В одном из выпусков «НоДо» по очертаниям ее губ ясно читается вопрос: «Что мне делать?»
— Перон ей сказал, чтобы она не уступала, — объяснил парикмахер. — Чтобы отстрочила ответ. «Тут важно, кто настоит на своем, — сказал он. — И последнее слово за тобой. Они не могут тебя заставить».
— Он был прав, — заметил я. — Они не могли ее заставить.
— Заставили все же. Они были полны решимости не сходить с места.
ЭВИТА:
Друзья!.. Разве Эвита когда-нибудь вас обманула? Разве Эвита не делала то, чего вы желаете? Как же вы не сознаете в эту минуту, что для женщины, как для любого гражданина, решение, которого вы от меня требуете, жизненно важно? А я ведь прошу у вас всего несколько часов отсрочки…
Толпа возбуждается. Кое-где гаснут факелы. Наплывает, как потоки лавы, возглас: «Сейчас!» Неумолимое «сейчас» раскрывает свои крылья, крылья нетопыря, бабочки. Это «сейчас» гудит в устах скотоводов и хлеборобов, ничто не в силах сдержать их неистовство, их натиск, их огненный порыв. (Безумное пиршество этого слова продолжалось, по подсчетам газеты «Демокрасиа», больше восемнадцати минут. Но в изданиях «НоДо» и «Сусесос Архентинос» отметили только десять секунд. Предлагаю режиссеру продолжать эти кадры, пока зрители не изнемогут. Предлагаю придать этой сцене эротический, чувственный характер. Возможно, таким образом удастся отчасти достигнуть реального накала.) ХОР ГОЛОСОВ:
Сейчас! Сейчас! Сейчас! (И т. д.) Эвита разражается рыданиями. Она уже не стыдится плакать. ЭВИТА:
И все равно не думайте, что это меня удивляет. Я уже давно знаю, что настойчиво называлось мое имя. И я от этого не отказывалась. Я делаю это для народа и для Перона, потому что нет никого, кто мог бы хоть отдаленно сравниться с ним. Я это делаю для вас, чтобы вы увидели, что в партии есть люди, способные быть вождями. Назвав мое имя, генерал мог бы мгновенно оградить себя от партийных раздоров…
— Вот сакраментальный момент ее выступления, — сказал парикмахер. — Эвита обнажается. Я — это не я, говорит она. Я то, чего хочет мой муж. Я разрешаю ему плести его интриги, пользуясь моим влиянием. Раз он дал мне его имя, я ему даю мое. Это было ужасно, но никто не понимал смысла ее слов.
— Она сама не понимала, что говорит, — заметил я.
ЭВИТА:
Но никогда в моем сердце, сердце простой аргентинской женщины, не было мысли, что я могу занять это пост. Друзья…
Наступил решающий момент. Кинокамера словно стала живым существом. Она вздрагивает, она растерялась. Куда теперь смотреть? Камера почуяла страхи толпы, она тоже взмокла от страха. Она мечется туда-сюда: море факелов, Эвита.
ХОР ГОЛОСОВ:
Нет! Нет!
ЭВИТА:
Сегодня вечером… Сейчас четверть восьмого. ..Я… Пожалуйста… В половине десятого по радио…
ХОР ГОЛОСОВ:
Сейчас! Сейчас!
В последнем выпуске «НоДо» оказался, должно быть, случайно сделанный панорамный снимок, передающий накаленную атмосферу на трибуне. Мы там видим Эспехо, дающего Перону робкие, неслышные нам объяснения. Эвита спрашивает, что делать. Ей бы впору осыпать его упреками. Но она их сдерживает. Перон, стоя спиной к толпе, указывает пальцем на кинокамеру.
ПЕРОН:
Убрать это сейчас же!
В сумятице, царящей на трибуне, нелегко различить, где чей голос. Временами слышатся истерические, пронзительные всхлипы, их могла издавать только несчастная Эвита.
ЭСПЕХО:
Друзья… Сеньора… Товарищ Эвита просит вас подождать всего два часа. Мы останемся здесь, пока она не объявит нам свое решение. Мы не уйдем, пока она не даст благоприятного ответа, которого жаждет трудовой народ.
В бесконечном движении опять реют белые платочки и колышутся бесчисленные факелы.
ЭВИТА:
Друзья! Как сказал генерал Перон, я сделаю то, что скажет народ.
Заключительная овация. Люди падают на колени. Объектив камеры уходит куда-то ввысь, удалясь от божественной Эвиты и Ее дивной музыки, от алтаря, где Ее только что принесли в жертву, от факелов, зажженных ради Ее скорбной ночи (Согласилась она? Еще не все потеряно. Но нет, она не согласилась.)
— Я не знал, что делать с последней фразой Эвиты, — сказал я парикмахеру. — Она загадочна. Признаюсь, у меня было искушение убрать ее. Или рассечь на две части, от чего смысл изменился бы. Я подумал, что можно показать Эвиту, говорящую: «Друзья, как сказал генерал Перон». А потом дать паузу, многоточие, быть может, картину толпы, принуждающей Эвиту. В кинохрониках есть тысячи метров пленки со всевозможными проявлениями чувств толпы. Я мог бы выделить два-три типа подходящих эмоций и вставить сюда. А под конец вернулся бы к Эвите крупным планом, произносящей вторую половину своей сентенции: «Я сделаю то, что скажет народ». Излишне объяснять вам, что подобные подтасовки в кино — обычное дело. Пропуска при монтаже или затемнения кадра достаточно, чтобы выдумать другое прошлое. В кино нет истории, нет памяти. Здесь все — современная жизнь, чистое настоящее. Единственно подлинное — сознание зрителя. И эта последняя фраза Эвиты, так сильно взбудоражившая толпы на Открытом собрании, со временем превратилась в пустой звук. Без эмоций этого момента она ничего не значит. Обратите внимание на синтаксис. Совершенно необычный. Перон мне сказал, чтобы я делала то, что скажет народ, но то, что народ говорит мне, чтобы я делала, это не то, что мне сказал Перон.
— Все выступления Эвиты были похожи одно на другое, — перебил меня парикмахер. — Все, кроме этого. Она очень ловко владела своими эмоциями, но плохо владела словами, Стоило ей остановиться, чтобы подумать, она портила все дело. То, что вы написали, очень хорошо, мне тут нечего возразить. Вы сделали что могли. Это официальная история. Другая история не заснята. Она за пределами кино. И ее даже невозможно придумать, потому что главная актриса умерла.
Светало. Места за столиками в кондитерской «Рекс» начали заполняться телефонистками и банковскими кассирами, приходившими позавтракать. Солнечные лучи по временам пролегали между узорами сигаретного пепла и лениво кокетничавшими комарами, безнаказанно и безостановочно летавшими утром и вечером, в засуху и в дождь. Я встал, чтобы пойти помочиться. Парикмахер пошел вслед за мной и стал мочиться рядом.
— В этом фильме нет главного, — сказал он. — Нет того, что один я видел.
Он меня заинтриговал, но задавать вопросы я побоялся.
— Не хотите ли вместе пройтись? — сказал я. — Мне уже не хочется спать.
Мы пошли к спуску улицы Коррьентес, между продавцами лотерейных билетов и киосками филателистов. Я увидел женщину в одном чулке, с распухшими щеками, бежавшую по мостовой между машинами, увидел подростков-тройняшек, говоривших одновременно, каждый сам по себе. Не знаю, почему я все это заметил. Бессонная ночь наполнила мое воображение предчувствиями, беспричинно возникавшими и исчезавшими. Когда мы поравнялись с отелем Хоустена, почти в конце спуска, парикмахер пригласил меня выпить чашку горячего шоколада. В коридорах ресторана стояли широкие кушетки, на которых когда-то Альфонсина Сторни и Леопольдо Лугонес лежали перед тем, как приняли решение покончить с собой. Посетителям приходилось беседовать, глядя друг на друга сквозь хрустальные вазы, из которых поднимался целый лес искусственных гвоздик. Не буду тащить читателя по болотам нашего последующего диалога, в котором не было ничего из того, о чем я сейчас упомянул. Ограничусь записью сообщений парикмахера, которые дополняют почти в том же ключе его рассказ пятнадцатилетней давности.
Когда закончилось Открытое собрание, Эвита попросила меня проводить ее в Дом президента. На улицах не было ни души. Мы шли в беспробудной тишине кошмара. Эвита вся дрожала — ее опять била лихорадка. Я поднялся с нею в комнатку перед спальней и накинул на нее пуховое одеяло.
— Я попрошу, чтобы вам приготовили стакан чаю, — сказал я.
— И стакан для тебя, Хулио. Не уходи еще.
Она скинула туфли и сняла накладной пучок. Я даже не помню, о чем мы говорили. Кажется, я ей советовал новый лак для ногтей. И вдруг мы услышали голоса на нижнем этаже. Там располагался военный караул, что было признаком появления генерала. Перон был человек, придерживавшийся строгих привычек. Ел мало, для развлечения слушал комические радиопередачи и рано ложился спать. В этот раз меня удивил его необычно громкий голос.
— Эвита, Чина! — позвал он раздраженным, как мне показалось, тоном.
Я не хотел мешать и поднялся.
— Никуда не уходи, — приказала Сеньора и выбежала, разутая, из комнаты.
Генерал, видимо, был совсем близко.
— Эва, нам надо поговорить, — услышал я.
— Конечно, нам надо поговорить, — повторила она. Они заперлись в спальне, но массивная дверь, выходившая в переднюю комнату, осталась приоткрытой. Если бы все произошло не так быстро и неожиданно, я бы, разумеется, удалился. Меня удержал страх выдать себя шумом. Сидя на краешке стула, я замер — и слышал весь их разговор.
— …перестань спорить и слушай, что я скажу, — говорил генерал. — Очень скоро партия объявит твою кандидатуру. Ты должна будешь от нее отказаться.
— И не подумаю, — ответила Эвита. — Меня не вынудят эти сукины дети, которые убедили тебя. Меня не вынудят ни попы, ни богачи, ни твои дерьмовые солдафоны. Ты не хотел меня выдвигать, разве не так ? Теперь можешь заткнуться. Меня выдвинули мои бедняки. Если ты не хотел, чтобы я была кандидатом, не надо было меня выдвигать. Теперь уже поздно. Или меня назовут официально, или никого не назовут. Я не дам втоптать себя в грязь.
Муж подождал, пока она выговорится.
— Не советую тебе упрямиться. Тебя провозгласили. Но дальше идти нельзя. Чем раньше ты откажешься, тем будет лучше.
Я почувствовал, что она сдается. Или она притворялась?
— Я хочу знать почему. Объясни мне, и я успокоюсь.
— Что еще тебе объяснять ? Ты же знаешь не хуже меня, как обстоят дела.
— Я выступлю по национальному каналу, — сказала она. Голос ее дрожал. — Завтра утром. Выступлю, и все закончится.
— Это самое лучшее. Не импровизируй. Скажи, чтобы тебе подготовили выступление, несколько слов. Откажись, не приводя объяснений.
— Ты сукин сын! — взорвалась она. — Ты хуже всех. Я не хотела этого выдвижения. По мне, так можешь сунуть его себе в задницу. Но я уже ввязалась в это, и все потому, что ты захотел. Ты пригласил меня на танец — разве нет ? Вот я и танцую. Завтра рано утром я выступлю по радио и соглашусь. Никто меня не остановит.
На миг настала тишина. Я слышал взволнованное дыхание обоих и испугался, что они тоже могут услышать мое дыхание. Потом заговорил он, произнося слова размеренно, по слогам.
— У тебя рак, — сказал он. — Ты умираешь от рака, и тут ничего нельзя поделать.
Никогда не забуду вулканический взрыв рыданий, долетевший в темноту комнатки, где я укрылся. То были рыдания, обжигающие огнем, рыдания ужаса, одиночества, утраченной любви.
Эвита закричала:
— Дерьмо! Дерьмо!
Я услышал, как забегала прислуга, и вышел из дому деревянными шагами, словно сомнамбула.
Парикмахер отвернулся и стал смотреть в другую сторону. Когда он взглянул на меня, я отвел глаза. Этот человек был переполнен воспоминаниями и давними чувствами, и я не хотел, чтобы они мне передавались.
— Пойдемте уже, — сказал я. Мне хотелось быть подальше от этого утра, от этого отеля, от того, что я увидел и услышал.
— Я вернулся домой часа в два ночи, — продолжал парикмахер.
Я почувствовал, что он уже говорит не со мной.
—Мои кузины в ночных рубашках ждали меня. Альсина из какого-то закутка на улице видела, как генерал проследовал на Открытое собрание, но, поскольку движение толпы увлекало их то туда, то сюда, они, когда Эвита начала говорить, уже были вблизи трибуны, в двадцати или тридцати шагах. «Мы видели ее фарфоровое личико, — сказала та, что с зобом, — видели длинные, как у пианистов, пальцы, сияющий ореол вокруг волос»… Я ее перебил: «У Эвиты нет никакого ореола, — сказал я. — Уж меня-то вы на эту выдумку не купите». «Нет, есть, — настаивала та, у которой нос длинней. — Мы все его видели. А в конце, когда она прощалась, мы еще увидели, как она вознеслась над трибуной на метр или полтора, точно не знаю, и поднялась в воздух, и ореол у нее сиял так ярко, что только слепой бы его не увидел».
Назад: 3. «РАССКАЗАТЬ ИСТОРИЮ»
Дальше: 5. «Я СМИРИЛАСЬ С ТЕМ, ЧТО БУДУ ЖЕРТВОЙ»

