ВОЗДУХ
Unum est vasМария Пророчица
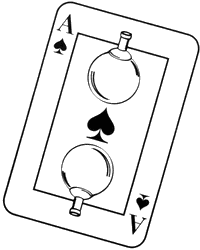
Дэниел Пирс родился на рассвете дождливого весеннего дня, 15 марта 1966 года. Он остался без второго имени, потому что его мать, Эннели Фэроу Пирс, и так устала ломать голову над именем и фамилией сына. Особенно над фамилией. По ее прикидкам, отцом Дэниела мог оказаться любой из семи ее мужчин. Имя «Дэниел» Эннели выбрала потому, что оно звучит твердо и мужественно, а мужество младенцу явно понадобится.
Эннели была шестнадцатилетней воспитанницей Гринфилдского приюта для девочек штата Айова при сестринской общине Девы Марии. Туда ее определил суд после попытки украсть серебряный слиток из витрины ювелирного магазина. В полиции Эннели сказала, что она лунная сирота, а судье заявила, что не признает за ним права распоряжаться ее жизнью. И отказалась давать показания, назвала только свое имя. Судья отправил ее в Гринфилд до достижения восемнадцати лет.
Через месяц жизни в приюте Эннели по секрету рассказала одной из девочек, что, наверное, ждет ребенка. На следующий день ее вызвали к сестре Бернадетт, сухощавой суровой женщине лет пятидесяти, чей кабинет был так же аскетичен, как сердце хозяйки, но далеко не столь убог.
— Садись, — сказала сестра Бернадетт. Это было не приглашение, это был приказ.
Эннели села на деревянный стул с высокой спинкой прямо перед столом сестры Бернадетт. Полминуты та изучала ее лицо, потом уперлась взглядом в живот. На дряблой щеке дрогнул мускул.
— Я так поняла, ты беременна, — без всякого выражения сказала она.
Эннели чуть-чуть подвинулась на жестком стуле.
— Похоже.
— Тебя изнасиловали, — почти шепотом сказала сестра Бернадетт. — Ребенка отдадут на усыновление.
Эннели покачала головой.
— Никто меня не насиловал. Меня трахнул любимый мужчина. Это было здорово. И я хочу ребенка.
— И кто же любящий отец?
— Не знаю.
— Не знаешь, — сестра Бернадетт прикрыла глаза и сложила руки на столе. — Не знаешь, потому что он не представился, или потому что всех было трудно запомнить?
Эннели поколебалась секунду и твердо ответила:
— И то, и другое.
— Вот как, — кивнула сестра Бернадетт. — Значит, ты не только воровка, но еще и шлюха.
Сверкнув глазами, Эннели вскочила.
— Сидеть, шлюха! — взвизгнула сестра Бернадетт, грохнув по столу ладонями, и тоже вскочила на ноги. — Сидеть, я сказала!
Первый удар Эннели, девушки ростом под шесть футов, прямой справа, наотмашь, сломал челюсть сестре Бернадетт.
Три месяца Эннели провела одна в помещении, которое у воспитанниц называлось «холодным коробом» — в сарае с крошечными комнатушками, где коптили мясо, когда Гринфилд был свинофермой. Окон не было, только отверстия для вентиляции под потолком. Обстановка тоже отсутствовала, если не считать продавленной койки и постоянно засоряющегося унитаза. Два раза в день приносили еду, неизменный жидкий суп с черствым хлебом и сморщенное яблоко. Раз в неделю Эннели был положен душ, раз в месяц — осмотр у гринфилдского врача, старенького терапевта на пенсии и в глубоком маразме, у которого был один способ диагностики: пациенту велели раздеться и попрыгать по кабинету, выбрасывая в стороны руки и ноги.
В «коробе» Эннели впервые начала делать ежедневную зарядку, не включая в нее прыжки по системе спятившего доктора. Тренировка помогала ей скрасить тошнотворное заключение, а глубинный женский инстинкт подсказывал, что нужно окрепнуть перед родами.
Упражнения занимали около двух часов в день. Остальное время проходило в мечтах и воспоминаниях, долгих, словно кружащихся по спирали. Неделю спустя Эннели почувствовала, как впервые шевельнулся ребенок, и все ее внимание постепенно обратилось внутрь. Ложку выдавали только на время еды, но она успела нацарапать ею на закопченной стене добытую в заключении истину: «Жизнь продолжается».
Когда Эннели разрешили вернуться в общую спальню, девочки встретили ее как героиню. Сестра Бернадетт до сих пор питалась через соломинку, и ходили слухи, что ее должны куда-то перевести. Эннели не очень-то волновала судьба сестры Бернадетт, ее больше беспокоила своя собственная и участь ребенка. Новая настоятельница, сестра Кристина, — «очень классная», как говорили девочки, — сообщила Эннели, что сестра Бернадетт решила не предъявлять ей официального обвинения.
— Это почему? — спросила Эннели.
Удивленная агрессивным тоном воспитанницы, сестра Кристина выпрямилась на высоком стуле.
— Наверное, сестра Бернадетт сумела найти в своем сердце милосердие к тебе.
— Все равно что искать его в горчичном зернышке. Если оно там и есть, то не так уж много.
— Печально слышать от тебя такие слова, — мягко сказала сестра Кристина. — Я посвятила жизнь Христу, веруя в то, что Он есть Бог, и в Его бесконечную мудрость. И то и другое означает, что в глубине каждого сердца есть способность прощать.
Эннели наклонилась вперед, заметив, как вырос за это время ее живот, и так же мягко ответила:
— Сестра Кристина, я посвятила половину своей жизни выживанию, потому что считаю, что жизнь того стоит. Прощение — пустой звук, поскольку прощать нам нечего. Я верю в мудрость того, что есть, и в силу «здесь и сейчас». Я беременна. Я хочу сама растить ребенка. Это моя жизнь, и моя сила — ответственность за нее. Если вы хотите ее у меня отнять, я объявлю вам войну, возможно, войну на страницах газет и в новостных выпусках. «Беременная сирота в католической тюрьме», «Дочь убитых родителей каждую ночь молится в слезах — Господи, не дай им отнять моего ребенка, ведь это все, что у меня осталось». Простите меня, сестра, но так оно и будет.
Сестра Кристина, прослезившись, потянулась через стол и обняла Эннели.
— Господи, если бы все были такими! Как много людей ищет Бога, и как мало Он находит! Эннели, я помогу тебе, чем смогу, но у меня нет связей за пределами Гринфилда. Тебе придется подумать о передаче ребенка на усыновление, ведь у тебя нет средств, чтобы содержать его — если только каким-то чудом тебе не позволят растить его здесь — без дома, без профессии, без семьи. Ты думаешь, что жизнь того стоит. Что ж, попробуй выжить с младенцем. Пройдет время, и ты превратишься в тридцатилетнюю официантку, сменившую трех мужей, с хроническим геморроем, с такой депрессией, что и лекарства не помогают, и с ребенком, который терпеть тебя не может.
— Откуда вам знать? — сердито спросила Эннели.
— Я столько раз это видела, что даже жалости в сердце уже не чувствую — только если вижу такую, как ты, решительную и сильную.
Эннели накрыла ладонями руки сестры Кристины.
— Тогда я дам вам свой обет: если вы не разобьете моих планов, я не разобью вам сердце.
К началу третьего триместра Эннели излучала спокойствие и жизненную силу. Воспитанницы относились к ней с благоговением. Даже сестры смягчились. Ее обеспечивали дополнительными подушками и любыми продуктами, какие ей хотелось. Девочки с замиранием сердца спрашивали, что она чувствует. Эннели отвечала — ты как будто становишься кем-то другим, и это самое удивительное, что только можно себе представить.
Роды прошли без осложнений. Через девятнадцать часов, когда нянечка принесла Дэниела на третье кормление, Эннели боком скатилась с кровати, быстро оделась и вышла из роддома со спеленутым младенцем на руках.
На улице моросил дождик, холодный, но не ледяной. Эннели свернула за угол и пошла по улице, высматривая на обочине автомобиль с торчащим ключом зажигания. Дождик усиливался. Она посильнее натянула край одеяльца.
— Ну вот, малыш. Идем.
Дорога плавно покачивала мальчика у груди Эннели, а она подпевала Улыбчивому Джеку Эббеттсу, водителю Поющего Трейлера. Все трое катили на запад по трассе I-80 в кабине «кенворта», Джекова грузовика. Сбежав из больницы, Эннели угнала машину в пяти кварталах от нее, но долго ездить на этом авто было слишком рискованно, и она бросила его рядом с придорожной гостиницей, вышла на трассу и подняла руку. Меньше чем через минуту притормозил Улыбчивый Джек. Не успел еще двигатель краденого «форда» остыть, как они умчались больше чем на пятьдесят миль от него.
Улыбчивый Джек Эббеттс не был дальнобойщиком. Он зарабатывал на жизнь выступлениями на автостоянках и в барах по всей стране — останавливался и пел, когда просила душа или заканчивались деньги. Жил он в трейлере, прицепленном к грузовику. Там умещалась крохотная кухонька, уютная гостиная, тесная душевая кабинка и туалет, а в задней части две маленькие спальни. Жилище на колесах, как хозяин объяснил Эннели, стало компромиссом между его домашним сердцем и бродяжьей душой.
Улыбчивому Джеку было под сорок, и, как обещало прозвище, человеком он оказался очень приятным. Ленточку его ковбойской шляпы скрепляла старая пуговица с эмблемой «Индустриальных рабочих мира», а на пряжке ремня болталась пара игральных костей. Он сразу понравился Эннели. Когда Улыбчивый Джек спросил, что она делает на дороге с таким крошечным младенцем — «на вид едва родился, обсохнуть толком не успел», — она все рассказала. Услышав о сломанной челюсти сестры Бернадетт, Улыбчивый Джек нажал на клаксон, и над дорогой пронеслись два победных вопля.
— Просто класс! — восхищенно воскликнул он, когда рассказ Эннели был окончен. — По-моему, ты молодец, все сделала как надо, — он погладил ее по плечу. — Все будет в порядке. Мозги у тебя работают, сердце тоже, и характер имеется, чтобы спаять их в одно целое. — Улыбчивый Джек снова стал смотреть на дорогу. — У тебя есть идея, куда направиться с пацаном?
— Наверное, в Калифорнию. Люблю тепло.
— У тебя там есть кто-нибудь?
— Нет.
— Деньги есть?
— Нет.
— У меня сейчас тоже особо бабок не водится. Но когда доберемся до Линкольна, я хочу купить Дэниелу каких-нибудь шмоток на день рождения. Штаны, рубашку, все такое. И пеленок, конечно.
— Спасибо, — сказала Эннели. — Только, пожалуйста, не трать больше, чем можешь себе позволить.
Улыбчивый Джек улыбнулся.
— Так если я их не потрачу, как мне узнать, сколько я могу себе позволить?
Он спел Эннели несколько песен из своего бездонного репертуара, потом они репетировали, проезжая через Вайоминг, Эванс и Солт-Лейк-Сити. Когда большой грузовик понесся по солончакам Невады, голоса зазвучали гармонично. Дэниел спал на сиденье между ними или сосал молоко.
Три дня Эннели и Улыбчивый Джек выступали вместе в одном из баров Виннемукки, потом дали воскресный концерт в клубе рядом с Рино. Сорок процентов сборов Улыбчивый Джек отдавал Эннели, сам оплачивая все расходы. Когда они миновали перевал Доннера и въехали в Калифорнию, у Эннели уже была старая плетеная колыбелька, коляска с разболтанными колесами и семьдесят пять долларов в кармане джинсов от Армии Спасения.
Около Сакраменто они решили остановиться, Эннели — постирать пеленки в ближайшей прачечной, а Улыбчивый Джек — заменить масло в грузовике. Когда снова поехали, Улыбчивый Джек сказал:
— Мне тут мысль пришла, пока лазил под грузовиком. Похоже, я могу кое-что предложить для вас с маленьким. Тут есть одно полураздолбанное ранчо у черта на куличках, за Спрингридж, миль сто пятьдесят к северу от Фриско, если по прямой, а от побережья мили две. Мой дядя выиграл его в карты еще в тридцатых — у него было четыре двойки против полного набора тузов. Не фонтан, конечно, но дяде Дейву хватило и этого, чтобы прибрать их к рукам. Ранчо он завещал мне, когда отдал концы пять лет назад. Там что-то около двухсот акров, старый сосновый домик, чистый воздух, родниковая вода. Ближайший сосед в семи милях по грунтовке, так что круг общения, конечно, будет ограничен, зато это идеальное место, чтобы залечь на дно, пока пыль не уляжется — ну, ты понимаешь. Мне-то ранчо ни к чему, оно всегда стоит на одном месте, да еще и налоги плати, — так что, если ты заинтересуешься, я не прочь заключить сделку. Живи там сколько хочешь, платой будут налоги и присмотр за домом. Налоги — двести девяносто семь долларов в год, и до следующего января уже уплачены. Попробуй, для детей жизнь на природе просто супер. Если я застану тебя в следующий раз, как буду проезжать мимо, то, может быть, предложу небольшой заработок. А до тех пор ты сама себе хозяйка. Что скажешь?
— Большое спасибо.
— Черт возьми! — рассмеялся Улыбчивый Джек. — Ты это заслужила, детка! Не думай, что тебе сделали одолжение.
«Кенворт» Улыбчивого Джека был слишком широк для размытой грунтовой дороги, и последнюю милю до ранчо они шли пешком, по очереди неся Дэниела. К двери домика были прибиты четыре карточных «двойки», сложенные веером; они так выгорели на солнце, что изображение едва можно было различить. Домик зарос паутиной, на полу валялись стружки, но щетка и мокрая тряпка вполне могли справиться со всеми последствиями запустения. Крыша прогнулась под тяжестью толстой ветки, оторванной ветром от яблони, зато под навесом лежали три связки дубовых дров. Улыбчивый Джек показал Эннели, где хранится керосин, как заправлять лампы и подрезать фитили, объяснил, как обращаться с печью и пропановым холодильником, достал постельное белье из старого морского сундука и вообще помог ей устроиться. Потом они обедали на заднем крыльце в теплых закатных лучах, ели хлеб с сыром, который купили еще в Сан-Франциско. После обеда Улыбчивый Джек помахал Эннели на прощанье и пошел обратно к грузовику.
В доме заплакал Дэниел. Эннели расстегнула рубашку и дала ему грудь. Малыш отпихнул ее и заревел еще громче. Эннели было шестнадцать лет, Дэниелу — не больше двух недель. Был День Дураков, первое апреля. Они сидели где-то в Калифорнии, в щелястой развалюхе, построенной еще в 1911 году каким-то пастухом. Крыша едва держалась. Из продуктов были только хлеб, сыр и несколько ржавых консервных банок с фасолью и мясом. В кармане шестьдесят семь долларов.
— Конечно, ты прав! — вырвалось у Эннели, и она тоже заплакала. А потом принялась за работу.
Через десять дней, когда домик был тщательно убран, щели заделаны и кадка для воды полна, Эннели с Дэниелом на руках отправилась автостопом в Сан-Франциско. У них было три переезда, дорога заняла двенадцать часов. Ночевали в хипповском приюте на Хейт-стрит, где женщина лет двадцати по имени Айсис Паркер предложила ей кровать и кредитную карточку своего отца.
Утром Эннели просмотрела объявления нянь в газетном разделе «Ищу работу», позвонила по нескольким телефонам. Остановившись на пожилой женщине с ласковым голосом, она отвезла к ней Дэниела и отправилась в центр — распотрошить кредитную карту отца Айсис Паркер. Дэниелу она купила целый пакет разной одежды, себе выбрала стильный твидовый костюм, подходящие туфли, сумку и серую шелковую блузку.
Часом позже солидного брокера, выходящего из дорогого магазина мужской одежды, остановила изящная молодая женщина — вернее, девушка, — в безупречно сшитом костюме. Вид у нее был крайне растерянный и огорченный.
— П-простите… понимаете… понимаете, у меня украли сумку… — она опять запнулась, покраснела и выпалила, — а мне срочно нужно купить прокладки.
P-раз! За день набежало около ста долларов. Обычно Эннели проделывала это в деловых центрах, выбирая хорошо одетых мужчин лет пятидесяти — такие чаще всего старались сгладить неловкость щедростью. Несколько раз ей отказывали, молча проходя мимо. Один клерк чуть не упал в обморок. К женщинам она ни разу не обращалась. Женщины слишком проницательны.
В общем, трюк был превосходный, настолько удачный, что даже чистейший провал его стал самым большим успехом. Однажды холодным октябрьским утром Эннели подошла к высокому, аккуратно одетому мужчине, выходящему из отеля «Клифт». Он внимательно выслушал ее просьбу, тут же полез в карман и протянул ей стодолларовую купюру. Эннели такой ни разу не видела. Она дважды пересчитала нули.
— Я сейчас принесу вам сдачу, — сказала девушка, прикидывая, как лучше это сделать.
— Глупости, — улыбнулся благотворитель. — Оставьте себе все, что останется после покупки «Тампакса». Думаю, как раз сто долларов и останется. Отличная разводка! В наши дни редко встретишь таланты, а они заслуживают вознаграждения. Кроме того, я только что выиграл в покер восемь штук баксов. Мне нравится пускать деньги в оборот.
— Ну, дуй за выигрышем, ковбой! — рассмеялась Эннели. Даже забирая Дэниела у няни, она все еще хихикала.
Таким образом Эннели «работала» в городе раз в месяц. Сперва они проводили в Сан-Франциско только полдня, но когда Дэниел был отнят от груди, Эннели стала оставлять его у няни на двое-трое суток, днем «работая» на Монтгомери-стрит, а вечером тусуясь с музыкантами и авангардной молодежью в хипповском районе Хейт. Там курили траву и пили вино. Эннели нравились поэты и саксофонисты, но себя она не причисляла к их компании. И никогда никого не приглашала домой.
Остаток каждого месяца они с Дэниелом проводили на ранчо. На свои заработки Эннели купила пистолет, и ей случалось иногда подстрелить кабана или оленя. Несколько килограмм мяса она запихивала в маленькую морозилку, остальное сушила или консервировала. На ранчо был большой сад, дюжина кур и уток. Старые деревья еще давали урожай, в речушке неподалеку круглый год ловилась форель, осенью заплывал лосось. Вертеться приходилось здорово, но жили они неплохо, и заработанных денег хватало на то, чего нельзя было получить от земли.
Вечерами Эннели читала библиотечные книги, которые рекомендовали ей друзья-поэты, или играла на старой гитаре, найденной под кроватью. Сочиняла песенки, чтобы позабавить Дэниела. Это и стало его первым словом — «песенка». Но вскоре он говорил уже совсем неплохо и однажды, вбегая со двора, сообщил:
— Мам, там кто-то идет!
Улыбчивый Джек, опоздав на три года, наконец вернулся.
На крыльце они с Эннели радостно обнялись. Улыбчивый Джек почти не изменился — чуть больше седины в волосах, чуть глубже морщинки вокруг глаз, свидетельство веселого характера. А Эннели изменилась разительно. Теперь, в девятнадцать лет, это была сильная, волевая женщина в расцвете дикой красоты. Движения стали легкими и свободными, глаза смотрели на собеседника в упор. Улыбчивый Джек присвистнул.
— Господи боже мой, подруга, не сойти мне с места, если ты не выглядишь на девятьсот сорок семь процентов лучше, чем когда я последний раз тебя видел. Видно, жизнь на природе как раз для тебя!
Эннели рассмеялась и откинула со лба волосы.
— Это Улыбчивый Джек Эббеттс, — сказала она стоявшему в дверях Дэниелу, — тот самый, который разрешил нам здесь пожить.
— Привет, — кивнул мальчик.
— Рад тебя видеть, Дэниел, — Улыбчивый Джек протянул руку. Дэниел посмотрел на нее недоверчиво, но пожал. — Вряд ли ты помнишь старого крезанутого Джека, ты еще и второго месяца не разменял, когда я подхватил вас с мамкой на холодной трассе прямо за Де-Мойн и привез сюда присматривать за ранчо Четыре Двойки. Но я тебя прекрасно помню, и помню, как мы классно сюда ехали.
— А я тебя не помню, — сказал Дэниел.
— Мало кто помнит, что с ними было в таком возрасте.
— Да, — сказала Эннели, — и мало кто возвращается через три года, обещав заехать через несколько месяцев.
— Надо ж было убедиться, что вы решили тут обосноваться всерьез!
Эннели сложила руки на груди.
— По крайней мере, до сих пор мы здесь.
— Да нет, — махнул рукой Улыбчивый Джек, — шучу, я нисколько не сомневался. Просто пришлось подзадержаться немного, сперва разбирался со всякими семейными делами во Флориде, а потом, по дороге сюда, уже в Уэйко, запал на офигительную игру с тремя картами. Семь раз проигрывал грузовик.
— А сколько раз отыгрывал? — улыбнулась Эннели.
— Восемь или девять, не помню, — Улыбчивый Джек тоже заулыбался во весь рот, — и еще целую пачку денег выиграл впридачу — мокрые тапочки можно спалить!
— Ну, заходи, — пригласила Эннели, — поможем тебе их сосчитать.
После обеда Улыбчивый Джек предложил Эннели еще одну сделку.
— Слушай, у нас с друзьями есть мысль сделать тут надежный дом, и…
— Что значит «надежный дом»?
— Такое название для укрытия. Надежный дом.
— Для укрытия от полиции?
— В основном да, — кивнул Улыбчивый Джек, — но не каждый раз. Иногда здесь будут просто отдыхать.
— И в чем твое предложение?
— Я хотел бы, чтобы ты вела все домашние дела. Заботилась о гостях.
Дэниел потянул Улыбчивого Джека за рукав.
— У тебя правда есть восемь или девять грузовиков?
— Нет, приятель, только один. «Кенворт» сорок девятой модели.
— Дай покататься!
— Покатаешься, парень, только попозже. Сейчас у нас с мамой деловые переговоры.
— Ладно.
Малыш пошел во двор, а Улыбчивый Джек опять повернулся к Эннели.
— Оплата — тысяча долларов в месяц плюс бесплатное проживание — независимо от того, будет здесь кто-нибудь жить или нет. Чаще всего не будет.
— С кем мне придется иметь дело?
— С очень хорошими людьми, — тон Улыбчивого Джека не оставлял сомнений в том, что это правда.
— А что нас ждет, если полиция обнаружит здесь тех, кого ищет? Я не хочу подвергать Дэниела опасности.
— Тут я ничего гарантировать не могу. Могу только обещать, что когда они будут сюда приходить, у них все уже будет в ажуре. Для них это будет завершающим шагом, отдыхом перед тем, как перейти к следующему этапу.
— Я могу получать об этих людях какую-то информацию?
Улыбчивый Джек пожал плечами.
— Все, что они сами пожелают сказать.
— И еще. Что значит «заботиться о гостях»?
— Покупки, уборка, приготовление пищи. Общение, если ты будешь не прочь.
— Большинство из них будут мужчины?
— Не знаю.
— А дети будут?
— Возможно. Я пока ничего не знаю.
— Я не смогу долго этим заниматься. Дэниелу через несколько лет идти в школу.
Улыбчивый Джек перестал улыбаться.
— Ты хочешь отправить его в школу? Ничему он там толком не научится, разве что коротать время вместе с другими детьми в совершенно дурацких условиях. А тут прямо за дверью начинается лучшее образование в мире. Черт, нет, делай то, что считаешь нужным, Эннели. Не слушай меня. В этом деле я замшелый ретроград. Будь моя воля, дети вообще не знали бы ни одного абстрактного слова до десяти лет. Нечего засорять им мозги.
— Насчет школы я подумаю, но не могу обещать, что мы долго здесь пробудем. За тысячу в месяц я согласна, на два года точно, но потом мы свободны и можем уехать.
— Или остаться, — к Улыбчивому Джеку снова вернулась улыбка. — Подробности потом обговорим. Просто я хотел выяснить, подходит это тебе или нет. Наверняка, конечно, не знал, но на всякий случай привез доски и бревна — строить внизу домик для гостей. Троим тут будет малость тесновато.
— А что бы ты сделал, если бы я отказалась?
— Оставил бы тебя здесь и нашел другое место.
— Почему ты уверен, что я в один прекрасный день не продам этих твоих гостей за пару тысяч баксов?
— Если б я думал, что ты можешь продать их даже за пару миллионов, я бы не стал с тобой разговаривать.
— Джек, если твои друзья-преступники хоть наполовину такие же хорошие люди, как ты, я сама тебе буду приплачивать штуку в месяц — вполне справедливо!
— Они отступники, — поправил Улыбчивый Джек. — Не преступники, а отступники. Мой друг Вольта говорит, тут есть большая разница. Отступники только тогда поступают дурно, когда чувствуют свою правоту, а преступники чувствуют свою правоту только тогда, когда поступают дурно.
Вечером Джек пошел ночевать в трейлер, а Дэниел спросил Эннели:
— Нам можно дальше здесь жить?
— Конечно можно, сколько захотим. Только время от времени здесь будут гости. Друзья Джека будут останавливаться.
— Он говорил, они будут здесь прятаться.
— Скорее отдыхать, Дэниел. Отдыхать перед тем, как идти дальше.
— А почему им надо прятаться?
— Потому что они отступники, вне закона.
— И мы тоже вне закона?
Секунду Эннели думала.
— Я — наверное, да. А вот ты… тебе надо будет кое-что решить для себя, когда придет время.
— Когда оно придет, мам?
Эннели обняла сына загорелой рукой.
— Дэниел, ты хороший мальчик, но не надо забрасывать меня вопросами, на которые я сама для себя едва ли могу ответить, не говоря уж о том, чтобы объяснить тебе. Есть такие вещи, которые каждый сам должен для себя определить. Это половина жизненных удовольствий.
— А другая половина?
— Другая — иногда передумывать.
— Это так же классно, как ездить на грузовике?
— Хватит! — Эннели крепче прижала его к себе. — Что классно, то классно.
Новый домик для гостей пустовал четыре месяца. Как и было обещано, в первых числах каждого месяца Эннели приходил тысячедолларовый чек, выписанный в Нашвилле от имени трастового фонда известной компании. Наличные Эннели ездила получать в Сан-Франциско и всегда оставалась развлечься на несколько дней. Такие отлучки с поста Улыбчивый Джек считал допустимыми, но просил всякий раз сообщать, когда она вернется и по какому телефону ее искать. Он дал ей номер «контрольной линии» и пароль для звонков.
Контактным телефоном Эннели стал номер круглосуточного кафе на Грант-авеню, поварам которого она платила двадцать долларов в месяц за услугу. Однажды вечером она сидела там с Джефи Райдером, молодым и довольно симпатичным поэтом, макала пончики в джем и обсуждала чайную церемонию. Из кухни высунулась Луи и позвала ее к телефону.
— Алло.
— Миссис Этелред? — голос Улыбчивого Джека. Обращение было частью пароля.
— Да, это миссис Этелред. И Дэниел.
— Где мы с вами покупали пеленки?
— В Линкольне.
— Я сильно опоздал с возвращением?
— На тридцать два месяца.
— Для меня это не так уж много. Но надеюсь, что ты сможешь попасть домой гораздо быстрее. Бегом, прыжками. В пруду плавает уточка. Извини, что так напрягаю в первый раз, но кое-где дела пошли ни к черту, и нам надо брать ноги в руки. Приятель ждет тебя на месте, а может быть, ушел.
У Эннели тогда уже был автомобиль, «форд» пятидесятой модели, требовавший прорву масла. Срочно забрав Дэниела, она помчалась домой, последние две мили трясясь и подпрыгивая на колдобинах. В доме было темно.
— Ну-ка, стой где стоишь, опусти руки, — женский голос был мягкий, но в нем звучала уверенная властность человека с оружием.
Эннели с Дэниелом остановились.
— Кто у нас тут? — спросил голос. Эннели различила в темноте фигуру, прижавшуюся спиной к дальней стене. Они действительно были на прицеле — женщина держала что-то вроде ружья с коротким стволом.
— Эннели Пирс, и мой сын, Дэниел.
Мальчик прижался сзади к ее ноге.
— Отлично, подруга, — голос стал низким, удовлетворенным. — Не хотелось пугать тебя до полусмерти, но денек у меня был еще тот, и вечер не лучше, а на вашем месте вполне могли оказаться грабители или полиция. Зажги лампу, посмотрим друг на друга.
Эннели зажгла две лампы на камине. Когда язычки пламени осветили комнату, женщина опустила обрез.
— Я Долли Варден.
В свете керосиновых ламп лицо ее было очень бледным, ни кровинки, но твердый взгляд синих глаз, низкий голос и плотное, крепко сбитое тело не оставляли впечатление хрупкости и слабости. На ней были джинсы, серая рубашка и грязные теннисные туфли.
— Меня предупредили, что ты можешь здесь быть, Долли, но я все равно никак не приду в себя.
— Неудивительно, — пробурчала Долли и посмотрела на мальчика, жавшегося к ноге Эннели. — Тебя зовут Дэниел, да?
Он быстро кивнул.
— И тебя я тоже напугала?
Дэниел снова кивнул, на этот раз еще быстрее. Долли Варден села перед ним на корточки и улыбнулась.
— Когда вы сюда подъехали, я так перетрусила, что готова была выпрыгнуть из собственной шкуры и вылететь в дымоход.
Дэниел уткнулся в ногу Эннели, она наклонилась и взяла его на руки. Долли встала.
— Ну ладно. Первый испуг, надеюсь, прошел, приготовьтесь теперь ко второму, — она повернулась спиной. Подол рубашки слева обильно пропитался кровью. — Как у тебя с оказанием первой помощи, а, детка? — спросила Долли через плечо.
— Н-не очень, — от увиденного Эннели слегка вздрогнула. Дэниел это почувствовал и развернулся у нее на руках.
— Там кровь! — воскликнул он, будто объясняя это матери.
— Ладно, хватит глаза таращить, вы, оба! Вскипятите воду, порвите какую-нибудь простыню. Вряд ли там что-то серьезное, хотя я толком не видела — сукин сын попал прямо в задницу. Черт, этой заднице и так выше крыши досталось. Мужики, мотоциклы, пинки без счета, а теперь еще и заряд дроби. Долбаные охранники стреляют отнюдь не каменной солью, как фермеры, когда я девчонкой лазила по тыквенным делянкам.
Поставив Дэниела на пол, Эннели пошла разжигать печь. Долли повернулась спиной к мальчику и стянула рубаху через голову. Дэниел внимательно смотрел на нее. Спина и бедра Долли были густо покрыты татуировками, трусы разорваны и в крови.
— У мамы тоже есть, — сказал он.
— Что есть?
— Тату. Только маленькая.
— И не очень хорошая, — добавила Эннели от печи. — Я ее сама наколола.
— Видно, несладко тебе пришлось, если сама взялась.
— Да, несладко.
— А рисунок какой? Цветок, зверь, имя любовника?
— Крест.
— Ни за что не подумала бы, — с легким разочарованием отозвалась гостья.
— Нет, это не имеет отношения к религии. Там искривленный крест. Меня пытались унизить.
— Меня тоже, детка, — сочувственно кивнула Долли. — А теперь еще и в задницу всадили дробь. Как там вода, поспевает?
— Скоро закипит.
— Тебе очень больно? — спросил Дэниел.
Долли повернула к нему голову, тяжелые груди качнулись.
— Болит, но не сильно. Такая, знаешь, ноющая боль.
— Я один раз попал по ноге топором. Не острым концом, другим. Было ужасно больно.
— Да уж, я представляю.
— И я так плакал…
— Я бы тоже плакала.
— Но сейчас же не плачешь.
— Подожди, заплачу через пару минут.
— Правильно, — важно кивнул Дэниел. — Ты плачь, так быстрее пройдет.
Когда вода вскипела, Долли, морщась, стянула трусы и легла на постель. Поперек левой ягодицы шла узкая красная борозда с неровными краями.
— На вид вовсе не так уж плохо, — сказала Эннели, осмотрев рану. — Но тату, похоже, пропала.
— Моя вишенка! — простонала Долли.
— Вишенка! — хихикнула Эннели.
— Она у меня самая первая, самая любимая. Такая, знаешь, перчинка, она мне всегда прибавляла задору…
Эннели приложила мокрое полотенце к ране, и круглые ягодицы судорожно сжались. Дэниел смотрел во все глаза.
— Где тебе ее сделали? — спросила Эннели, чтобы отвлечь Долли.
— Когда лезла через стену, — промычала Долли сквозь зубы. — Представляешь, даже не с вышки пальнули, один сучий боров во дворе.
— Да нет, я про тату.
— А. Я ее сделала примерно в твоем возрасте. В Оклахоме.
— Ты там родилась?
— Ага. Рядом с Карвером, внизу, на юго-востоке. В тридцатых годах там и закона-то толком не было. Никогда не забуду, как в первый наш школьный день учитель сказал: «Если когда-нибудь вы прибежите ко мне и скажете, что кто-то себя плохо ведет, ему достанется по заслугам, но и вас я буду пороть, пока рука поднимается. Потому что есть только один проступок, который я не могу вынести, — доносительство». Это были такие места… — Долли снова вздрогнула и замолчала, почувствовав прикосновение полотенца к ране.
— Ну что ж, стебелек и два листочка остались, — сказала Эннели, продолжая вытирать кровь.
— У моей подруги, Дорис Кинкейд, была поговорка такая — если кто-то сорвал твою ягодку, не беда, главное, чтоб косточка при тебе осталась.
— Чем ты занималась у себя в Карвере?
— Большей частью грабила банки. Работала с первой в стране бандой на мотоциклах, может, слышала — Банда Вермильон. Настоящий класс. Мы тогда были как семья. Сейчас такое уже не встретишь. Сейчас байкеры сплошь дуболомы. Все на наркоте, ходят опустившиеся, нестираные, бьют слабых и ведут себя идиотски — большинство просто дефективные. Как они обращаются со своими девушками! Так ни с кем нельзя себя вести, если хочешь иметь хоть какой-то класс.
— Что такое «вермильон»? — спросил Дэниел.
— Красный цвет, — ответила Эннели.
Долли подняла голову и повернулась к мальчику.
— У нас были такие длинные алые шарфы. Хорошо смотрелись!
— Вы кого-нибудь убивали?
— Сейчас я наложу мазь с антибиотиком, — перебила его Эннели, — все равно у нас больше ничего нет, а сверху сделаю чистую повязку. Идет?
— Отлично, доктор.
— Вы кого-нибудь убивали? — нетерпеливо повторил мальчик.
— Черт возьми, Дэниел! — воскликнула Эннели. — Не лезь под руку, не видишь, мы обрабатываем рану!
— Что ж, вопрос честный, — голос у Долли был скорее усталый, чем раздраженный. — Мы были грабители, Дэниел, но не убийцы. Пистолеты носили, конечно, только никогда не заряжали их. С некоторыми субчиками пришлось разделаться, хотя нам такое всегда было противно. Мы старались никому не причинять вреда, считали делом чести. Это мой парень придумал никогда не заряжать пистолеты.
— А сейчас он где?
— Умер. Разбился на обледенелой дороге.
Дэниел замолчал. Эннели отрезала две полоски пластыря и закрепила повязку.
— Вот так. Я не доктор, конечно, но думаю, ты выживешь.
— Постараюсь, — промычала Долли в подушку.
— Пойду найду тебе трусы, чтоб повязка лучше держалась, — Эннели погладила Долли по здоровой ягодице и пошла к комоду.
Дэниел подошел к кровати, положил ладошку на спину Долли и тоже ласково погладил ее. Долли высунула нос из подушки, улыбнулась ему. На глаза ей наворачивались слезы.
— Черт, ты просто нечто, — всхлипнула она и тихо заплакала.
Утром, когда они сели завтракать, над домом пролетел маленький голубой самолет.
— Это по мою душу, — сказала Долли. — Должен что-нибудь выбросить на следующем витке.
Эннели вышла на улицу. Впереди скакал Дэниел. Прикрыв глаза от низкого утреннего солнца, они смотрели, как самолет медленно накренился влево и снова пролетел над землей. Из него выпала серебристая коробочка — попрыгала вдоль дороги, покатилась и наконец замерла рядом с автомобилем.
— Классно прицелился! — воскликнул Дэниел. Эннели подняла коробочку и протянула ему.
— Отнеси домой, отдай Долли.
В кухне они вместе прочли записку: «Т1У1142400. Пляж. Пешком. Без М».
— Надеюсь, ты понимаешь, о чем речь, — сказала Эннели. — У меня нет ключа к этому шифру.
— Трасса 1, указатель 114, в 24 часа ровно, — расшифровала Долли. — То есть в полночь. Встреча на пляже. Прийти пешком. «Без М» значит «без машин». Далеко пляж отсюда?
— Мили две, самое большее час идти. Тут есть старая тропинка. Но она только до трассы. Как расположены указатели, я не знаю.
— Сто четырнадцатый наверняка рядом с тропинкой. Думаю, мне лучше выйти в десять. У тебя есть лишний фонарик?
— Я с тобой прогуляюсь. Мы часто туда ходим — за рыбой и морскими ушками.
Долли посмотрела на Дэниела.
— Я понесу его, — сказала Эннели. — В специальной детской переноске, вроде рюкзачка.
— Так здорово! — сказал мальчик.
— Нет, в самом деле, не стоит. Если кого-то поймают со мной в последнюю минуту…
— Я ничего не расскажу! — с жаром убеждал ее Дэниел. — Никогда, никогда!
Рассмеявшись, Долли взъерошила ему волосы.
— В этом я не сомневалась. У тебя такое лицо, парень, что ты никогда не сможешь его уронить. Но я не хочу, чтобы вас взяли в заложники.
— Что значит «в заложники»?
— Полиция схватит, чтобы обменять вас на меня.
— Я не буду меняться, — решительно сказал Дэниел.
— А я буду. Поэтому вы с мамой остаетесь здесь.
Долли ушла без пяти десять. Эннели с Дэниелом проводили ее до конца сада, где начиналась тропинка. Она взяла с собой старую сумку, где лежали сэндвич, остаток марлевых повязок, запасные батарейки и лампочка для фонарика. У последних деревьев Долли подняла Дэниела на руки, покружила, словно вальсируя. Быстро обнялась с Эннели.
— Спасибо за помощь, за теплый прием. Вы классные, вы оба настоящие люди, — Долли глубоко вдохнула ночной октябрьский воздух. — Черт, — вздохнула она, — как же это здорово — быть свободной!
— Так держать. Продолжай в том же духе! — сказала Эннели.
Взявшись за руки, они с Дэниелом смотрели, как Долли, слегка прихрамывая, спускается по тропинке к пляжу.
Вскоре после пятого дня рождения Дэниела Эннели посадила его рядом и рассказала о школе, стараясь как можно лучше объяснить ее преимущества и недостатки. Выбор она предоставила сыну. Он думал всего секунду.
— Не, — сказал Дэниел, — фигня эта школа.
Однако, оставшись без общего образования, он рос вовсе не похожим на неуча. Эннели, которая сама была прекрасной ученицей, пока не потеряла родителей, к пяти годам уже научила его читать. Приезжая в город за покупками, они много времени проводили в библиотеке, где Дэниел выбирал книги для чтения — и всегда хотел точно знать, когда они приедут за следующей порцией. Читал он много, но бессистемно, устойчивый интерес сохранялся только к животным и звездам. В девять лет Дэниел попросил большой цветной плакат с туманностью Конская Голова. Под этим плакатом он проводил иногда целые дни, читая Эннели лекции о природе и загадках газо-пылевых образований. Она еще ни разу не видела его таким увлеченным.
— Спорим, я знаю, почему тебе так нравится Конская Голова? — спросила она.
— На что спорим?
Эннели заключала пари, только желая понять, о чем думает сын. Дэниелу нравились игровые ситуации.
— Кто проиграет, моет вечером посуду.
— Идет. Почему она мне так нравится?
— Потому что она очень красивая.
— Не-а.
— Тогда почему?
— Мне нравится Конская Голова, — сказал он, — потому что она такая огромная, что больше нее я уже ничего не могу себе представить.
— Именно это я имела в виду, когда сказала «очень красивая», — слукавила Эннели.
— Неправда, — заявил мальчик, — раз так, тебе мыть тарелки еще и после завтрака — за то, что хотела сжульничать.
Как большинство учителей, Эннели училась вместе со своим подопечным. Каждый Новый год они выбирали какой-нибудь предмет, который будут изучать. В один год горы и камни, в другой — хищные птицы. Год, посвященный метеорологии, был самым интересным. Каждый вечер они клали в кувшин запечатанные бумажки с прогнозами на завтра, а на следующий день после обеда доставали их и читали, будто предсказания в печеньях. Сравнительная точность прогнозов и метеорологические данные за день отмечались в специальной таблице, которая к зимнему солнцестоянию занимала целую стену. На следующий Новый год, за несколько минут до полуночи, они торжественно сняли ее, скатали в рулон, перевязали голубой ленточкой и положили на хранение в футляр для удочек — как ценный свиток.
Самым сложным для обоих был растительный мир. Дэниел с Эннели старались как могли, но предмет оказался слишком обширным. Стол в большой комнате был завален образцами растений и потрепанными справочниками. Освоить полевые цветы и деревья оказалось довольно просто, гораздо труднее было с грибками, а с травами просто завал.
Как ни странно, отсутствие школьных занятий дало Дэниелу возможность учиться у самых разных учителей. Не все гости «надежного дома» хотели внести свой вклад в образование мальчика, но почти никто не мог устоять перед его любопытством и сообразительностью.
С Энни Крэшоу, известной специалисткой по подделке документов, он изучал каллиграфию. Сандра XY, богиня революций, учила его тонкому искусству смуты и устройства переворотов, всегда подчеркивая важность анализа системы в целом, поиска уязвимых мест, понимания взаимосвязей между элементами. Тонкость ее искусства была следствием приверженности к ненасильственным методам. Дэниел не вполне разделял это убеждение. Насилие он видел только в природе, и оно не вызывало у него ни восторга, ни отторжения. Насилие — просто часть жизни. «Правильно, — сказала Сандра, когда он стал настаивать на этом, — но до тех пор, пока ты питаешься теми, кого убиваешь».
У Бобби Фантмана, или Бум-Бума, Дэниел брал уроки механики и инженерного проектирования. Сам Бум-Бум освоил эту науку как необходимое приложение к взрывотехнике, ради точности и эффективности. Он знал, что говорил — одним брикетом динамита Бум-Бум мог причинить больший урон, чем целая эскадрилья бомбардировщиков В-52. «Дело не в мощности заряда, — без конца повторял он Дэниелу, — дело в том, куда ты его подложишь!»
Уроки Бум-Бума продолжил юный поэт Энди Хоукинз, бежавший от призыва в армию. Он познакомил Дэниела с японской поэзией, с мимолетной плотностью хайку. Частенько занятия срывались из-за отсутствия учителя, который был в постели с матерью ученика. Эннели соблазнила юного Энди уже через три минуты после того, как он ступил на порог. Раньше она ни с кем из гостей не спала. Впервые услышав от мамы: «Спокойной ночи, мой сладкий, я буду спать с Энди в гостевом доме», Дэниел был поражен, испуган, обижен, охвачен ревностью, совершенно сбит с толку и все-таки восхищен счастьем в глазах матери.
Любимым учителем Дэниела из всех гостей «надежного дома» — а их было около сорока — стал Джонни Семь Лун. Он был ближе всех к роли отца. И единственный из гостей, кто приезжал потом просто так. Более отчаянные сорвиголовы тоже возвращались, но по делу, время от времени выскакивая из кипятка опасности в прохладу сонного провинциального уюта — вечная смена температур.
Семь Лун был старый помоанский индеец, истово веривший, что взрывать плотины — одно из высших духовных удовольствий, доступных человеку. В начале марта, перед седьмым своим днем рождения, Дэниел вышел утром покормить кур и обнаружил Джонни Семь Лун — тот сидел на крыльце с таким умиротворенным и самодостаточным видом, словно материализовался из рассветных лучей. Для обоих это была любовь с первого взгляда.
Говорят, у великих учителей не бывает отдельного предмета, — и это целиком и полностью относилось к Джонни Семь Лун. Как и другой педагогический принцип — «великие учителя никого не учат». Семь Лун просто делал что-нибудь вместе с Дэниелом. Мастерил лук и стрелы, ставил верши на рыбу, красил гостевой дом, собирал грибы, готовил и убирал, занимался тем, чего требовали ежедневные нужды или ненасытное мальчишеское любопытство. Как и для Эннели, Дэниел был для него скорее товарищем, чем подопечным. Сначала мальчик был разочарован тем, что Семь Лун не учит его разным индейским штучкам. «Я и сам не слишком много знаю, — объяснил Семь Лун, — потому что ходил в обычные миссионерские школы». Служба в армии научила его разрушать и уничтожать, после демобилизации он применял свои армейские навыки к искусственным водным преградам вроде плотин, дамб, оросительных каналов и акведуков, за что отсидел в тюрьме. «Но ты не волнуйся, — сказал он Дэниелу, — об индейцах я кое-что знаю. У меня индейский склад ума, не хватает только кое-каких деталей».
Если было солнечно, Дэниел и Семь Лун чем-нибудь занимались на воздухе. Дождливые дни посвящались марафонским шахматным турнирам. Фигурки Семь Лун вырезал из лосиного рога, белые были сделаны в виде ковбоев, а красно-коричневые — индейцев. Семь Лун заявил, что в индейских шахматах темные фигурки всегда ходят первыми и ими могут играть только настоящие индейцы, хотя для Дэниела было сделано великодушное исключение. Семь Лун играл искусно, никогда не поддаваясь. Он использовал каждую ошибку противника и каждый раз, когда Дэниел промахивался, издавал радостный клич.
Самый памятный урок Семь Лун дал Дэниелу и Эннели одним теплым майским днем. Все трое драили кладовку для продуктов (пункт номер девять в списке весенних дел), когда небо внезапно скрылось за кучевыми облаками. Через минуту пошел дождь. Джонни Семь Лун вышел на крыльцо, сделал глубокий вдох и начал стаскивать одежду. Эннели с Дэниелом обменялись недоуменными взглядами.
— Ты купаться собрался? — пошутил Дэниел.
— Нет, — Семь Лун стянул джинсы и бросил их в сторону. — Иду гулять под теплым весенним дождем. Хотите, давайте со мной. Гулять под теплым весенним дождем в чем мать родила — одно из высших духовных удовольствий, доступных человеку.
Эннели уже расстегивала джинсы, но Дэниел все-таки спросил:
— Даже лучше, чем взрывать плотины?
Семь Лун прикрыл глаза и тут же открыл.
— Трудно сказать. Думаю, примерно одинаково. Понимаешь, если бы я не взрывал плотины, не давал рекам течь так, как они должны течь, довольно скоро у нас не стало бы теплых весенних дождей, под которыми можно гулять голышом.
Это было потрясающе. Взявшись за руки с Дэниелом посередине, они прошли голышом по лугу и забрались на холм с дубом, где, мокрые, спели светлеющему небу «Старушку Миссисипи». Через несколько минут вышло солнце. Когда они вернулись к дому сквозь струйки пара, поднимающиеся от мокрой травы, то уже совсем высохли, только волосы и ступни были влажные.
Эннели и Дэниел часто вспоминали эту прогулку под дождем с Семь Лун, но никогда не говорили о самых глубоких своих впечатлениях. Эннели ошеломила щекотка барабанящих по коже капель — она даже испугалась, что сейчас кончит, упадет в сладких судорогах на мокрую траву. Приходилось сдерживаться. Было трудно отвлечь внимание от своего тела, посмотреть на Дэниела и Семь Лун, хотя это тоже была большая радость.
А Дэниел вспоминал те секунды, когда они начали взбираться на холм — он смотрел на маму, такую красивую, всю блестящую от дождя, и на Джонни Семь Лун, сильного, храброго и мудрого. Дэниел держался за их большие ладони, а дождь падал на плечи, на спину, и секунду весь мир казался Дэниелу совершенством.
И оба помнили, что сказал Джонни Семь Лун, когда они поднялись на вершину холма, хотя никогда не говорили об этом. Он запрокинул голову и выдохнул:
— О-оо, взрывать плотины — это огромный, гигантский, величайший долг! — И рассмеялся, как дурачок, эхо прокатилось по лугу и растворилось в шуме дождя. Потом сжал руку Дэниела и улыбнулся Эннели. — Только в такие минуты я бываю рад, что мы все умрем.
В первый свой приезд Семь Лун жил у них больше полугода, а потом приезжал три-четыре раза в году на неделю или две. Когда он пропал на целых восемь месяцев, Дэниел забеспокоился.
Прошел еще месяц, приехал на Рождество Улыбчивый Джек, и Дэниел спросил, не попал ли Семь Лун еще раз в тюрьму. Улыбчивый Джек ничего об этом не знал, но обещал выяснить, как только сможет. Только это может быть не скоро, предупредил он Дэниела, — Семь Лун странствует где хочет, без адреса и телефона. Дэниел и не ждал быстрого ответа, зная, что чудовищные опоздания Улыбчивого Джека были следствием его характера. Однако через неделю после его отъезда, когда они выбрались в город за продуктами, в почтовом ящике оказалось письмо. Улыбчивый Джек сообщал, что Семь Лун живет в Индонезии, ухаживая за матерью — та серьезно болела, теперь ей лучше, но Семь Лун вряд ли сможет навестить их до осени. Дэниел почему-то решил, что больше никогда не увидит Семь Лун. Эннели, встревоженная его внезапной хандрой, вскоре упросила сына поделиться тайной тревогой и предложила ему самому весной навестить Семь Лун.
Она была рада помочь Дэниелу устроить эту поездку, надеясь, что он прогостит у друга все лето. Если Семь Лун согласится, она попросит Улыбчивого Джека дать ей три месяца каникул. Ей нужно было отдохнуть. Забота о надежном доме никогда не была в тягость Эннели, но постепенно превращалась в рутину. Дэниел с его невероятной жаждой знания и действия очень радовал ее, однако и утомлял не меньше. Чем реже приезжали гости, тем труднее ей становилось находить время для себя, поддерживать собственный внутренний ритм, ощущать себя собой. Особенно беспокоил Эннели недавний прилив чувственного влечения к сыну. То ли это был просто единственный выход для возросшей после прогулки под дождем чувственности, то ли какая-то особенная черта их отношений, а может быть, так бывает со всеми матерями, у которых есть сыновья в подростковом возрасте, в этом облаке превращения из мальчика в мужчину. Дэниел был высокий долговязый мальчишка, голубоглазый и жизнерадостный, но это не помогало. Недавно Эннели увидела его голым. Это зрелище взволновало и смутило ее. Эннели знала, что никогда не даст волю желанию, и ее беспокоил не страх поддаться ему, а постоянное напряжение, необходимость все время сдерживать себя. Она так хотела отправить сына к Семь Лун, что оставила Улыбчивому Джеку телефонное сообщение с просьбой связаться с ней как можно скорее.
Могла бы и не оставлять. Вечером, когда они с Дэниелом вернулись из Сан-Франциско, Улыбчивый Джек уже улыбался им из-за кухонного стола. С ним был новый гость, первый, кого Джек привез лично, — красивый мужчина лет тридцати пяти по имени Шеймус Мэллой. И все тотчас же изменилось.
Шеймус Мэллой был профессиональный контрабандист, алхимик-металлург, вор-новатор и — боже ты мой — поэт с далеко не скромными достижениями. При своих шести футах двух дюймах он был чуть выше Эннели и на десять лет старше. Непослушные волосы песочного цвета, ярко-голубые глаза с прямым открытым взглядом, звучный баритон, ласкающий длинные гласные и слегка катающий «р». Была в его привлекательном облике и одна необычная деталь — черная перчатка на левой руке.
Эннели он сразил.
Дэниела заинтересовал и немного испугал своей таинственной притягательностью, но не настолько, чтобы прогнать любопытство насчет черной перчатки. Эннели не раз говорила ему: если ты хочешь что-то узнать, не бойся спросить, но сейчас он видел по ее поведению — откровенно глупому — что прямой вопрос про перчатку ее расстроит. Надо быть умнее. Дэниел дождался, когда Улыбчивый Джек вышел, а Эннели, без конца отбрасывая волосы с лица, ушла на кухню готовить чай, который никогда не пила. Тогда он как бы между прочим спросил Шеймуса:
— Вы давно увлекаетесь соколиной охотой?
И тут же пожалел об этом. В него уперся твердый прямой взгляд пронзительных голубых глаз. На кухне засвистел чайник, сперва тоненько, словно чей-то дух в дымоходе, потом все громче, переходя в резкий свист. Повисла неловкая пауза.
— Дэниел, ты о чем? — спросил Шеймус. Тон был вполне доброжелательный, но в нем слышались раздраженные, вызывающие нотки.
— О соколах, — Дэниел знал, что Эннели их слушает. — Мы с мамой целый год изучали хищных птиц. Этот класс так и называется — raptors, хищники. Интересное слово, да? Похоже на «восхищение».
Не сработало.
— Да, слово забавное. От латинского raptor, что значит «похититель», происходит из корня rapto, «хватать». Оттуда пошли слова rapt и rape, «восхищение» и «насилие», два разных типа захвата — один участник охоты охвачен радостью, другой подвергается нападению. Но скажи мне, Дэниел, какое отношение этот этимологический экскурс имеет к моей соколиной охоте?
Из кухни вернулась Эннели с чаем. Чашки уже стояли на блюдцах. Дэниел явно влип.
— Ну, — сказал он, изображая детскую непосредственность, — это же перчатка для охотничьего сокола, разве нет?
— Нет, Дэниел, — голос Шеймуса стал холодным и ровным, как замерзшее озеро. — Перчатку я ношу, потому что рука изуродована. Шрамы от ожогов.
— Как вы ее обожгли?
— Опрокинул колбу с расплавленным серебром.
— Вы всегда ее носите?
— Да. Без перчатки она вызывает у людей нездоровое любопытство, а потом отвращение или жалость — куда более отвратительную, чем мои шрамы.
— А вы ее снимаете, когда…
— Дэниел! — взвилась Эннели. — Хватит. Начал с бестактных вопросов, теперь прямая грубость…
Дэниел снова вернулся к невинному тону, в котором звучал теперь испуг и раскаяние.
— Я вам нагрубил?
— Да, нагрубил. Но, по-моему, скорее из-за неумеренной любознательности, а не душевной черствости.
— Обязательно ему надо все знать, — улыбнулась Эннели, и Дэниел с облегчением понял, что она не сердится.
— Простите, — сказал он Шеймусу. — Семь Лун говорил мне: трудно угадать, когда лучше высунуться со своим интересом.
Шеймус улыбнулся. В свете лампы блеснули голубые глаза.
— Изящные извинения с радостью приняты, — он протянул мальчику раскрытую ладонь в перчатке. — Пойми, Дэниел. Рука у меня вся в уродливых шрамах. Черная перчатка производит впечатление чего-то таинственного. Лучше вызывать любопытство, чем ужас в людских глазах, в сердце, в душе. Это мой выбор. Если ты не уважаешь его, ты мне не друг.
— А может, лучше было бы видеть эти шрамы, чем представлять, как они могут выглядеть?
— Может быть. Но я с этим не согласен, и я сделал свой выбор.
— Что ж, так тому и быть, — кивнул Дэниел.
В тот первый вечер они засиделись, слушая рассказ Шеймуса о благородных металлах — как и где они добываются, как обрабатываются, какие у них цвета, структура, свойства, ковкость и температура плавления, какую важную роль они играют в развитии человеческого разума, — и об их необыкновенной, неотъемлемой чистоте, буквально первозданной. И Дэниела, и Эннели увлекли его яркие красноречивые описания, хотя вместе с восхищением азарт Шеймуса вызывал у них и смутную тревогу — перед ними было нечто среднее между благоговением и одержимостью.
Когда Шеймус ушел ночевать в гостевой домик, Эннели принялась чистить зубы, а Дэниел спросил:
— Он тебе понравился, да?
Она прополоскала рот.
— Да. Невероятно притягательный мужчина.
— Я так и думал.
— Почему тебе так показалось?
— Из-за черной перчатки.
Эннели рассмеялась.
— Скорее из-за синих глаз.
— Да, но и из-за перчатки тоже.
— Красивый, чуткий, образованный, яркая личность, от которой веет таинственностью и опасностью — да, он меня зацепил.
Минуту Дэниел думал.
— Тогда не надо так странно себя вести, а то ты ему разонравишься.
— Видно со стороны, да?
— Мне видно. Я же знаю, какая ты на самом деле.
Эннели вдруг посерьезнела.
— Хотела бы я знать, какая я на самом деле. Вот что мне действительно нужно знать, вот чего мне так не хватало весь последний год. Мне нужна какая-то тайна, опасная тайна, красивые незнакомцы с темным прошлым. Я так сумбурно говорю, не знаю, понимаешь ли ты.
— Не совсем. Но неважно. Это твой выбор.
Эннели обняла его.
— Дэниел, — торжественно провозгласила она, — ты моя радость!
На следующий день, сказав сыну, что Шеймус пригласил ее в гостевой домик побеседовать об алхимических свойствах металлов и что вернется она, наверное, поздно, Эннели танцующим шагом выскользнула за дверь. Утром, когда она вплыла обратно, Дэниел варил овсянку.
— О нет! — схватилась за голову Эннели. — Не мать, а ехидна — ребенок голодает, а она где-то резвится всю ночь.
— Ого, — сказал Дэниел, — ты прямо сияешь. Видно, вы и правда хорошо порезвились.
— Ага. Мы построили замок, а потом сожгли.
— И вы занимались любовью?
— Еще как. Дико и нежно, жгуче и ласково. В один порыв, в одно дыхание.
Дэниел кивнул, не очень понимая мать, но видя, что она счастлива. Как только Эннели умолкла, он быстро вставил:
— Можно тебя кое о чем спросить?
— Конечно, — но кивок был несколько нервным.
— Он снял перчатку?
— Нет.
— Странно, — задумчиво протянул мальчик. — Можно еще вопрос, может быть, грубый?
— Валяй, — теперь она почти сдалась и уже не нервничала.
— А ты не просила ее снять?
— Нет.
— Он тебе очень нравится, да, мам?
— С каждым днем все больше и больше, — улыбнулась она.
И с каждой ночью тоже. Как только была вымыта посуда после ужина, Эннели с Шеймусом исчезали, а возвращались почти в полдень. Дэниел не жаловался на недостаток внимания, он был рад счастью матери. Правда, ему до сих пор было не по себе из-за черной перчатки, и порой он не понимал, отчего больше уважает гостя — от восхищения или смутного страха. Но Шеймус действительно ему нравился. И стал нравиться еще больше, когда в Эннели появилась задорная игривость, о которой Дэниел даже не подозревал. Эннели, наоборот, беспокоилась, что сын чувствует себя брошенным, и после пятой ночи страстного неистовства предложила Шеймусу провести вечер с Дэниелом.
— Да, так будет лучше, — ответил Шеймус, уткнувшись носом ей в плечо. — А то я не переживу этот отпуск, который собирался посвятить созерцательному безделью.
На следующий день после ужина Шеймус присоединился к занятиям по временно заброшенному предмету, который Эннели с Дэниелом выбрали в этом году. Предмет был весьма обширный — «Американская история и культура», или, как выражался Дэниел, «Жизнь в стародавние времена». Книга для чтения, «Приключения Гекльберри Финна», была только начата. Все по очереди читали вслух, после каждой сцены останавливались, задавали вопросы и обсуждали прочитанное. Шеймус даже что-то записывал в красный блокнот, лежавший у него в портфеле. Портфель, как и перчатка, был всегда при нем.
Прочитав очередную свою порцию, Шеймус поинтересовался, предусмотрен ли в этой школе перерыв, чтобы он мог просмотреть свои записи.
— Хорошая мысль, — сказала Эннели, — уже есть хочется. Ребят, хотите поп-корна?
— Мне две порции, — сказал Дэниел. — Я сам растоплю масло.
— Давай, — Эннели встала, опершись о колено Шеймуса.
— Только мне сначала надо в туалет.
— Иди. Никогда не сопротивляйся зову природы, это перегружает органы.
— Твоя мать мудрая женщина, — сказал мальчику Шеймус, глядя на Эннели.
Дэниел вышел и почти сразу же вернулся.
— Эй, там вертолет!
— Черт! — прошипел Шеймус, засовывая блокнот в портфель и, как по волшебству, доставая оттуда кольт. — Уходим, — спокойно сказал он. — Прямо сейчас, или нам конец.
Дэниел сорвал с вешалки куртку. Путаясь в рукавах, он смахнул со стола керосиновую лампу. Стекло разлетелось, вспыхнуло пламя.
— Пошли! — скомандовал Шеймус, толкая его к двери. Эннели схватила его за руку, когда она понеслись по тропинке вниз, к лугу. Вертолет стрекотал все громче, миновав гребень холмов. Перебежав луг, они нырнули вниз и пошли по оврагу с ручьем на дне, мелким, но холодным до онемения. Вертолет теперь шумел совсем близко, пульсирующие механические толчки были похожи на сердцебиение гигантской обезумевшей саранчи. Беглецы направились вниз, к Саут-Форк, прокладывая себе дорогу в зарослях крыжовника, папоротника и красного дерева — впереди Эннели, в арьергарде Шеймус, между ними Дэниел.
В устье ручья они на минуту остановились передохнуть.
— На берег? — выдохнул Шеймус, Эннели кивнула, оба схватили Дэниела за руки и прямо по скользким камням перешли устье мелкого, холодного и быстрого ручья. Через несколько секунд они уже карабкались по крутому восточному склону Сивью-Ридж. Дэниелу казалось, что кожа и горит и леденеет одновременно. Не в силах ни думать, ни дышать, падая и снова поднимаясь, он забрался наверх.
На гребне Сивью-Ридж они прижались к стволу старого изогнутого лавра, хватая ртом воздух. Через овраг было видно, как горит их дом, затмевая свет звезд. Вокруг пожара мигали красными огоньками шесть или семь полицейских машин. Эннели всхлипнула, все еще задыхаясь от быстрого бега, и заплакала. Шеймус прижал ее к себе.
— Все к лучшему. Пусть им достанется только пепел. Вам уже все равно не вернуться туда.
Она хотела ударить его, собрав весь страх, гнев и горе. Но Шеймус почувствовал, что она замахивается, и подставил руку. Секунду он сжимал ее кулак в ладони, потом прижал к груди, разворачивая Эннели лицом к себе.
— Прости. Я обидел тебя, хоть и сказал правду. Сказал, не подумав. Я забыл, что это ваш дом, ваша жизнь. Я сделаю все, чтобы такое никогда не повторилось. Твоя жизнь — и Дэниела тоже — очень много для меня значит.
Эннели измученно вздохнула и вытерла слезы.
— У нас есть время плакать?
— По законам выживания — нет, по законам любви — целая вечность.
— Мам, — спросил Дэниел, — как ты думаешь, а когда человек умрет, он по-прежнему может любить?
Просто невинный вопрос или нет?
— Не знаю, — сказала она.
— Надо добраться до ближайшего кафе, бара или мотеля, — сказал Шеймус. — Так, чтобы нас не видели.
— Три мили к югу, — кивнула Эннели, — и довольно трудоемких.
— Хватит тебя еще на три мили? — спросил Дэниела Шеймус.
— Вроде да.
— Тогда исчезаем.
Почти милю они шли по вершине холма, потом спустились наискосок, пока не стали видны огни редких машин на шоссе. Еще полмили шли параллельно дороге, прячась за деревьями. Потом резко спустились на автостоянку у гостиницы, Шеймус замкнул провода у чьей-то «импалы», чтобы завести ее без ключа, и они поехали к Сан-Франциско, на полную мощность включив обогреватель.
Шеймус остановился у заправочной станции в Санта-Роза, куда-то позвонил из автомата, потом повернул на юг и привез их в ремонтную мастерскую на окраине Сан-Рафаэль. Там он представил их Хосе и Марии Консепсьон. Хосе отогнал «импалу» к ремонтной яме для срочного демонтажа, а Мария посадила их в старый фургон «шевроле» и мигом примчала через мост «Золотые ворота» в район Мишн, в свою уютную квартирку. Там взамен грязной промокшей одежды они получили роскошные махровые халаты из отеля, где Мария служила горничной, и густой острый суп менудо на ужин.
Утром, когда они проснулись, пришел Хосе с чемоданом вещей для них. Все трое оделись, Хосе отвез их на полевой аэродром близ Сакраменто и передал летчику, который переправил их на стареньком самолете «Бичкрафт» в Солт-Лейк-Сити, по дороге развлекая Дэниела рассказами о Второй Мировой, о воздушных драках в облаках над Францией.
На посадочной полосе недалеко от Большого Соленого озера их уже ждал высокий худощавый человек с ястребиным лицом. Он вручил Шеймусу и Эннели (теперь Джеймсу и Мейбеллин Уайетт) водительские права, кредитные карты, четыре тысячи долларов наличными и «бьюик-71», зарегистрированный на миссис Уайетт. Встречающий сказал, что им следует ехать в Дубьюк, штат Айова, и позвонить по условленному номеру. Только в «бьюике», мчась на восток и оставшись наконец без посторонних, все трое постепенно пришли в себя. Шеймус стал объяснять, что, по его мнению, происходит.
Три недели назад, после восемнадцати месяцев тщательной подготовки, он сделал попытку украсть уран-235 с химического завода в Теннесси. Прорезав дыру в проволочном заграждении, Шеймус скользнул в нее, но неожиданно оказавшийся поблизости охранник крикнул: «Стой!» Пока он доставал пистолет, Шеймус ударил его рукояткой фонарика. Это бы еще ничего, но выстрел поднял общую тревогу. Луч прожектора пригвоздил Шеймуса к земле. Пистолет охранника удалось выбить и за секунду до начала стрельбы достать свой собственный. Шеймус выстрелил в прожектор, промахнулся, понял, что в перестрелке у него шансов нет, перекатился влево — справа пыль взвихрило автоматной очередью — еще раз перекатился и бросился бежать. Поднимая за собой для прикрытия тучу пыли, Шеймус добрался до ближайшего здания.
Дважды подряд ему улыбнулась удача. Первый раз это была пуля, едва не задевшая нижнюю губу — пролетела так близко, что обожгла ее, но даже не порвала кожу. Вторым подарком судьбы стал помятый старик, направлявшийся к автостоянке. На прожектора и перестрелку он не обращал никакого внимания, настолько был в своих мыслях, что, когда Шеймус приставил к его затылку пистолет со словами: «За руль и газу!», лишь изумленно обернулся и спросил: «Какую вазу?»
Удачей был не только взятие заложника, пусть и такого чокнутого. Старик, в чьей машине Шеймус проехал через главные ворота завода, был Герхард фон Тракль, один из первых физиков-ядерщиков в Америке, отец-основатель науки о делении ядра. Шеймус, однако, собирался удерживать его только до тех пор, пока не доберется до своей машины — первой из трех, которые он собирался сменить во время бегства.
К величайшему удивлению беглеца, фон Тракль попросил взять его с собой. Он сказал, что стал практически узником американского правительства и его больше не интересует работа, которую оно ему навязывает. Он давно хотел исследовать другую сторону уравнения — переход энергии в массу, и в конечном счете, как он предполагал, исчезновение различий между ними. «Доверю вам один секрет, — сказал он Шеймусу, — в своей научной карьере я сделал одну принципиальную ошибку. Я считал вселенную механизмом, а она — мысль».
Шеймус был счастлив узнать, что самый выдающийся физик страны в душе тоже алхимик, но было ясно — поиски не прекратятся, пока ученого не вернут. Фон Тракль, однако, упорно отказывался от освобождения, и Шеймус его позицию уважал.
В конце концов Шеймус пошел на компромисс. Меняя автомобиль в первый раз, он взял фон Тракля с собой, но за милю до второй смены притормозил и вытолкнул старика на пустую дорогу. Пообещав фон Траклю, что оставит ему машину мили через полторы, Шеймус пожелал удачи в новом исследовании, поблагодарил за компанию и газанул, прежде чем ученый успел ответить.
Проехав милю, он сменил машину на грязный мопед, припрятанный в кустах за день до операции. Въехал на вершину холма, выключил двигатель и плавно спустился подлинному пологому склону в Кун-крик-вэлли. Потом оставил мопед в густых зарослях орешника, прикрыв защитной сеткой, которую стянул с побитого «пикапа», оставленного там на неделе. Но как только Шеймус взялся за ручку дверцы, чей-то уверенный голос за спиной произнес:
— Конечно, дело не мое, но провалиться мне на этом месте, если они не перекроют дорогу на выезде из долины, пока ты дотрюхаешь до ближайшего бара. Уж лучше поехать со стариной Сайласом Голдином. Местные копы почти все росли пацанами вместе со мной, мы до сих пор ладим, и они знают за мной привычку ездить в ночное время на водохранилище, ловить на хлебные шарики всякую мелюзгу. И в машине есть для тебя хорошее место.
Так Шеймус проехал через дорожный пост, скрючившись в ящике под задним сиденьем пыльного «паккарда», пока Сайлас толковал с помощником шерифа о разрешении охоты на индеек уже в начале следующего месяца, чтобы поднять доходы местной ассоциации фермеров. На водохранилище в старой лодчонке их ждал брат Сайласа, который перевез Шеймуса на другой берег и передал еще одному Голдину. Тот посадил беглеца в прицеп грузовичка, запер дверь и за ночь привез его на полевой аэродром рядом с Нэшвиллем. Потом был перелет через всю страну с двадцатью дозаправочными посадками, и наконец приземление в Камминз-флэт, где его встретил Улыбчивый Джек. До ранчо Четыре Двойки оттуда было всего две мили.
Сперва это казалось невероятным, но Герхарду фон Траклю, видимо, тоже удалось бежать. Удача старика безмерно обрадовала Шеймуса, хоть и несла ему самому серьезные неприятности. К несчастью, полиция решила, что растяпа-ученый все еще у него в заложниках, и подняла общую тревогу — насколько это было возможно без шумихи в прессе и на телевидении. Избегали не то что шума, даже простой утечки информации. В новостях не мелькало ни слова о похищении ведущего физика-ядерщика страны прямо с крупнейшего в Америке производства реагентов. Что ж, молчание вполне понятно. Вряд ли такая информация прибавила бы стабильности обществу и очков чьей-то политической карьере.
— И все-таки, — закончил свой рассказ Шеймус, — кто-то проболтался. Кто-то сказал им, где меня найти — ведь нашли же. Когда подняли общую тревогу, кто-то попалился, и все стало палиться по цепочке, пока не привело к пожару на ранчо. Слов нет, чтоб сказать, как мне жаль ваши потери, ваш сгоревший дом, ваши вещи. Я знаю, сколько труда и души в них вложено.
— С нами это уже не в первый раз происходит, — сказала Эннели. — В Четыре Двойки мы тоже когда-то попали подобным образом, хотя Дэниел, наверно, не помнит. — Она была за рулем и могла только бросить на сына быстрый взгляд через плечо. — Ты и не можешь помнить.
Но Дэниелу, который внимательно слушал все с заднего сиденья, было неинтересно то, чего он не помнит.
— А сколько людей знали, что ты остановился у нас? — спросил он Шеймуса.
Тот ответил без колебаний. Наверняка он и сам задавал себе этот вопрос.
— Вы с мамой, Улыбчивый Джек и пилот, молодой черный парень Эверли Кливленд, для друзей Бро. Это те, кто знал наверняка, но могли быть и другие.
— Тебя сдал пилот, — сказал Дэниел.
— Ты так уверен? — поднял брови Шеймус. — А доказательства?
— Мы с мамой не могли тебя сдать, Улыбчивый Джек тоже. Кроме того, пилот проделал больше двух тысяч миль с кучей посадок, так что самолет почти наверняка должны были заметить. Вполне логично было бы проверить маленькие взлетно-посадочные полосы.
— Да, — вздохнул Шеймус, — скорее всего так и было, но кто знает? Если это пилот, надеюсь, он сдал меня по собственной воле. Пошел к первому же телефону и стукнул полиции.
— Почему? — изумился Дэниел.
Шеймус, который еще до этого вопроса обернулся к Дэниелу на заднем сиденье, перевел взгляд с его лица на белую полоску шоссе, убегающего за горизонт. Дэниел решил, что Шеймус не хочет отвечать, но тот вдруг словно пришел в себя и сказал, глядя прямо в глаза мальчику:
— Потому что если он сдал меня не по своей воле, значит, информацию из него выбили, и теперь у меня на руках его кровь.
«Точнее, на руке и перчатке», — подумал Дэниел. Но вслух ничего не сказал — что-то в голосе и глазах Шеймуса напугало его, что-то слабое, тревожное, питающееся разложением и гнилью, паразитирующее на страданиях и ненависти человека к себе. Дэниелу захотелось сменить тему.
— Зато у тебя есть и друзья, — сказал он, желая подбодрить Шеймуса. — Ну, кроме нас с мамой. Кто-то же тебе помогает? И нам тоже. Что это за люди?
Шеймус бросил взгляд на Эннели, потом опять на Дэниела.
— Сообразительный молодой человек. Как говорил один мой учитель, «хороший нюх на происходящее внутри происходящего».
На похвалу Дэниел только пожал плечами.
— Ежу ясно — кто-то возит нас на самолетах, дает нам машины, документы и деньги. Говорит нам, что делать.
— Это АМО, — сказал Шеймус.
— Аммо? — не понял Дэниел. — То есть амуниция? Боеприпасы?
— Нет, хотя игра слов и наводит на мысль. «АМО» по латыни значит «я люблю», — он откинулся в кресле, подняв руки над головой, и слегка тронул затылок Эннели кончиками пальцев.
Ей хотелось оторваться от руля и обнять его, хотелось, чтобы он так же трогал ее везде, где пожелает, чтобы тепло его пальцев разливалось по шее, по бедрам, по животу, по соскам, по горлу. Смущенная, она слушала.
— AMO — сокращение от «Альянс магов и отщепенцев», или, как называют его некоторые члены, «Алхимики, маги и отщепенцы» — они утверждают, что первоначальное название было такое. Еще одна группа, небольшая, но шумная, настаивает, что АМО всегда расшифровывалось как «Артисты, Мифотворцы и Отчаянные». Наверно, вы уже поняли, что о происхождении и развитии АМО идут постоянные споры — в основном потому, что Ассоциация не хранит никакой информации о себе, вся информация должна быть открытой. А поскольку АМО запрещает практически все прямые упоминания своей деятельности и своих принципов, все открытые источники, то есть большей частью книги и музыка, прячутся за художественными образами, за метафорами. Впрочем, как бы ни расшифровывалась эта аббревиатура, АМО — тайное общество, хотя тайна большей частью общедоступна. Исторически это союз невольных нарушителей закона, отступников, анархистов, шаманов, мистиков, цыган, сумасшедших ученых, мечтателей и прочих маргиналов. Мне говорили, что изначально общество было создано для сопротивления разрушительной деятельности монотеизма, особенно христианства, которое боролось с алхимией как с язычеством и вынудило ее уйти в подполье. Мне удалось узнать (хотя я отнюдь не специалист в этом вопросе), что АМО существует как в высшей степени необязательный международный союз свободных духом людей и моральных ренегатов. Хотя основной закон там — свобода, граничащая с неопределенностью, но у ассоциации есть крепкий стержень.
— То есть? — спросил Дэниел.
— В каждой стране или регионе существует совет семи, так называемая Звезда. Члены его могут служить сорок лет или в любой момент выйти в отставку. Тогда кто-нибудь из Звезды назначает преемника, который должен быть одобрен всеми ее членами. Не знаю, чем еще занимается Звезда кроме общего управления и разработки специальных проектов. У каждого ее члена есть небольшой штат сотрудников, которые помогают ей работать на местности — я говорю «ей», потому что четыре из семи членов Звезды по традиции должны быть женщины.
— Мудро, — кивнула Эннели и с улыбкой взглянула на Шеймуса.
— А их может быть больше четырех? — спросил Дэниел.
— Больше — да, меньше — нет. Это имеет какой-то смысл?
— Наверно, — сказал Дэниел, не желая выносить окончательного суждения.
Не отрывая глаз от дороги, Эннели сказала:
— Похоже, мы держали дом для АМО? Да? Это на них мы работали?
— Улыбчивый Джек — помощник Вольты, одного из членов Звезды, так что твое предположение вполне допустимо. Только они не любят, когда говорят, что на них работают. Предпочитают говорить о естественном удовлетворении взаимных интересов и, как следствие, расширении ассоциации.
— Просто замечательно, — сказала Эннели. — А почему бы не сказать нам? Или не предложить вступить туда?
Шеймус поднял руки, шутливо защищаясь.
— Не спрашивайте меня, почему они поступают так или иначе! Все, что я знаю о политике приема новых членов, — к человеку можно обращаться с предложением только тогда, когда он готов, и говорить правду. В вашем случае, видимо, могли возникнуть сомнения насчет Дэниела — ведь вы будете вынуждены конспирироваться, если раскроется тайна членства в АМО. Это серьезный провал. Кроме того, члены АМО должны перечислять в пользу общества пять процентов своего дохода. Возможно, они не хотели обирать одинокую женщину. Эннели, ты сама достаточно времени провела на улице, чтоб усвоить одно правило: лучше знать только то, что тебе необходимо, и не больше того.
Не успела Эннели ответить, как Дэниел наклонился к переднему сиденью и спросил Шеймуса:
— Ты все время говоришь «они». Разве ты сам не вступил туда?
— Вступил. И вышел.
— И все-таки они тебе помогают?
— Это долгая история, — вздохнул Шеймус. — Я начинал контрабандистом. Сперва сигары и часы, потом наркотики, потом золото. Из всех предметов моих занятий только оно целиком занимало меня самого. Когда увидел первый слиток, в крови будто взошло солнце. Я тогда работал во Флориде — еще очень молодой, честолюбивый, изобретательный, у меня был особый талант провозить контрабанду из пункта А в пункт Б. Делал все надежно, без лишних разговоров, кучу денег зарабатывал. И в отличие от большинства контрабандистов не спускал их на наркотики, яхты и роскошных женщин. Развлекался, конечно, но на порядок скромнее, чем позволял доход, ведь даже самого лучшего контрабандиста может постичь неудача.
В какой-то момент капитал мой достиг очень солидных сумм, но еще больше скопилось сомнений, что везенье продолжится, и я уже подумывал о выходе из дела, когда мне нанес визит некто Ред Лаббак. Он был главный перевозчик на севере Мексиканского залива, я ждал от него каких-то деловых разговоров, и очень удивился, когда Ред стал рассказывать об АМО. Предложение было прямым и честным, как и сам Ред: я получаю возможность пользоваться благами Ассоциации в обмен на ежегодный взнос, пять процентов дохода, который платится совершенно свободно — никаких сборщиков, никаких проверок, никаких вопросов. Преимущества членства в АМО (Ред их подробно описывал, а я перечислю лишь в общих чертах) — это техническая и юридическая помощь, сеть умелых и надежных людей, пользование инфраструктурой и оборудованием — от надежных домов до машинных цехов, доступ к данным разведывательных служб (правда, как сказал Ред, в исключительных случаях) и обучение, развитие способностей и талантов. Ред не давил на меня, но я привык к независимости, да и все равно решил бросить контрабанду, так что не видел смысла вступать в какую-то странную организацию с туманными посулами необычных возможностей и всеобщей поддержки. Весьма польщен, сказал я Реду, но отвечу, пожалуй, дружелюбным отказом. Со своим бостонским ирландским акцентом я вряд ли воспроизведу гнусавый сельский выговор Реда, но то, что он мне сказал, и сейчас помню наизусть. «Слышь, сынок, контрабанда твоя нам без надобности. Она только заработок, да и тот в любой момент может накрыться. Чего мы на самом деле хотим от тебя — это чтоб ты поехал изучать драгоценные металлы с Джейкобом Хиндом. Ты по молодости лет небось и не слыхал о таком, а на наш взгляд он чертовски хороший учитель, прям-таки мастер. Тебе о металлах ни в жисть столько не выучить, сколько он уж успел позабыть. Одно плохо — Джейкоб Хинд разменял девятый десяток. Ты можешь стать его последним учеником».
И я попался. Как я уже говорил, драгоценные металлы меня тогда очень заинтересовали, а контрабанда все больше и больше казалась ненадежной. Контрабанда, в конце концов, лишь работа, какой бы рискованной и прибыльной она ни была. А работа рано или поздно надоедает. Так что я вступил в АМО, и через три месяца уже сидел на острове в заливе Пьюджет-Саунд — одинокий преданный ученик Джейкоба Хинда.
— Ты там учился как в обычной школе? — спросил Дэниел.
— Нет, на современную школу это было совсем не похоже. Если с чем-то сравнивать — я был подмастерьем, как в старину.
— Мам, помнишь, — Дэниел тронул Эннели за плечо, — мы как раз об этом читали месяц назад?
— Конечно, читали. Подожди, пусть Шеймус закончит.
— Джейкоб Хинд был хороший учитель? — спросил Дэниел то ли наперекор матери, то ли чтобы вызвать Шеймуса на продолжение.
— Хороший учитель? Это хороший вопрос, хоть я и не могу на него ответить. Сперва я думал, он совсем выжил из ума — полоумный полудатчанин-полуангличанин, вечно нес какую-то чушь, если увлекался. И увлекался частенько. Почти все время бормотал по латыни, а когда все же переходил на английский, выражался одними метафорами. «Самый драгоценный камень, Шеймус, это горящая река». «Тот, у кого есть и мужские крылья, и женские, — источник нового вещества». Латынь его, наверно, тоже была сплошными метафорами. Во всяком случае, я туго понимал его уроки. Зато у нас была отличная металлургическая лаборатория и еще лучшая библиотека, хотя опять же, половина книг была на латыни и греческом. Я только начинал понимать его методы и его самого вместе с ними, когда он внезапно скончался от сердечного приступа.
Шеймус вздохнул и немного помолчал.
— Тогда я и сжег руку. Его сердце отказало прямо у лабораторного стола. Мы ставили опыт с преобразованием металлов, Джейкоб вдруг пошатнулся, схватился за стол и задел тигель с расплавленным серебром, которое вылилось мне на руку. Мгновение я был в шоке, еще до того, как нахлынула боль. Джейкоб с силой схватил меня за плечи, притянул к себе, как пушинку, дрожа, стараясь вдохнуть побольше воздуха, и прошептал: «Верни их в девяносто второй…»
— Что значит «верни в девяносто второй»? — поинтересовалась Эннели. Дэниел был рад, что она спросила.
— Не знаю точно, что он имел в виду, — вздохнул Шеймус. — По периодической системе элементов девяносто второй — уран, ценный металл, последний из природных химических элементов — то есть последний по атомному весу. Дальше идут пятнадцать других, созданных человеком. Если я правильно понял Джейкоба за короткое время моей учебы, рукотворные элементы он презирал, считал их опасными и ненужными, лишь сбивающими с толку.
— А как вернуть их в девяносто второй? — просила Эннели.
— Хотел бы я знать. Каждый день об этом думаю.
— Я понял, — сказал Дэниел.
— Что?
— Понял, почему ты вышел из АМО и почему они до сих пор тебе помогают — это их долг перед тобой за искалеченную руку.
— Но тогда я и не думал выходить. Как только поправился, вернулся в лабораторию Джейкоба и продолжил опыты. АМО не только одобрил мою работу, но и помог — мне дали учителя латыни. Через полгода бешеной зубрежки я мог прочесть большую часть старых книг. В результате внимание мое приковали радиоактивные элементы, в частности, естественно, уран. Сам старый добрый девяносто второй, точка возврата по Джейкобу, конец естественной цепочки элементов, за которым шли мутанты, родившиеся с помощью ускорителей заряженных частиц и ядерных реакторов. Конечно, у меня имелись образцы урана, но нужен был уран-235, расщепляемый изотоп, который меня очень интересовал. Поскольку уран-235 используется в ядерных бомбах, он хранится в государственных учреждениях. И если даже в моих исследованиях нет больше ни одной верной мысли, все равно ясно как день — мы не можем судить о силе и свойствах элементов без прямого контакта с ними. В любом случае, я решил украсть уран-235 и попросил помощи у АМО. На встречу со мной послали одного из членов местной Звезды, человека по имени Вольта, и он не только отклонил мою просьбу о помощи, но стал убеждать меня вообще не пытаться это сделать, даже собственными силами. Ему нравится моя одержимость, сказал он, но — цитирую: «Одних личных амбиций недостаточно, чтобы втягивать АМО в дела, где успех может оказаться опаснее провала». Для Вольты это был просто изящный способ сказать: Шеймус, кража радиоактивных материалов повлечет за собой такой серьезный шухер, что другие проекты Альянса и множество людей окажутся под угрозой. В ярости я ответил ему что-то вроде: «Поскольку я тем не менее собираюсь украсть образец урана, пусть для моих собственных эгоистичных нужд, у меня остается один достойный выход — покинуть АМО». «Тебе решать, — сказал Вольта. — Правда, особой разницы нет, это все равно будет серьезной проверкой для всех нас. Но не считай свой благородный жест бессмысленным, благородство бессмысленным не бывает. Поступай, как считаешь нужным».
— Я так и сделал, — Шеймус грустно улыбнулся. — И все провалилось. И начался шухер. И вот мы здесь, — улыбка исчезла.
Эннели протянула руку, не глядя, и сжала его колено.
— Бывает и хуже.
— А что теперь? — спросил Дэниел. Молчи, хотела сказать Эннели. Будущее и так наступит слишком быстро.
— Кто знает? — сказал Шеймус. — Скорее всего, в Дубьюке нас разделят, и меня вышлют из страны.
— А если мы не захотим разделяться? — спросила Эннели.
Шеймус повернулся к ней и мягко ответил:
— Нет. Я оставил вас без дома, без всего, из-за меня вы в бегах. Я очень хотел бы быть с вами, но сейчас это стало бы незаслуженной милостью и слишком большим риском, на который я не пойду.
Эннели начала что-то говорить, потом передумала. Протянула руку и включила радио, ища какой-нибудь рок-н-ролл, который можно врубить погромче. Разум подсказывал, что разлука сейчас будет самым разумным решением; сердце напоминало, что она не обязана радоваться ему.
РАСШИФРОВКА
Денис Джойнер, мобильное радио АМО
Ууууууу-иииииии! Не ведали, не гадали, нечаянно попали! Попали на старика Ди-Джея собственной персоной! Диковинный Джазмен приходит к вам по волнам клеее-евого мяу-бильного р-р-р-р-радио, там, где вы на него наткнетесь — бесполезно пялиться на дисплей, детка, нас там нетушки. Мы в Отдаленном Третичном Диапазоне, в Орбитальном Диаметре — о Боже Мой, как это может быть! Может, хе-хе, еще как может: Дядя Синий в Серебристой Машине пришел перетряхнуть ваши сны и реанимировать вашу дохлую обезьянку.
О чем мы тут? О Высокой Культуре. Прямо-таки взмывающей ввысь! Стремительным взлетом ракеты-носителя! Великолепный духовный выстрел в космическую пустоту! Трансляционный Взрыв Интеллекта! Полупроводниковый Астральный Секс-Ланч! Да-да, вы застали этот момент! Добро пожаловать в Клуб Культуры Гуляющих по Облакам!
А теперь, детки, только между нами и этими четырьмя стенами — сегодня у нас отвязное шоу. Если вы не оторветесь по полной, значит, ваша жизнь в чем-то неполноценна.
Думаете, это гон? Что ж, братишки-сестренки, убедитесь-ка сами. Сегодня у нас Карл Маркс со своим хитом номер один «Нераспределенный прибавочный продукт — что это значит для рабочего пролетариата вроде нас с тобой?» под аккомпанемент Петра Кропоткина (домбра) и Льва Троцкого (скрипка). Будет у нас и Жан-Поль Сартр, очередное эссе из серии «Философия на кассетах», и на сей раз его забытое исследование постиндустриальной депрессии называется «Зарождающееся пробуждение и чувство судьбы». Ну что, въезжаете? Еще хотите? Тогда записывайте: будут отрывки из редких интервью Уолта Диснея, где он разглагольствует о разнице в длине опиумных трубок в «Электромифологии» и причиндалов голубого Тинкербелла (эй, парни, признайтесь, мы же все хотели, чтоб малышка Тинкербелла стала повыше футов на пять?)
И что, на этом мы останавливаемся? Блин, зачем вообще останавливаться? Еще у нас будет целая жизнь, жизнь в здесь и сейчас, будет целый Мормонский Храмовый Хор с пошлой пародией на «Битлз». Стукни меня пыльный мешок, если не будет! Плюс — мерси, мама! — недавно обнаруженные скрипичные партитуры Баха в исполнении Уличных Вырубонсов, дирижер Димедрол Джонс. Если и это не заставит вас визжать от восторга, обратитесь к нашим обычным гвоздям программы: Карл Юнг с астрологией, горячая линия по правам потребителей с Аттилой Гунном, донельзя стервозный обзор книжных новинок с Корлисс Лайм, и я, Диковинный Джазмен, с соло на ударных.
Так что держитесь там, и особенно крепко — за уши!
Добравшись до Дубьюка, они остановились у автозаправки «Коноко». Шеймус нашел телефонную будку и набрал условленный номер. Говорил недолго, и к машине вернулся задумчивый. Эннели внимательно посмотрела ему в лицо.
— Ну, теперь куда?
— Сити Батон-Руж.
— В Луизиану? — удивился Дэниел с заднего сиденья. — Полная бессмыслица…
Шеймус улыбнулся.
— «Сити Батон-Руж» — пароход, самый настоящий колесный пароход старой Миссисипи, пришвартован за городом.
— Ну конечно, — рассеянно кивнула Эннели, — река Миссисипи. Прямо по могучей Миссисипи к заливу, до самого Нового Орлеана. А оттуда, наверно, на Кубу в подводной лодке.
Шеймус взъерошил ей волосы.
— Ну да, в таком духе. А из Кубы на планере в Бразилию. Ночью. Когда не будет луны.
— Только звездный свет на волнах и шум ветра.
— Точно.
Эннели включила зажигание.
— Для начала найдем пароход.
— В джунглях нас ни за что не поймают, — счастливо вздохнул Дэниел.
— Так, а теперь момент истины, — сказала Эннели. — Ты знаешь, куда мы едем, или просто поднимаешь нам настроение?
— Последний поворот перед мостом, потом на север вдоль реки. Там нас встретит Элмо Каттер, один из помощников Вольты. Кроме промежуточного пункта, «Сити Батон-Руж», я понятия не имею, куда мы направляемся. Но у Элмо наверняка есть предложения.
Элмо Каттер был смугл, невысок и толстоват. Под засаленным козырьком кепки с эмблемой бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» шевелилась толстая черная сигара, так ни разу и не зажженная. Встретив Шеймуса, Эннели и Дэниела на пристани, он что-то пробурчал в качестве приветствия и повел их на борт.
«Сити Батон-Руж» когда-то был сделан по последнему слову техники — с паровым двигателем, с колесами на корме, — и выполнял самые дорогие, роскошные рейсы. В конце прошлого века его пассажирами были элегантные бизнесмены, виртуозные картежники, аристократки; даже сейчас, заброшенный еще в пятидесятых, облезлый и старый, он хранил атмосферу фетровых шляп, светских разговоров, вальсовых мелодий из танцзала. До сих пор на нем витали запахи кукурузного виски, деревенских окороков, свежих магнолий в волосах официанток, до сих пор чудилось щелканье фишек после очередной карточной партии в салоне. Но и самая буйная фантазия не могла скрыть запустения и упадка, царящего сейчас на корабле.
Элмо привел их в обеденный зал. Больше двухсот человек сидело когда-то за этими длинными столами, ломившимися от жареной курицы, ветчины, запеченных перепелов, картофельного пюре, зелени, салатов, горячих бисквитов, кукурузы с топленым маслом, всевозможных подливок и соусов, толстых ломтей тыквенного пирога. Теперь здесь стоял лишь обшарпанный карточный стол и четыре складных стула. Элмо сразу перешел к делу.
— Здесь вы разделяетесь.
Эннели вздрогнула.
— Шеймус, ты едешь сегодня ночью. Маршрут проработан еще не до конца, но вполне надежен. — Он повернулся к Эннели. — Вы с мальчиком можете выбирать. Наверно, вы уже знаете, что держали надежный дом для АМО — так сказать, дачное отделение. Некоторые из тех, кто у вас жил, даже не были членами Ассоциации — Долли, например, мы вытащили из тюрьмы просто потому, что не прочь были дать ей свободу. Сейчас она вступила в АМО. И вас мы приглашаем вступить, если есть такое желание.
— Почему раньше не предлагали? — спросила Эннели так же деловито и неприветливо, как Элмо. — Или хотя бы не сообщили?
— Что я могу сказать, мисс Пирс, — пожал плечами Элмо, — не я принимаю такие решения. Видимо, в этом не было особой необходимости, поскольку вы и так фактически присоединились к нам, разве что неофициально. Мы не придаем формальностям большого значения.
— А если мы не захотим вступать? Может, мы слишком много знаем?
Из-под кепки раздалось нечто среднее между смешком и хрюканьем.
— Нет, мэм, не так уж много. Некоторые неприятности возможны, но серьезный ущерб вы вряд ли нам причините. АМО как ртуть. Потому и существует веками. Не хотите вступать — вот вам машина, четыре штуки баксов и наши наилучшие пожелания. В случае какой-нибудь серьезной передряги мы, скорее всего, выручим вас, хотя ничего не обещаем.
— А если мы вступим?
— Тогда — интересная работа на открытых вакансиях, достойный заработок, хорошие люди, широкие возможности и преимущества члена Альянса.
— У вас есть школы? — раздался голос Дэниела, такой настойчивый, что Эннели с Шеймусом оба повернулись к нему. Но он даже не заметил, глядя на Элмо во все глаза.
— Школ нет. Есть учителя, которые примут тебя, если ты всерьез хочешь чему-то учиться. Еще у нас есть что-то вроде свободной сети врачей — некоторые из них по меркам АМО откровенно примитивны, но это не значит, что медицина бездействует. Можно сказать, у нас есть образовательные и медицинские привилегии. И юридические, кстати, тоже — адвокаты у нас просто супер. Вот всё, что я могу вам предложить. Я вас не уговариваю, но лучше нам делать дела вместе.
— Как ты думаешь, Шеймус? — спросила Эннели и прибавила, спохватившись, что может обидеть сына: — Дэниел, твое мнение я тоже хотела бы выслушать, ведь речь идет о нас двоих.
— Я рассказал вам историю моего членства, — вздохнул Шеймус, — АМО — хорошие друзья и честные враги.
— Надо вступать, — сказал Дэниел. — Это имеет смысл. И учителя мне рано или поздно понадобятся.
Эннели зажмурилась и тотчас открыла глаза.
— Записывайте нас, — сказала она Элмо.
— Есть, — кивнул тот. — А сейчас я попрошу вас прогуляться по кораблю, мне надо кое-что обсудить с мистером Мэллоем. Вам, конечно, известно, что неведение зачастую лучшая защита.
— А разве не знание? — спросил Дэниел.
— Смотря в каком случае, — пробурчал Элмо и через секунду добавил: — Наши учителя тебя полюбят, как пить дать.
Взволнованный этим замечанием, Дэниел выбрался из-за стола и пошел за матерью на палубу. Когда они отошли подальше, Элмо сказал:
Назад: Джим Додж Трикстер, Гермес, Джокер
Дальше: ЗЕМЛЯ

