1990
Хьюз опубликовал четыре стихотворения Буковски в «Платанном обозрении» в 1990–1991 годах.
[Генри Хьюзу]
13 сентября 1990 г.
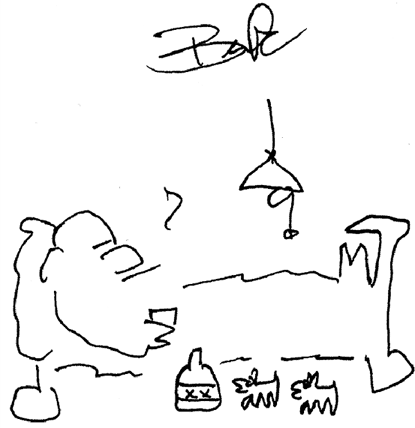
9–13–90
Привет, Генри Хьюзу
Я рад, что парочку удалось в тебя втиснуть.
Мне уже 70, но, пока льется красное вино, а пишущая машинка шевелится, все в порядке. Хорошо у меня получалось, когда я писал грязные рассказики для мужских журналов, чтобы платить за квартиру, и у меня до сих пор хорошо получается, когда пишу вопреки опасностям небольшой своей известности и скольких-то денег – и приближающихся шагов по той штуке со знаком СТОП. Временами я наслаждался этим поединком с жизнью. С другой стороны, я его покину без сожалений.
Иногда я называл писательство болезнью. Если так, я рад, что ею заразился. Я никогда не заходил в эту комнату и не смотрел на пишущую машинку, не чувствуя, что где-то что-то, какие-то странные боги или что-то совершенно неназываемое коснулось меня отпетой, пропетой и чудеснейшей удачей, что все держится, держится и держится. О да.
[Редакторам «Колорадского северного обозрения»]
15 сентября 1990 г.
[…] Я замечаю, что вы связаны с университетом, но все равно разговариваете вполне по-человечески, по крайней мере – в переписке. Но за последние пару лет я отмечал, что университетские издания более открыты к азарту и разнообразию в том, что они провозглашают, я имею в виду, что они выкарабкиваются из XIX века, по крайней мере, с приближением XXI.
Да, я понимаю, о чем вы в смысле письма и писателей. Мы, похоже, потеряли цель. Писатели, судя по всему, пишут ради того, чтоб быть известными как писатели. Они не пишут потому, что их что-то подталкивает к краю. Оглядываюсь на то, когда у нас еще были Паунд, Т. С. Элиот, э. э. каммингс, Джефферс, Оден, Спендер. Их произведения прямо пробивали бумагу, поджигали ее. Стихи становились событиями, взрывами. Была сильная взбудораженность. Теперь уже десятки лет у нас, похоже, это затишье, едва ли не умелое затишье, словно скука – показатель гениальности. И если возникал новый талант, то была лишь вспышка, несколько стихов, тоненькая книжка, а затем он или она стачивались, переваривались до тихого ничто. Талант без стойкости – чертово преступленье. Это значит, что они попались в мягкую ловушку, это значит, что они уверовали в хвалу, это значит, что они удовлетворились недобором. Писатель – не писатель от того, что преподает литературу. Писатель лишь тогда писатель, если он может писать сейчас, сегодня вечером, сию минуту. У нас слишком много экс-писателей, которые печатают. Книги выпадают у меня из рук на пол. Они полная чушь. Мне кажется, мы только что спустили полвека на вонючие ветра.
Да, классические композиторы. Я всегда пишу под включенную музыку и бутылку хорошего красного. И курю мангалорские биди «Ганеша». Вихренье дыма, грохот печатки и музыка. Вот так способ плюнуть в лицо смерти и в то же время ее поздравить. Да.
[Кевину Рингу]
16 сентября 1990 г.
[…] Я понимаю, что ты имеешь в виду насчет поэзии. Тухлая претенциозность ее не давала мне покоя не один десяток лет, не только поэзии нашего времени, но и поэзии прошедших веков, так называемого лучшего из лучшего. Похоже, будто все прихорашиваются, наряжаются, поддерживают огонек как можно ниже либо вообще никакого, приукрашивают, делают понежней […] Проза недалеко от этого ушла. Я не подразумеваю, что сам великий писатель, а говорю лишь, что как читатель чувствую – меня обули, задавили салом, нассали на меня очевидными приемчиками ремесла, трюками, которые едва ли стоит разучивать.
О да, я знаю про сэра Эдварда Элгара. Он мог сочинять для Королевы и страны, и все равно в нем переливается трелями волшебство. Кроме того, есть еще Эрик Коутс. Я говорю здесь об англичанах. На протяжении времен было столько великих классических композиторов. Я их часами слушаю, это мой наркотик. Он выглаживает причуды моего бедного изможденного рассудка. В отличие от поэтов и прозаиков классические композиторы выглядят вполне честными, стойкими и полными изобретательности и огня. Мне их всегда мало, список кажется нескончаемым. Столько их практически жизнь свою положило за свои труды. Предельная азартная игра. Классическую музыку я слушаю часами, большей частью – по радио, и даже после стольких лет часто слышу новое и поразительное произведение, которое нечасто исполняют.
Когда я слышу одну из таких вот работ, это великая ночь. Я знаю стандарты и стандартные аранжировки, но как бы хороши ни были они, когда тебе как-то удалось выучить все до ноты, которая сейчас прозвучит, чего-то малого и впрямь не хватает. Мое письмо, хоть по-своему и простое, всегда направляется музыкой, потому что я слушаю, когда пишу, и, конечно же, рядом дорогая моя старая бутылка.
[Уильяму Пэкерду]
23 декабря 1990 г.
[…] Когда все получается лучше некуда, это не потому, что ты выбрал писать, а потому что письмо выбрало тебя. Это когда ты с него бесишься, когда оно тебе в уши набивается, в ноздри, под ногти. Когда нет никакой надежды, кроме этой.
Однажды в Атланте, голодая в хижине из толя, замерзая. Там вместо пола были газеты. И я нашел огрызок карандаша, и писал на белых полях по краям тех газет карандашным огрызком, зная, что этого никто никогда не увидит. То было раковое безумие. И оно никогда не было работой, или чем-то планируемым, или частью какой-то школы. Оно было. Вот и все.
А почему нам не удается? Век такой, что-то в эпохе, нашей Эпохе. Полвека не было ничего. Никакого настоящего прорыва, никакой новизны, никакой сверкающей энергии, никакого азарта.
Что? Кто? Лоуэлл? Этот кузнечик? Вот не надо мне говенных песенок петь.
Мы делаем, что можем, и то не очень получается.
Размеренно. Сперто. Мы в этом позируем.
Мы слишком трудимся. Мы слишком стараемся.
Не пытайся. Не работай. Оно есть. Смотрит прямо на нас, ему мучительно не терпится выпнуться из закрытой утробы.
Слишком много режиссуры было. А все свободно, нам не нужно говорить.
Школы? Школы для олухов.
Писать стих так же легко, как сдрочнуть или выпить бутылку пива. Смотри. Вот один:

