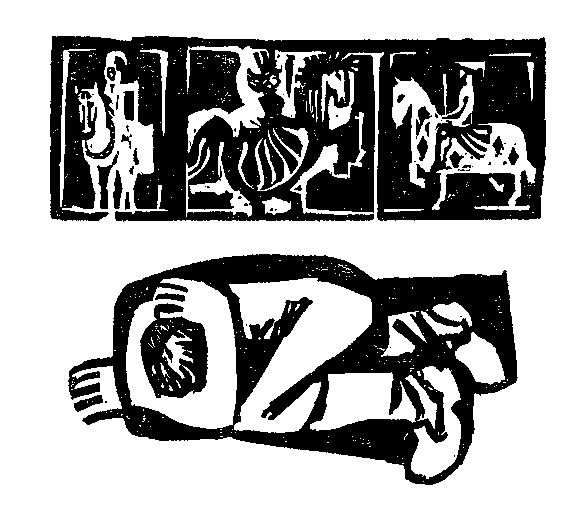
Глава V
Тайники
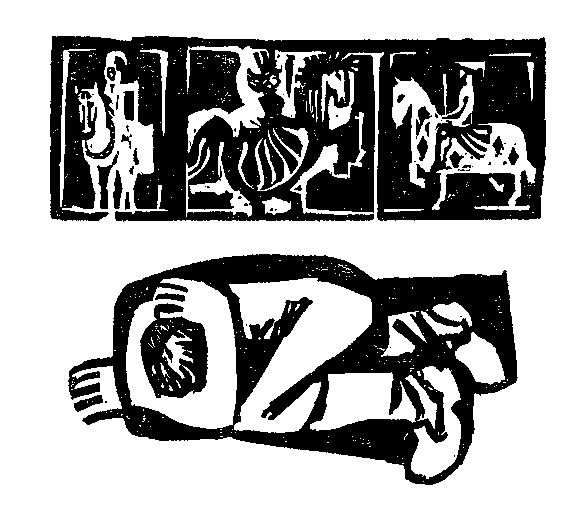
Но это утро требует описания. И даже если мы во веяном воспоминании каждый раз открываем другое значение, неважна, я должен воссоздать неторопливый рассвет, в котором желтый, неудержимо желтый тон спорит с серым и коричневым; я должен внести в эту картину лето с его необъятным горизонтом, с каналами и полетом чибисов, я должен провести по небу длинные шлейфы, следы пролетевших самолетов, и пусть за дамбой слышится бодрая трескотня катера; чтобы восстановить это памятное утро, я должен рассеять по ландшафту деревья и кустарники, приземистые усадьбы, над которыми еще не вьется дымок, а также щедро разбросать по пастбищам пестрый черно-белый скот. Таково было то утро, когда я проснулся, проснулся поневоле, так как что-то поклевывало и долбило стекло в окне, все чаще и нетерпеливее; сначала я продолжал лежать и только прислушивался к дробному постукиванию в стекло, у меня даже мелькнула мысль о крапивниках. А потом словно забарабанил дождь, песчаный дождь. Звонко ударялись в стекла крохотные песчинки. Я присел в постели и стал наблюдать за окном: несмотря на всю эту стукотню, по стеклу еще не пробежало ни одной трещинки. А затем, после нескольких щелкающих попаданий, которые я только слышал, но не устерег, я различил быстро приближающееся песчаное облачко, которое звонкой дробью шарахнуло по стеклу, — тут уж я вынырнул из постели, подбежал к окну и уставился на тихий утренний рассвет. И так как ни на среднем, ни на заднем плане ничто не двигалось, мне бросилось в глаза короткое движение на переднем плане, движение поднятой руки, которая внизу, в сарае, между козлами и щербатым чурбаком, настойчиво требовала внимания, но я не сразу признал брата Клааса, который стоял внизу во френче, с толстой белой повязкой на руке. Да и трудно было ожидать, что он появится у нас в такую рань, без предварительного извещения; после того как он дважды прострелил себе руку, мы узнали только, что его поместили в гамбургскую тюремную больницу, где ему были запрещены всякие посещения. Дома у нас имя его больше не упоминалось, а полученные от него две открытки, конечно, так и остались без ответа.
Клаас высунулся из сарая, помахал мне и отступил назад, а я бросился к кровати, потом к двери, послушал, снова кинулся к кровати, натянул штаны и рубашку и, до того как спуститься в прихожую, сделал: ему знак из окна. В прихожей ничто не шевелилось. Все спали. Спали в своих длинных шершавых ночных рубахах, под тяжелыми одеялами, на жестких серых домотканых простынях, а над спящими переглядывались Теодор Шторм и Леттов-Форбек, два висевших здесь изображения: как хузумский писатель, так и генерал с неизменной подозрительностью пялились друг на друга. Прижимаясь к стенке, сгорбившись, я спустился вниз, прошел мимо ругбюльского полицейского, висевшего на плечиках в стенном шкафу. Тишина в доме стояла неимоверная. А каким холодным на ощупь показался мне ключ от входной двери! Я медленно повернул его, чувствуя сопротивление пружины в замке, повернул бесшумно, но тут дверь заскрипела, и я уже ожидал, что вот-вот наверху покажется отец — со всеми вытекающими отсюда последствиями, но все было тихо.
Я выскользнул наружу. Осторожно прикрыл дверь и метнулся по двору в сарай, а там и в самом деле, примостясь на корточках, сидел Клаас, мой ясноглазый круглолицый брат. Светлые волосы его свалялись. Забинтованная рука покоилась на чурбаке, воротник френча был расстегнут, лицо выдавало владевший им страх, и этот страх не только устранял необходимость вопросов — он безоговорочно выдавал все: побег из тюремной больницы, окольные обходы патрулей и застав, ночную поездку и дальнейшие странствия, опасливые оглядки и отсидки, перебежки, припадая к земле, — все это страх рассказывал без утайки.
Ни единого приветственного слова — он только схватил меня за рубашку и потянул вниз, к чурбаку, откуда мы могли наблюдать окно спальни, вернее, Клаас не сводил с него взгляда, тогда как я глядел на его усталое, отупевшее лицо, на забрызганный грязью френч, на неуклюжую гипсовую повязку, о которую кто-то, если не он сам, загасил сигарету. Очевидно, он боялся, что меня услышали в доме и, найдя кровать пустой, станут выглядывать в окно, но занавеска не шевелилась и не видно было промелькнувшей тени; успокоившись, брат заставил меня опуститься на пол и со вздохом, раскорячившись, сел рядом, прислонясь спиной к стене сарая. Губы у него дрожали. Его знобило от усталости. На подбородке поблескивала рыжеватая щетина. «А где же пилотка?»— подумал я и, не видя ее нигде, представил себе прыжок, когда он ее потерял, прыжок с движущегося товарного вагона или через широкий ров. Осторожно подвинулся я по земле вперед, привстал на колени и долго вглядывался в его лицо, пока он не открыл глаза и не сказал:
— Спрячь меня куда-нибудь, малыш!
Я помог ему подняться, он крепко в меня вцепился, покачнулся — казалось, он вот-вот надломится и упадет, — но устоял, нерешительно улыбнулся и спросил:
— У тебя, конечно, есть хорошая прятка?
— Да, — сказал я, и с этой минуты он слушался меня беспрекословно и не стал возражать против того, чтобы я вышел из сарая и огляделся, мало того: он видел одного меня и готов был сделать или повторить все, что я ему прикажу или сделаю. Я побежал к старой тележке и приник за ней. Он подбежал к старой тележке и приник за ней. Я перескочил через кирпичную дорожку и скользнул вниз по откосу. Он перескочил через кирпичную дорожку и скользнул вниз по откосу. Вперед, к шлюзу. Вперед, к шлюзу. Я сказал:
— Надо пробежать через луг к камышам, — и он повторил:
— Ладно, к камышам.
Он не спрашивал, куда мы направляемся и далеко ли, он следовал за мной без любопытства и нетерпения, а я пропахивал для нас дорогу в камыше вытянутыми вперед и сходящимися под углом руками, держа направление на старый мельничный пруд и на бескрылый полуразрушенный ветряк, которому уже не в силах был помочь никакой ветер. Вязкая почва пружинила под ногами. Ее заплесневелая поверхность местами поддавалась, цога проваливалась, и в отверстие била коричневая торфяная вода. Мы вспугнули стайку диких уток. Мне повсюду мерещились глаза. Камыш, шурша, вставал и смыкался за нашей спиной. Дикие утки, описав над нами петлю, возвращались назад, на то же место. В зеленых сумерках создавалось впечатление, будто идешь по морскому дну, сквозь слабо колышущуюся чащу водорослей, сквозь настороженную тишину. Но вот камышовые заросли поредели и перед нами открылся мельничный пруд, а за ним на ржавом кругу — мельница.
— Здесь? — спросил брат, и я кивнул, огляделся по сторонам до того, как перелезть через деревянную ограду, и побежал к грунтовой дороге, ведущей на старую мельницу.
Как мне представить вам мою любимую мельницу? Она стояла на насыпном холме, стояла, исполненная ожидания, хоть и без крыльев, глядя на запад, ее купол луковицей был крыт шифером, восьмиугольная башня из скрепленных гвоздями планок благополучно выдержала два удара молнии. Высоко врезанные окна в белых рамах были разбиты, изрубленная на куски крестовина валялась в траве на восточной стороне, между отслуживших жерновов, колес с выломанными спицами и подков. Расщепленная дверь не закрывалась годами, пока я не выровнял под ней грунт и не переставил петли. Дождь, ветер и годы так износили платформу, что она провалилась. В моей мельнице тянуло сквозняком, в ней трещало, свистело и стучало, а когда ветер менял направление с запада на восток, в куполе поднимался грохот и сверху, визжа, опускался таль, но не находил внизу груза. Тут вдребезги разбивались стеклянные осколки, по току беззвучно шастали летучие мыши, похожие на куски картона, а отставшая жестяная обшивка гремела от малейшего прикосновения. Расхристанная и полуразрушенная, кинутая на произвол судьбы, усеянная засохшими кучками нечистот, почерневшая и никому не нужная, стояла моя мельница в поле зрения между Ругбюлем и Блеекенварфомг, и если она еще на что-либо годилась, то разве лишь на то, чтобы каждый раз приводить нас в удивление, ибо весной она не страшилась никаких ураганов, и осенние бури были ей нипочем.
Но нам нельзя больше медлить снаружи, даже если мы еще не все сказали про общий вид мельницы, например про ее отражение в мельничном пруду и про выдолбленные в двери инициалы, сердца и стрелы; у нас нет времени для подобных наблюдений, нам надо, пригнувшись к земле, бежать по грунтовой дороге мимо провалившейся платформы к входу, глубоко врезанному в насыпной холм. Да и сам Клаас, как я понимаю, ничего поначалу не разобрал в моей мельнице, кроме ее высоких темных очертаний, ему и не нужно было ничего видеть, ведь он всецело доверился мне; тяжело дыша, топал он за мной следом, прижимая к себе больную руку и низко опустив голову, так что видел, пожалуй, одни мои босые ноги.
Я распахнул дверь. Я впустил Клааса, втолкнул его на лестничную клетку и закрыл дверь. Мы стояли рядом, прислушиваясь к тому, что делается наверху, но ничего не слышали, кроме заглухающей стукотни катерка, не слышали даже полета летучих мышей, хотя его обычно слышишь, едва ступив в мельницу. Острый, узкий сноп света дрожал в полумраке. Мне еще помнится, как тянуло сквозняком и как шаталась деревянная лестница, хотя насчет лестницы не скажу, может быть, это мне теперь кажется. Клаас ощупью нашел мою руку и спросил:
— Здесь?
— Наверху, моя каморка наверху, — пояснил я. И повел его по лестнице наверх, в мукомольню, где приставил стремянку, которую прятал за мучными ларями; мы взобрались наверх и протиснулись в люк, втянули за собой стремянку и снова приставили, пока не очутились в каморке под куполом; эту каморку мне и хочется назвать своей.
Клаас отстранил меня и вошел первым, он тотчас же увидел под окном постель из камыша и мешков, но не лег и даже не присел на ящик из-под апельсинов, хотя поднимался из последних сил; вместо этого он удивленно уставился на мои картины, расчесал пальцами свалявшиеся волосы, быть может, даже протер глаза, но ни на числе картинок, ни на их качестве это не отразилось. То были главным образом изображения всадников, которыми я оклеил стены моего тайника в старой мельнице. Вскоре после шестидесятилетнего юбилея доктора Бусбека принялся я вырезать из календарей, журналов и книг иллюстрации, изображающие всадников, чтобы заклеить ими сперва щели, а потом и самые стены: наполеоновские кирасиры неслись на вас во весь опор; император Карл V объезжал верхом Мюльбергское поле сражения; князь Юсупов в татарском наряде гарцевал на арабском скакуне; королева Изабелла из династии Бурбонов скакала на белой андалузской лошадке, выделявшейся в вечернем освещении; драгуны, наездники, охотники, рыцари — каждый по-своему сидел в седле и критически оглядывал других — при желании вам слышался конский топот и ржание.
— Что тут происходит? — спросил Клаас.
— Это выставка, — ответил я, — здесь работает выставка.
Клаас кивнул и улыбнулся полудовольной, полустрадальческой усмешкой. С трудом дотащился он до моего ложа и упал на него без сил, а я сел у изголовья и переводил взгляд с него на мои картины: он закрыл глаза и, казалось, прислушивался к тому, что преследовало его и здесь, не давая успокоиться. Он не мог отрешиться от своих мыслей, не мог расслабить мышцы и растянуться во всю длину, в нем чувствовалась неослабная готовность — вскочить, чтобы поискать укрытия, или разбежаться перед прыжком, он прятал неуклюжую повязку, прикрывая ее своим телом. Я положил ему руку на грудь. Он вздрогнул. Я вытер ладонью его взмокшее лицо. Он подскочил. И только когда я сунул ему в рот сигарету, успокоился и поднял обе ноги на постель из камыша и мешков, слишком для него короткую.
— Нравится тебе моя прятка? — спросил я, а он испытующе на меня поглядел.
— Если ты кому-нибудь заикнешься, мне крышка. Смотри, никто не должен знать, особенно те, дома. Это славная прятка, малыш!
— Тут еще не было ни души, — похвалился я.
— Это хорошо, — сказал он, — но никто не должен знать, что я здесь.
— А отцу, — возразил я, — отцу-то ведь можно сказать, он тебя выручит. — На что мой брат внушительно, почти с угрозой:
— Я убью тебя, малыш, если ты ему хоть слово скажешь, понял? — Он вскинул на меня свои узкие светлые глаза, очевидно чего-то ожидая, и вдруг схватил меня и шваркнул об пол рядом со своим ложем, а потом всей тяжестью своего страха навалился на меня и придавил, пока я не понял, что ему нужно, и все пообещал, а тогда, изможденный, но довольный, он опустился на постель и приказал мне вытащить из разбитого окна закрывавший его лист картона.
Когда мы выглянули на залитую солнцем равнину и обшарили и обследовали ее до самой кривизны дамбы, до маяка под красной шапкой, наши лица сблизились и почти касались друг друга; машину мы увидели одновременно. Она вывернулась с Хузумского шоссе и теперь приближалась, солнце било в ветровое стекло, темно-зеленая машина медленно катила мимо зеркальных рвов, внезапно свернула на кирпичную дорожку к Ругбюлю и поехала еще медленнее, но все не останавливалась, пока не исчезла за растрепанной хольмсенварфской изгородью, а затем снова вынырнула, когда я уже ее не ждал. И опять с ветрового стекла брызнуло слепящее солнце. Коровы в ожидании машины трусцой сбегались к самой проволоке, но в последнюю минуту прыжком с испугу поворачивались тяжелой хребтовиной вбок, между тем как автомобиль беззвучно катил вперед и остановился перед табличкой «Ругбюльский полицейский пост». Кто-то опустил стекло, и в окно высунулась голова и часть плеча в глянцевитой коже. Если выглянувшему нужно было только прочитать надпись на табличке, то и для этого требовалось время, так трудно было разобрать выбеленную дождями и дважды подрисованную надпись.
Клаас схватил меня за локоть и все крепче сжимал его в невольном возбуждении; тут дверцы машины отлетели, четверо мужчин в кожаных пальто вышли и без дальнейших переговоров двинулись с двух сторон к нашему дому и умело, заученным приемом взяли его в обхват — четверо мужчин в одинаковых пальто и шляпах, руки засунуты в карманы. Очевидно, им было не впервой рассыпаться цепью и незаметно двигаться вперед — один из них без малейшего усилия перемахнул через забор.
Теперь-то я понимаю, отчего Клаас, не глядя на меня и не ослабляя тисков, сжимавших мне руку, сказал: «Беги, малыш, во всю прыть, беги домой». Понимаю, почему, не дав мне времени что-то спросить, он властно и бесцеремонно пихнул меня к люку. «Беги во все лопатки!» Вот и все, что он сказал, и только, когда я уже спустился со всех лестниц, вдогонку крикнул: «Жратвы! Когда вернешься, принеси чего-нибудь пожрать!»
И так как я всегда слушался брата Клааса, то мгновенно, как он и требовал, слетел по стремянке вниз, спрятал ее за мучные ящики, стрелой, как он и требовал, помчался к мельничному пруду, пробился через камыш, добежал до шлюза, а там, согнувшись, и дальше, по откосу рва. И только у старой тележки позволил себе выпрямиться и принять беззаботный вид: здесь меня уже нельзя было упрекнуть в самовольной отлучке из дому. Слоняющейся походкой побрел я к машине, все еще стоявшей под табличкой, обошел ее кругом, с интересом прочитал на спидометре ее предельную скорость и разок надавил на сигнал, вследствие чего какой-то коренастый коротыш в кожаном пальто выскочил из дома и схватил меня за шиворот. Откуда я взялся, пожелал он узнать, а также извольте ему объяснить, что я здесь делаю. Чтобы сразу ответить на все вопросы, я назвался и показал на свое окошко.
— Вот где я живу.
Не довольствуясь моим ответом, коренастый поволок меня за ворот в дом, в родительскую контору.
Здесь все были в сборе, против окна сидели двое в кожаных пальто, а перед ними в брюках и нижней рубахе, с наброшенными на плечи помочами, небритый, немытый и нечесаный, короче говоря: перед негнущимися фигурами в коже униженно сидел ругбюльский полицейский, которого, очевидно, только что подняли с постели и который выглядел сейчас по меньшей мере лет на девяносто пять. Когда спросили, его ли я сын и проживаю ли в этом доме, он долго меня разглядывал, словно узнавая с трудом, но на повторный вопрос кивнул, слава богу, еле-еле, но кивнул, и тут уж меня перестали дергать за шиворот. Коренастый коротыш отпустил меня, сложил на спине руки и, став прямо перед отцом, давай раскачиваться; взад-вперед раскачивался он. на своих резиновых подметках, вылупив телячьи глаза на изречение в рамке, висевшее над письменным столом: «Кто рано встает, тому бог дает». Так как никто меня не прогонял, я наскоро огляделся в родительской конторе, куда вход был мне строго-настрого воспрещен, но здесь не было ничего для меня интересного, разве только держатель с четырьмя свисающими вниз печатями, как свисает с полицейской сабли темляк, отсвечивающий серебром. Отец сидел со снулым и преданным видом, словно он здесь ни при чем, руки его плашмя лежали на ляжках — сидел, напряженно выпрямившись и прислонясь к спинке стула, втянув подбородок, с полураскрытым ртом. Он не мог скрыть, что о чем-то мучительно думает, хоть краешком глаза и поглядывал на коренастого коротыша, который с оскорбительной неторопливостью рассматривал фотокарточки, украшавшие стену над письменным столом.
Что рассказывали фотокарточки? Они рассказывали о Глюзерупе и о темной тесной лавчонке, где некий Петер Пауль Йепсен торговал свежей морской рыбой, они сообщали, что у рыботорговца Йепсена родилось пятеро детей, из коих худенький мальчонка, с сухим недоверием глядевший на фотографа, разительно походил на ругбюльского полицейского. Фотокарточки извещали о состязании между двумя семействами в ловле крабов; они показывали глюзерупский детский хор, причем, так сказать, в действии, с навечно разинутыми ртами; затем они представляли первоклассника Йенса Оле Йедсена, прижимавшего к груди огромный кулек с подарками, представляли одноименного конфирманта, а также левого защитника глюзерупской футбольной команды. Овальная карточка утверждала, что в свое время имелся также юный артиллерист Йепсен, склонивший колена перед легкой гаубицей, словно перед алтарем; тот же артиллерист в Галиции, на сей раз в шинели, вместе с другими артиллеристами распевал у рождественской елки. Растянувшись на земле перед усатой спортивной командой, лежал Йенс Оле Йепсен, курсант полицейского училища, а позади угрожающе вздымались гамбургские кирпичные казармы. Затем в поле зрения появилась некая Гудрун Шессель; фотокарточки сообщали о ее пристрастии к белым платьям и белым чулкам, они показывали длину ее рыжих кос, ниспадающих ниже спины, они также восхваляли ее умение читать — каждая карточка изображала ее с книгой в руке. О том, что Йенс Оле Йепсен и Гудрун Шессель в один прекрасный день соединились, свидетельствовал снимок, на котором свадебные гости, вытянувшись по струнке или, если хотите, словно аршин проглотив, стояли вокруг брачующихся с неподвижным взглядом и поднятыми вверх бокалами, очевидно крича «ура», но только самым благонамеренным образом. Фотоснимки удостоверяли поездку молодой четы в Берлин, а также прогулку оной из Бингена в Кёльн на рейнском пароходе, и, наконец, один фотоснимок утверждал, что у четы родилось трое детей: Клааса и Хильке вполне можно было узнать, а плешивое чучело в высокой коляске, очевидно, изображало меня.
Коренастый коротыш не спеша разглядывал эти фотографии, тогда как отец покорно сидел и с места не двинулся даже, когда посетитель, взяв служебный журнал, стал просматривать последние записи, внесенные округлым почерком. Остальные присутствовали только в качестве неподвижных фигур, один, правда, курил, не вынимая изо рта сигареты. Если у них даже имелось что сказать друг другу, то это, видимо, давно уже было сказано. Я забился в угол и ждал чего-то чрезвычайного, но тут в контору бесшумно вошла моя мать, коротко кивнула мне, схватила за плечи и поволокла в кухню, где на небольшом столике уже стоял мой завтрак: подслащенная каша из овсяных хлопьев и ломоть хлеба с ревеневым повидлом.
— Ешь, — сказала она беззвучно, и я стал завтракать под ее надзором. Но заметил, что она напряженно прислушивается к тому, что происходит в конторе.
— Они что-то ищут, — сказал я, а она:
— Ешь и не вертись.
— Должно быть, из Хузума, — не унимался я.
— Тебя не спрашивают, — отвечала она, захлопнув кухонную дверь, налила себе чашку чаю и стала пить стоя.
— Может, они и отца увезут в машине? — поинтересовался я.
Мать пожала плечами.
— Почем я знаю! — отозвалась она с запинкой, поставила чашку и вышла в прихожую.
Я скосил глаза на мельницу, где меня дожидался Клаас, и открыл разбухшую дверь в кладовку: кувшин с маринованными огурцами, полкаравая, солонина, несколько луковиц, коричневая миска с неподслащенным ревеневым повидлом, кубик маргарина, копченая колбаса, четыре сырых яйца, пакет муки и мешочек овсяных хлопьев — вот и все, что я обнаружил. Я слизнул повидло со своего ломтя, переломил его пополам и сунул в карман. В конторе теперь раздавались громкие голоса. Говорил все больше коренастый, но и другие подавали голос, и только отец молчал как убитый; вдруг мать скользнула ко мне в кухню, быстро схватила чашку и поднесла ко рту; тут мужчины вышли в прихожую, каждый на прощание подал руку ругбюльскому полицейскому, да и к нам они заглянули, пожелал нам приятного аппетита и все такое прочее, прежде чем нерешительно выйти из дома, но и тут пошли не к машине, а, разделившись, принялись наметанным глазом обозревать окрестность — рвы, луга, кустарники — до самой дамбы: нигде никакого движения, никто не стоял, не лежал, не сидел на корточках, кто мог бы вызвать у них подозрение. Один из них безуспешно поискал в сарае, другой осмотрел шлюз. Гнилую тележку они тоже проверили насчет ее безобидности, а коренастый коротыш вынул из машины полевой бинокль и долго оглядывал торфяные пруды. К машине они воротились с недовольным видом и уехали явно разочарованные.
Отец, стоя на крыльце, следил за их отбытием; они катили не торопясь, замедляя ход у рвов. Отец так и с места не двинулся, пока машина не свернула на Хузумское шоссе, и только тогда вошел в дом и как был, раздетый, сел за кухонный стол и сложил одну на другую руки. Деревянно сидел он в своей шершавой нижней рубахе с переброшенными через плечи помочами, глаза его слезились, челюсти похрустывали, словно он что-то жевал; он не видел чашки чаю, которую сунула ему мать, не видел меня, и отнюдь не по рассеянности: напротив, по лицу его было заметно, что он прекрасно понимает не только причину, но и все последствия, вытекающие из этого раннего посещения. Он вычислял. Он взвешивал и обдумывал, перечеркивал и принимался взвешивать заново. Брови его подергивались. Он тяжело дышал. Внезапно подняв правую руку, отец бессильно уронил ее на стол и сказал матери:
— А ведь он может заявиться к нам.
— Его уже ищут? — спросила мать.
— Его держали в тюремной больнице, оттуда он и сбежал. Его везде ищут.
— Когда он сбежал? — спросила мать.
— Вчера, — отвечал отец, — вчера вечером и только себе навредил, я справлялся — если бы Клаас высидел, дело обошлось бы тюрьмой или штрафным батальоном, а теперь крышка.
— Почему же, — допытывалась мать, — почему он это сделал?
— Спроси его сама, — сказал отец. — В дверь постучат, и это окажется он, вот ты его и спросишь.
— К нам он не придет, — сказала мать, — после всего, что мы от него натерпелись, он не посмеет сюда явиться.
— Еще как придет, — возразил отец. — Здесь все началось, здесь все и кончится: он попадет им прямо в руки.
— Уж не хочешь ли ты предостеречь его или, чего доброго, спрятать, если он объявится?
— Ума не приложу, — сказал отец, — ума не приложу, что делать. — А она:
— Но ты, надеюсь, понимаешь, чего от тебя ждут?
Она накрыла для него стол, достала хлеб, достала маргарин и коричневую миску с ревеневым повидлом, пододвинула к нему поближе и, казалось, почувствовала облегчение, разделавшись с этой скучной повинностью. Сама же так и не села, налила себе чашку чаю, прислонилась спиной к кухонному шкафу и сказала:
— Я, во всяком случае, больше знать его не хочу. С Клаасом я порешила. И если он здесь объявится, на меня пусть не рассчитывает.
Отец оглядел предложенный завтрак, но так к нему и не притронулся.
— Когда-то ты другое говорила, — напомнил он, — к тому же он ранен.
— Ничего он не ранен, он сам себя изувечил.
— Да, — сказал отец, — да, да, он сам себя изувечил, но для этого тоже что-то требуется, — а мать после короткой паузы:
— Страх для этого требуется, только страх!
— Клаас был у нас самый способный, этот парень добился бы большего, чем я, — возразил отец.
— Мы только о нем и пеклись, — сказала мать, — вечно только о нем. А он? Если он самый способный, так мог бы, кажется, сообразить, к чему это приведет, то, что он над собой сделал. А теперь поздно.
Отец ничего не пил и не ел. Он все поглаживал свои редкие волосы, а то вдруг схватится за левое плечо, должно быть, застарелая боль давала себя знать.
— Клааса покамест здесь нет, да, похоже, ему и не выбраться.
— А если он выберется? — спросила мать.
— Тогда я знаю, к чему меня обязывает мой долг, — сказал отец, но в голосе его прозвучал затаенный упрек. Он повернул к матери небритое лицо, поглядел на нее испытующе и добавил: — Чему быть, того не миновать: на этот счет можешь не беспокоиться, — встал и двинулся к ней с протянутой рукой, но мать уклонилась от его прикосновения, проворно поставила чашку, пятясь, обошла стол, отступила к двери и без единого слова поднялась наверх, где скорее всего заперлась в спальне.
Отец пожал плечами. Он сбросил помочи, подошел к раковине, взял с угловой полки кисточку и мыло и, слегка откинувшись назад и расставив ноги, принялся намыливаться над раковиной, не спуская с меня глаз.
— Ты, конечно, слышал, — обратился он ко мне, — Клаас сбежал и, возможно, здесь объявится. — Я шлепнул себе в кашу повидло и хранил молчание. — Он наверняка здесь объявится, — продолжал отец, — свалится как снег на голову, и подавай ему то и другое, провизию и местечко, где он мог бы схорониться, — так ты ничего такого не делай, не сказавшись мне. Каждый, кто возьмется ему помогать, будет отвечать по закону, и ты, ты тоже будешь отвечать по закону.
— А что с Клаасом сделают, если его поймают? — спросил я.
На что отец, стряхивая с пальца мыло, как стряхивают сопли, только и сказал: — То, что он заслужил. — После чего взял бритву, скривил лицо и стал скрести от ушей вниз, вытянув губы трубочкой, словно собираясь что-то насвистать, в то время как я рассеянно ковырял ложкой кашу, до тех пор ковырял серо-белые хлопья, пока отец не кончил бриться. Ему по-прежнему не хотелось пить и есть. Он вымыл бритвенный прибор, натянул помочи, все это сосредоточенно, не спеша, долго нашаривал давно отлетевшую пуговицу, высморкался, не пожалев времени заглянуть в носовой платок, и даже подошел к окну и долго созерцал Хузумское шоссе, где ровно ничего не происходило и только солнце плавило асфальт.
Когда он наконец после дальнейших оттяжек, как-то: наваксить сапоги, прочистить трубку, завести будильник — вышел из кухни и направился в контору, я выпил налитый ему чай, отнес в кладовку хлеб, маргарин и миску с волокнистым, ударяющим в зелень и легкую красноту ревеневым повидлом, поставил все на место и прислушался. И так как ниоткуда ничто не угрожало, отрезал несколько ломтей хлеба в палец толщиной и отправил за пазуху, а за ними кусок копченой колбасы и два яйца, отчего у меня запузырилась рубашка над поясом. Я понемногу перекатил свои припасы назад, пока не ощутил позвоночником холодные яйца и крошащийся хлеб. Колбасу запихнул в карман. Еще отрезал ломтик белесой солонины и спустил по позвоночнику вниз. Рубашка у меня сзади вздулась, подобно очень низко свисающему рюкзаку, но мне и этого показалось мало. Яблоки, спохватился я, вспомнив гравенштейны в моей комнате на шкафу, и решил несколько штук припрятать за пазуху. Итак, я вышел из кухни и стал подниматься по лестнице, держась поближе к стенке и чувствуя, как на каждом шагу яйца, хлеб и мясо ерзают у меня по спине и холодят ее, благополучно проскользнул наверх и мимо неприятельской спальни, открыл дверь к себе и обмер: на моей кровати с открытыми глазами лежала матушка. Выходит, она удалилась не в спальню, как я полагал, и не стояла там у окна, как я представлял себе, с надменно поджатыми губами, за занавеской, чтобы почерпнуть утешение у дамбы, у горизонта или у сверкающих вод; в моей кровати лежала она, свернувшись, укрытая по грудь, бросив белые в веснушках и гречке руки поверх одеяла. Потом это повторялось так часто, что уже не смущало меня, но в тот день зрелище это пригвоздило меня к месту. Я только таращился на нее. Я даже не задался вопросом, по какому случаю мать — и вдруг в моей постели и так далее, и прочее тому подобное. Волосы ее рассыпались по подушке. Тело, скорее плоское, казалось под одеялом тучным. Уж не задумала ли она выжить меня из моей комнаты? А ну, как она решила насовсем ко мне перебраться? Лежа она вдруг напомнила мне сестрицу Хильке.
Ее открытые глаза ничего не поясняли, да она и не думала передо мной извиниться. Сырое, прохладное прикосновение в области позвоночника заставило меня опомниться, и я стал думать, как бы половчее исчезнуть из ее поля зрения. Я решил ретироваться задом, как кошки ретируются из магического круга, потянулся к дверной ручке и уже ступил за порог, как она меня окликнула:
— Поди сюда и стань ближе. — Я послушался. — Повернись, — сказала она. Я повернулся и подобрал зад, мне и в самом деле казалось, будто я могу скрыть свисающий мешок, который образовала на спине моя рубашка, но тут она прибавила: — Выкладывай все, что набрал, — и я передвинул припасы с позвоночника на пупок, полез за пазуху, вытащил все как есть, одно за другим, и сложил на полу: хлеб, яйца и ломтик белесой говядины. Я приготовился к любому вопросу, хотел рассказать про свой тайник — не в мельнице, а на полуострове, в сторожке птичьего смотрителя, — сославшись на необходимость создать запас на случай плохих времен, но мать ничего этого не стала слушать. — Все отнесешь назад в кладовую, — сказала она. В голосе ее не слышалось ни угрозы, ни предостережения, ни даже разочарования, он звучал страдальчески, когда она приказывала мне все, что я собрал для Клааса, вернуть на место, и я долго глядел на нее с удивлением, ожидая, ожидая неминуемого наказания- напрасный страх! — мать даже улыбнулась и подбадривающе мне кивнула; тут уж я вытащил рубашку из штанов, собрал все в подол и отнес в кладовку.
Что с ней приключилось? Почему она не наказала меня? Я положил яйца к яйцам, мясо к мясу, колбасу к колбасе и только сложенный пополам ломоть сохранил в кармане и несколько раз ударил по нему, чтоб не выпирал из штанов.
Я все поглядывал из окна кухни на мельницу, ожидая оттуда сигнала, а между тем отец в конторе принялся разговаривать по телефону на свой обычный манер: ой громогласно выкрикивал короткие фразы-донесения, по нескольку раз повторяя последнее слово каждой фразы. Разговаривать по телефону нормально он был просто неспособен, и я надеялся, что мать, как не раз случалось, спустится закрыть дверь конторы, что не мешало домашним слышать каждое слово, но все же было не так мучительно; однако наверху дарила мертвая тишина. Оконце, за которым лежал, дожидаясь меня, Клаас, тоже не подавало признаков жизни. «Бумаги из Хузума получены», — ревел отец. Я представлял себе, как брат спит на ложе из сухого камыша и мешков, подобравшись, словно для прыжка, сохраняя и в чутком сне настороженную готовность. «Никаких особых происшествий, — кричал отец, — про-ис-шествий!»
Я прикидывал, какой предпочесть маршрут, чтобы незаметно пробраться на мельницу, мысленно проходил мимо рвов, испытующе поглядывал на дамбу, сокрушался об отсутствии подземного хода и, придумывая окольный путь, увидел Окко Бродерсена, который от Хольмсенварфа со своей почтовой сумкой направлялся в нашу сторону. Велосипед его отчаянно восьмерил. Обшарпанная кожаная сумка, очевидно, мешала почтальону удерживать равновесие. «Сообщение последует незамедлительно», — надрывался отец.
Окко Бродерсен держал курс сюда; прогромыхав по бревенчатому мостику, он, разговаривав сам с собой, подъезжал все ближе, метя в наш столб с указательной табличкой, но в последний миг, вильнув, проскочил мимо и, описав крутую дугу, приземлился у нашего крыльца.
С проклятиями слез он с велосипеда, пустой, сколотый булавкой рукав его форменной тужурки подпрыгивал и лягался, как от электрических разрядов. Рывком передвинув сумку на живот, поднялся он на крыльцо и, не постучав, вошел в кухню, где и пожелал всем, кого это касается, доброго утра, после чего сел за кухонный стол и, вытащив из кармана часы, положил их перед собой. Казалось, он остался ими доволен, так как милостиво покивал, но, когда я захотел поближе на них взглянуть, помешал мне, положив передо мной открытку с видом Гамбурга.
— Вот, прочти, — сказал он, — если умеешь читать. Хильке собирается приехать, твоя сестра навсегда возвращается домой.
— Последует незамедлительно! — выкрикнул отец в своей конторе.
— Можешь в воскресенье ехать за ней на вокзал, — добавил почтальон и продолжал с довольным и каким-то даже любовным вниманием глядеть на часы, что он, кстати, делал всегда, стоило ему присесть; порой мне приходило в голову, что его часы по-другому исчисляют и показывают время, нежели все прочие часы, и что ему хочется понять, в чем, собственно, разница.
Старого однорукого почтальона нисколько не интересовал рев отца; погруженный в наблюдение за часами, он, посапывая, терпеливо дожидался, покуда отец повесит трубку и выйдет в кухню; дождавшись, он привстал, и мужчины обменялись рукопожатием, называя друг друга по имени с вопросительной интонацией: — Йенс? — Окко? — Почтальон взял у меня открытку, протянул отцу вместе с газетой и снова сел. Он огляделся в кухне, словно что-то искал.
— Чаю? — осведомился отец. — Не выпьешь ли чашечку чаю?
— Вот-вот, — сказал почтальон, — как раз то самое: чашечка чаю. — И тут они стали чаевничать, поочередно расхваливая крепкий и сильно подслащенный чай и поглядывая друг на друга каждый через край своей чашки. Вот и все, чем они были заняты, а на самом деле далеко не все, каждый про себя только и думал, как бы незаметнее подобраться к тому, что, собственно, должно было послужить темой их разговора; так уж у нас ведется: начинают всегда исподволь, с прохладцей, словно между прочим, не повышая голоса.
Потому-то я и не могу позволить Окно Бродерсену начать с места в карьер о том, что его беспокоит; для того чтобы он остался себе верен, я должен помедлить, хотя бы упомянув тот предварительный разговор, который оба земляка повели за кухонным столом, безбоязненно уснащая его паузами; они говорили об атаках на бреющем полете и о велосипедных шинах — я должен вновь претерпеть ту обстоятельность, в какую они вдавались, расспрашивая в подробностях о самочувствии всех близких и родных; я должен также упомянуть их неторопливые, хорошо рассчитанные жесты и движения. Пустой рукав Бродерсенова мундира мел по кухонному столу. Отец сгибал газету и разглаживал ее по сгибу. Бродерсен, поглядывая на часы, рассказывал, как трудно купить велосипедные шины. Ругбюльский полицейский нет-нет да и поднимал голову, словно ему слышались в доме подозрительные шумы.
Так они постепенно шли на сближение, каждый обстоятельно и долго готовил другого, пока старый почтальон не счел себя вправе завести разговор о цели своего прихода:
— Оставь его в покое, Йенс, — сказал он, на что мой отец — он, похоже, только и ждал этого:
— Вот и ты туда же, болтаешь невесть что, точно старый Хольмсен; он вчера как раз заглянул ко мне вечерком и только про то и рядил, что, мол, оставь его в покое. А что, собственно, случилось? Запрещение писать картины пришло из Берлина, его не я придумал, да и конфисковать картины — тоже распоряжение из Берлина. У меня на все имеются твердые указания, и я их не превышаю.
— Говорят, ты за ним так и гоняешься, — сказал почтальон.
— Гоняюсь? — повторил отец, — что значит гоняюсь? Кто-то должен был ему сообщить, какое против него постановление, а здесь, на моем участке, это прямая моя обязанность.
— Говорят, — продолжал почтальон, — ты только и знаешь его караулить день-деньской и даже темной ночью.
— Раз запрещение, значит, требуется следить, — отмахнулся отец, но Окко Бродерсен был готов к этому ответу.
— Люди говорят, ты хватаешь через край, делаешь больше, чем с тебя спрашивают.
— Вы не знаете, что с меня спрашивают, — отвечал отец.
— Нет, — сказал почтальон, — этого они, конечно, не знают, но говорят, ты в этом случае перегибаешь палку. У тебя, говорят, лично против него зуб.
Ругбюльский полицейский передернул плечами; спокойно глянув на этого человека, который фигурировал с ним рядом на многих фотоснимках в конторе — и даже на том, овальном, где артиллеристы преклонили колена перед гаубицей, — он закрыл глаза, задумался и дал себе изрядно подумать, прежде чем сказать примерно следующее:
— У меня свое поручение, а он себе придумал свое. Я ему объявил, чего он не должен делать, а он мне объявил, что он и дальше будет это делать. Я не могу допустить исключений, а он, видишь, хочет быть исключением. Объясни это тем, кто так много говорит. Ступай к ним и преспокойно скажи, что каждый из нас делает свое: мы сказали друг другу все, что надо было сказать, и каждый понимает, что отсюда последует.
Почтальон кивнул, у него, по-видимому, не возникло никаких возражений, сам он так и не уточнил, к какому принадлежит лагерю.
— Есть и такие, что о тебе беспокоятся, — продолжал он, — считают, что времена могут измениться, а у него, как тебе известно, много друзей.
— Мне и не то еще известно, — отвечал отец, — мне известно, как с ним носятся за границей, он у них в большой чести, известно, что даже здесь, у нас, есть такие, что им гордятся, это и старик Хольмсен мне подтвердил, — он будто бы открыл красоту нашего ландшафта, или сам ее сотворил, или другим показал. Я даже слышал, будто на западе и на юге, когда думают про наши края, первым делом про него вспоминают… Чего только я не слышал, можешь мне поверить. Но беспокоиться?.. Кто выполняет свой долг, тому нечего беспокоиться, даже если времена когда-нибудь изменятся.
— Говорят, ты конфисковал все его картины за последние годы, — продолжал почтальон.
— Так на то был приказ из Берлина, я еще позаботился, чтобы в Хузум их доставили в отличной упаковке, а что с ними потом стало, не моя печаль.
— Их отослали в Берлин, — отвечал почтальон, — там половину сожгли, а остальные продали за границу, такие ходят слухи.
— Чего не знаю, того не знаю, — возразил отец, — про это я ничего не слышал, с меня за то и спросу нет, я отвечаю только за Ругбюль.
— Но отчего ему запретили писать картины и почему конфисковали все последние работы, уж это ты должен знать.
— В постановлении сказано, что он чужд народному духу и опасен для государства, что называется нежелательный элемент, короче сказать, как есть вырожденец, если ты понимаешь, что это значит.
— А все же некоторые за тебя беспокоятся, особенно двое, они, видишь, не забыли, что это он вытащил тебя из глюзерупского портового бассейна.
— Когда-нибудь надо же расквитаться, — сказал отец, — и мы теперь квиты. Так что возьми это в расчет, да и другим скажи, кто слишком много треплется. Оба мы из Глюзерупа, я и он, а с прошлым у нас покончено, и теперь от него зависит, что из этого произойдет.
— А все-таки оставь его лучше в покое, Йенс, — тянул свое Окко Бродерсен, и, в то время как отец на него воззрился, словно отказываясь его понять, почтальон взял часы, поднес их к уху, быстро подвел и опустил в карман. Он проглотил остатки холодного чая и с шумом встал. Он, видимо, торопился, возможно, его тревожило, что он наговорил лишнего; я помог ему передвинуть сумку на место. Простился он с отцом как-то мимоходом и вышел, не дожидаясь ответа, впрочем, ругбюльского полицейского это скоропалительное прощание, казалось, не раздосадовало и не огорчило, он не вскочил с места и не стал грозиться и даже вида такого не подал, а продолжал сидеть и о чем-то размышлять на свой суховатый, медлительный лад.
До чего же выразительно он умел размышлять! Хоть смотрел он на раковину и на медленно подтекающий потускневший медный кран, взгляд его был в известной мере устремлен внутрь, не слышно было дыхания, да и пульс, казалось, замедлился, и туловище как будто сникло, между тем как носки его башмаков неравномерно покачивались и только руки напряглись, они сжимали и тискали друг друга. Когда отец размышлял, ему не мешало, если кто-нибудь вертелся в поле его зрения, если при нем разговаривали или работали; он нисколько на это не сердился.
Я скосил глаза на мельницу, где меня ждали. Хлеб все больше оттягивал мне карман, его наличие становилось все заметнее. На подоконнике лежал мой самодельный голубой флажок, я взял его в руку и с минуту водил им перед носом отца. Движение воздуха, а может быть, и назойливость сигнала заставили его поднять голову, и я сразу же почувствовал, что он и меня включил в круг своих размышлений. Он зажег свою носогрейку. Он ощупал ячмень, задумавший сесть у него на глазу. А затем стал попыхивать трубкой, слегка причмокивая, и принял многозначительную позу. Я ненавижу это барственное посиживание, я боюсь этого знаменательного молчания, ненавижу это торжественное немногословие, этот обращенный в пространство взгляд и не поддающиеся описанию жесты, я страшусь, страшусь нашего обыкновения погружаться в себя, избегая слов.
Ругбюльский полицейский сквозь густой дым устремил на стену неподвижный взгляд — затуманенный ясновидящий взгляд, я бы не удивился, если бы на этом месте выступило пятно или вывалился кирпич.
Я хотел спросить разрешения уйти из дому, но не решался — не решался с ним заговорить, привлечь к себе его взгляд из глубины веков, а потому принялся молча выписывать флажком по комнате восьмерки и чуть было не сбросил с полки всю батарею банок саго-манка-рис-мука-перловка, как вдруг он схватил меня сзади, притянул к себе и сказал:
— Так не забудь, мы работаем на пару, как только что заметишь, сейчас же сигнализируй!
— Флажком? — спросил я, а он:
— Как угодно, только сразу же доложи. С нами вдвоем, Зигги, никто не сладит.
Это я уже от него слышал.
— Можно мне уйти? — поспешил я спросить.
— Ступай себе, — сказал он, — хотя бы и в Блеекенварф, но только не зевай. — Он хотел еще что-то добавить, но в конторе зазвонил телефон, он вскочил, испуганно положил трубку на блюдце, поправил волосы, разделенные четким пробором, и уже на ходу застегнул мундир; его донесение: «Ругбюльский полицейский пост, у телефона Йепсен» — я услышал уже на крыльце.
Я сбежал с крыльца, выбрался на кирпичную дорожку, никем не замеченный добежал до шлюза — во всяком случае, никто меня не окликнул, — присел на корточки и стал следить для верности за тем, как через шлюзные ворота стекает мутная вода, а там, дав крюку, вышел к дамбе и, дав другого крюку, вышел к камышовым зарослям, а затем уже бегом назад, к мельнице. Камышовые заросли и мельничный пруд я на этот раз миновал и, зайдя к мельнице с тыла, обогнул ее под прикрытием насыпного холма и надолго задержался у провалившейся платформы, покамест не убедился, что двое мужчин на лугу против кладбища в самом деле заняты дренажными работами; потом сполз вниз, к входу, и отворил дверь на лестницу.
Я не сразу его увидел. Я стоял молча в прохладном сумеречном помещении и прислушивался. За старым мучным ларем, где я прятал стремянку, раздался треск. Меня внезапно обдало сквозняком, и ушей моих коснулся укоризненный крик, нет, не крик, скорее шум, похожий на крик, и, как всегда, что-то проплыло высоко в пустом пространстве, что-то пронеслось в этих пленных сумерках, затрепыхалось и рухнуло, однако то не были чайки. Потом, когда я вытащил стремянку и хотел ее приставить, увидел я Клааса. Он лежал как раз подле мучных ларей, держа в здоровой руке конец веревки, а над ним медленно, беззвучно и безвинно качалась цепь старого таля, с помощью которой брат хотел спуститься вниз. Он решил удлинить цепь веревкой и кое-как их скрепил, но только цепь выдержала его тяжесть. Я отставил лестницу, опустился рядом с ним на колени, взял у Клааса конец веревки и вытащил ее из-под него всю целиком. По этой веревке я и сам собирался в случае необходимости спуститься вниз. Веревка, собственно, и не порвалась, она только не поладила с цепью и выскользнула из нижнего звена: благодаря сильному натяжению защемленный конец сплющился и почернел. Но как ни точно это объяснение, оно было бессильно поставить брата на ноги; когда я забрал у него веревку, он продолжал лежать в скрюченной позе, при взгляде сверху — в позе человека, бегущего в согнутом положении; во всяком случае, сейчас он не двигался и только постанывал, когда я осторожно встряхивал или толкал его.
Я достал из кармана хлеб и подал ему, подержал крошащийся ломоть у самого его лица и стал просить его поесть или по меньшей мере открыть глаза, но он только застонал, поднял руку в неуклюжей гипсовой повязке и бессильно ее уронил. Я отломил хлеба, поднес к его губам, слегка надавил, потом надавил сильнее, пока не наткнулся на сопротивление стиснутых зубов, мне так и не удалось засунуть ему хоть кусочек в рот. Сдвинуть его с места и подтащить к деревянной подпорке, чтобы он оперся на нее, я попросту не мог — он был слишком тяжел — и от нечего делать стал рассказывать ему, что творится дома.
Я терпеливо рассказывал, наклонившись к его круглому лицу, не в силах угадать, понимает ли он меня, а если что и понимает, то какие чувства или желания вызывают у него мои слова, но и это ничего не изменило: он все так же лежал передо мной, скрюченный и неподвижный; мне ничего не оставалось, как время от времени выходить из мельницы, становиться на сваленные в кучу изломанные доски бывшей платформы и наблюдать не только за дренажниками, занятыми своей работой, но и за одинокой неподвижной фигурой, стоявшей на крыльце гостиницы «Горизонт», и за все тем же домиком и сараем ругбюльского полицейского.
Но сколько можно продолжать наблюдение? И вот в одно из моих возвращений, когда я, ничего не подозревая, покинул свой наблюдательный пост, я увидел, что братец Клаас уже не лежит перед мучными ларями, а сидит, прислонясь к гладко обструганной подпорке. Он справился собственными силами и теперь не мог отдышаться, он смотрел на меня взглядом затравленного и медленными кивками все подтверждал: и панический страх, который охватил его, когда я его покинул, и неудержимое желание бежать из тайника, который представился ему ловушкой, и попытку удлинить старый таль, привязав к нему веревку, и попытку спуститься вниз, держась за нее одной рукой, и свое падение, все это он подтвердил, но к этому еще добавил боль в нижней части живота, прижав к нему здоровую руку, откинув голову назад и закрыв глаза. Он и теперь не стал есть. Я поднес ему хлеб на ладони, но он от него отказался.
— Вон отсюда, малыш, — выговорил он с трудом, — уведи меня отсюда, — а я ему:
— Пойдем домой, Клаас, когда они тебя увидят, они не откажутся тебе помочь.
— Болит, — простонал он, — здесь вот внизу болит.
— Я отведу тебя домой, — сказал я, а он снова:
— Нет-нет, только не домой, они меня выдадут.
— Куда же еще, если не домой? — спросил я. — К кому тебя отвести?
Но Клаас, видно, все уже обдумал, у него не случайно вырвалось:
— Художник, отведи меня к художнику, — а я ему:
— Ты не знаешь, что тут произошло.
— Он один меня спрячет, — твердил Клаас, — я уверен.
— Ты не знаешь, что произошло, — повторил я.
— Он не откажет, — настаивал Клаас и приподнялся с пола, ухватился за подпорку и помахал мне, чтобы я подошел. Он махал перевязанной рукой, и его приказание походило больше на угрозу. — Художник, — сказал он, — мне бы надо сразу туда, мне бы еще утром к нему постучаться.
Клаас выпустил из руки подпорку, оперся на меня, сперва попробовал, какую часть своего веса он может мне доверить, это было не так уж много и с каждым шагом становилось все меньше, а когда мы вышли на солнце, снял руку с моего плеча, присел над лужей и принялся смазывать грязью свою гипсовую повязку. Он делал это очень тщательно, я помогал ему, мы натерли повязку мокрой коричневой торфяной землей и несколько раз обмакнули в лужу, пока она не сделалась похожей на комковатый кусок торфа более, чем обычно, удлиненной формы, а потом отправились в путь, проскользнули мимо мельничного пруда, нагнувшись, пробрались к рвам. Чем ближе к Блеекенварфу, тем настойчивее уговаривал я его повернуть домой; Клаас слушал меня безучастно и ни слова не отвечал. Мы не доверяли окружающей тишине, не доверяли летней благодати, разлитой над черными рвами, полными тепловатой воды; у нас видно каждого выходящего из дому, и поскольку оба мы это знали, то не обманывались насчет пустынного горизонта. Так как мы знали, что всегда кто-нибудь, стоя неподвижно у забора, в воротах или у окна, оглядывает зоркими глазами равнину и рвы, то бежали к Блеекенварфу, как будто нас давно приметили или даже гонятся за нами: короткими прыжками мимо шлюзов, топая по высокой траве откосов, увязая на водопоях, оскальзываясь на истоптанных копытами полянах, куда сгоняли доить скот, — я еще сейчас ощущаю, как визжала и сотрясалась проволока изгородей, когда мы нетерпеливо ее раздвигали, чтобы проскочить, и сейчас еще вижу, как мы припадаем к земле и слушаем. Я бежал вместе с Клаасом, потому что выполнял все, чего требовал Клаас, и дело тут было не в трепавшем его страхе и не в мучительной боли, от которой он стонал, когда мы бросались на землю. Я сопутствовал ему в этом беге, хоть и был убежден, что Макс Людвиг Нансен отошлет нас обратно — наверняка на мельницу, если не домой.
Остаток пути мы пробежали выпрямившись. Здесь мы находились под защитой блеекенварфского кустарника. За деревянным мостиком Клаас свалился, он еще попытался встать с колен, но силы его иссякли. Он снова рухнул, на этот раз ничком. Я проскользнул в лаз, глянул в сад и на дом, но нигде никого не увидел и, воротившись к брату, с трудом перевернул его на бок. Голову уложил на ворох травы.
— Привести его сюда? — спросил я и, так как брат бессмысленно на меня уставился, еще раз, настойчиво: — Привести его сюда?
— Да, — шепнул он еле слышно, — да.
Прежде чем уйти, я присел и по возможности почистил на нем френч, я рвал охапками траву и оттирал присохшие нечистоты, а также вытер от грязи башмаки. Поправил на нем воротник и застегнул френч.
— Лежи спокойно, — сказал я, — никуда не отходи, — и с этим его оставил.
Протиснувшись в лаз и став в удобной позе — справа и слева по суку в каждой руке, — я наблюдал за садом, домом и мастерской, так как решил идти наверняка и по возможности избежать встречи с Юттой и Постом, ее жирным братцем, — я отнюдь не собирался посвящать их в наши дела. В цветнике среди грядок бегали куры, гамбургские золотистые крапчатки и бельгийские леггорны, они копались в земле между циниями и люпинами, склевывали насекомых с лилий и т. д. Никого не видать, в беседке ни души. Все четыреста окон отказывались дать мне малейшую справку. Кто толкнул качели под яблоней? Почему шевелится высокий мак? В мастерскую, сказал я себе, ищи его в мастерской. Вошел в сад, прошмыгнул мимо кустарника, не спуская глаз с цветника и дома, и кружной, прочищенной граблями дорожкой вышел к мастерской с заднего крыльца. До меня доносились голоса, я прислушался: нет, это был один голос, он то ставил раздраженные вопросы, то отбивался ироническими ответами. Дверь оказалась незапертой. Я тихонько открыл ее, скользнул внутрь и снова услышал голос художника откуда-то со стороны: там перепалка была в разгаре, должно быть, это был тот самый раз, когда художник сказал: «Не мели вздор, Балтазар, в каждой картине есть действие, это действие — свет». Босиком по крепким половицам я подкрался ближе — я и сейчас вижу, как крадусь на цыпочках, — влез на один из топчанов, отогнул край одеяла, заменявшего портьеру, и увидел художника в его старом синем плаще и шляпе. Он работал. Он ссорился со своим Балтазаром и работал над «Ландшафтом с неизвестными людьми».
Картина была прикреплена к правой створке шкафа, слева в открытых ящиках лежали «вспомогательные средства», как он называл краски. Достаточно было двойного толчка, чтобы захлопнуть обе створки и скрыть из виду полотно и краски. Но в данную минуту я не поручился бы, что чей-нибудь шаг, или голос, или подозрительный шум был бы им услышан и воспринят как настораживающий сигнал: художник был так увлечен спором, так одержим желанием доказать своему неизменному напарнику в фиолетовой лисьей шубе, что ландшафт, где исполинские неизвестные люди стояли хорошо вписанной группой, предчувствующей близкое насилие и гибель, должен быть написан не в меркнущем свете и не в расплывчатых красках, а с пугающей резкостью, скажем, в ярко-оранжевых тонах, с белыми, словно кроющей краской нанесенными крапинами. В черно-серое брошен резкий зов: желтое, коричневое и белое, скоро расточится немота, затаенность, тупое безразличие и начнется драма. А внизу — минеральная зелень, без этого у него не обходилась ни одна картина, из минеральной зелени все у него и возникало; однако Балтазар не мог или не хотел это уразуметь.
Я посмотрел на художника, на неизвестных людей и снова на художника; прислушиваясь, он, казалось, повторял выражение лиц и позы своих персонажей, явно чувствовавших себя под угрозой, — чужие, отданные на произвол, среди ландшафта, куда они, странствуя, попали не случайно, а куда их забросили или загнали насильно. Мне в то время мешали — да и сейчас мешают — их головные уборы, смесь тюрбанов с фесками, возможно напоминающие о каких-то турецких войнах. Но их отчужденность, их потерянность, их страх — независимо от любых времен — подтверждались всем настроением ландшафта.
А теперь я намерен опустить край одеяла, отгораживающего топчан от мастерской, и еще раз зайти в мастерскую, на сей раз, так сказать, официально, не боясь шума, ибо именно так я и поступил. Я на цыпочках подошел к двери, постучался, отворил ее, закрыл за собой и крикнул:
— Дядя Нансен! Ты здесь, дядя Нансен?
Он ответил не сразу, сначала запер шкаф и вытащил ключ и уже потом откликнулся:
— Что случилось? Кто там? — И не спеша показался из необозримой глубины мастерской, но не сердито и нехотя, как это бывает, когда его оторвут от работы, а добродушно шаркая ногами. Я подождал, пока он подойдет к порогу.
— Вит-Вит, — сказал он, увидев меня, но сказал спокойно, без чувства облегчения и нисколько не удивляясь. — Чего тебе, Вит-Вит? — Он прислушался к тому, что творится у него за спиной, словно Балтазар мог в его отсутствие открыть шкаф и внести в картину желательные ему изменения, потом спросил: — Что-нибудь случилось?
Я без слов показал на кустарник и только вымолвил!
— Клаас… — И так как он меня не понял и серые глава его глядели куда-то над моей головой: — Клаас здесь, помоги ему.
— Твоего брата здесь нет, — сказал он, — Клаас ранен и лежит в больнице.
— Он лежит за мостиком, — сказал я. И добавил: — Он хочет к тебе, только к тебе.
Тут художник подобрал полы плаща, сунул зажженную трубку в карман, еще раз прислушался к тому, чем занят Балтазар, и вышел из мастерской. Я закрыл дверь и бросился за ним.
— Чего вы только себе не позволяете, — ворчал он, короткими шагами мчась по саду, а я ему в его крепкую, хоть и немного сутулую спину:
— Его ищут, они уже побывали у нас.
— От вас только и жди неприятностей, — ворчал он, — вы не можете оставить человека в покое. — Долгополый плащ скрывал возникновение его шагов, и мне казалось, что он плывет, движимый гневом или по меньшей мере подгоняемый обидой, и снова я услышал его укоризненный голос: — Чего вы только себе не позволяете!
Чтобы сократить дорогу, мы вдоль кустарника побежали к лазу и, выйдя из сада, нашли Клауса там, где я его уложил. Голова его по-прежнему покоилась на подушке из травы. Художник склонился над ним, накрыв его своим широким плащом, быть может неся ему желанную прохладу, и я вынужден констатировать, что эта группа» изображающая распростертую на земле фигуру и другую фигуру, склоненную над ней в классической позе утешителя, напомнила мне любимую картину фюрера «После битвы», с той разницей, что на картине коленопреклоненная фигура скорее женского пола. Художник, однако, не собирался утешать брата, он только хотел понять, что с ним случилось, почему он лежит под его кустарником без кровавого венчика на виске и вместе с тем не встает.
— Клаас, — сказал художник, — Клаас, мой мальчик, что с тобой? — Он поднял неподвижную руку, которую брат прострелил дважды — раз за разом, — и снова опустил. Пощупал ему плечо, грудь и низ живота, но тут Клаас вздрогнул и взмолился:
— Не надо, не трогайте там.
— Ты в состоянии идти? — спросил художник.
— Конечно, я вполне могу встать. — С помощью художника он присел и вдруг затрясся. — Мне надо спрятаться, — сказал он и наконец поднялся.
— Иисус Мария, — вздохнул художник, — от вас только и жди неприятностей и хлопот.
— Домой, — сказал Клаас, — домой мне никак нельзя. К ним уже приходили и еще придут!
— От вас всего можно ждать, — снова заворчал художник и поддержал брата, а Клаас, застонав:
— Если меня схватят, мне крышка.
— Нет чтобы оставить нас в покое, — пробормотал художник и, крепко прижав Клааса к себе, заставил его сделать первый шаг, а потом и вовсе поволок, все так же бранясь и качая головой, снова и снова повторяя свои брюзгливые жалобы, все дальше, по направлению к лазу, а там и к беседке. Здесь, в сумеречном свете, он посадил Клааса в широкое кресло из лакированного ивняка. Он приподнял его лицо, но не так, будто хочет поговорить с ним глаза в глаза, а словно ища в нем некое памятное выражение, временами появлявшееся на его лице, выражение неподдельной умиленности, говорящее о душевной простоте, бессознательной, классической душевной простоте, что и побудило художника ввести его в свою «Тайную вечерю», где Клаас в роли ширококостного нескладного малого в трепетном ожидании глядит в кубок. Клааса легко обнаружить в «Натюрморте с красной лошадью», где он изображен в виде идолоподобного толстяка, он же стоит наискосок от Фомы неверного, будто собираясь подставить ему ножку. На картине «Пляж с танцующими и прочей курортной публикой» Клааса можно узнать в ясноглазом парне с синим лицом, который недоуменно глядит на эту пеструю сцену, тщетно силясь понять ее.
Я мог бы перечислить с десяток картин, на которых Клаас демонстрирует свою наивную умиленность, и, когда художник приподнял и повернул его лицо к свету, я подумал, что он ищет у него то же выражение, но, возможно, я и ошибаюсь, потому что он вдруг спросил:
— Да понимаешь ли ты, чего от меня требуешь? — Но Клаас только безучастно на него поглядел. — Ладно уж, пошли, — сказал художник, — делать нечего, пошли.
И он снова крепко обхватил брата; мы вышли из беседки, вдоль фасада с окнами прошли во двор, художник всю дорогу бранился, плакался и осыпал нас — и меня в том числе — упреками, мол, все, что мы вытворяем, ухудшает и без того невеселое его положение. Только в коридоре он замолчал. Он отпер дверь в восточный флигель, там вдоль окон тянется коридор, откуда открываются, скажем, сто десять дверей, тяжелых, выкрашенных в серо-зеленую краску дверей с торчащими в замках непомерно большими, очевидно самодельными, ключами. Подталкивая Клааса в спину, он повел его по коридору мимо всех этих дверей, за которыми мне мерещились не люди, а птицы: коршуны с голой шеей, тяжеловесные кондоры, беркуты с нависшими веками, сидящие на исцарапанных кроватных столбиках. В каменном полу были высечены памятные даты: год тысяча шестьсот тридцать восьмой, тысяча девятьсот двенадцатый и другие, а под ними инициалы: А. Й. Ф., Ф. В. Ф. — бороздки по краям стерты, а в каменных плитах кое-где зияют трещины.
Ту ли дверь отворил художник? Эту ли комнату предназначил он брату? Он неожиданно остановился, отпер одну из дверей, вошел, тотчас же вернулся, кивнул и осторожно ввел в нее Юїааса. То была ванная, вернее, кто-то, должно быть еще старик Фредериксен, отвел это помещение под ванную, приказал поставить здесь душ и ванну — матово-белое чудище с лапами грифа, но ни душ, ни ванна включены не были, здесь не было ни труб, ни крана, ни слива, так что напрашивалась мысль, что затея эта была оставлена по недостатку к ней интереса, а может быть, старик Фредериксен не дал себе труда хорошенько поискать эту комнату и она затерялась среди множества других. Почему в незавершенной обширной ванной был сложен комплект подержанных матрацев, сейчас уже не догадаешься, во всяком случае, матрацы были налицо и художник набросал из них ложе, причем от каждого броска столбом поднималась пыль, пучившаяся облаком в процеженном свете косых солнечных лучей. На это ложе художник и приказал Клаасу лечь.
Мой брат опустился на четвереньки, повалился набок и вытянулся во весь рост. Его знобило.
— Мне бы одеяло, не найдется ли у вас одеяла? — спросил он.
— Ты получишь все, что тебе нужно, — сказал художник и начал прибираться под высоким окном: составил двойную стремянку и отнес ее в сторону, собрал в кучу свинцовые трубы, ножовки, вентили, изоляционный материал и все это побросал в картонный ящик, затолкал ногой в угол облупившуюся штукатурку, бумажки и окурки, снял с гвоздя халат с узором из рыбьих костей, ощупал карманы, сложил и сунул его Клаасу под голову.
Клаас трудно дышал. Он смотрел на меня с несчастным видом. Теперь, когда я вижу его на этом ложе сквозь клубы пыли, сквозь дымку воспоминаний, мне кажется, будто он подал мне незаметный знак, тайный сигнал, прося не покидать его. Пыль ложилась на его лицо и веки. Я не понял его знака. Художник, качая головой, обходил помещение, оглядывая все, что здесь нужно сделать, и, казалось, у него опускались руки. Брат повернулся набок и зарылся лицом в сгиб локтя.
— Он еще ничего не ел, — сказал я и положил хлеб на изголовье матраца.
— Все в свой черед, — сказал художник, — во всем нужен порядок, раз уж вы устраиваете такие сюрпризы. Постепенно он получит все, что ему нужно. А теперь пойдем, оставим его одного. Мне надо еще сообразить, что тут на меня свалилось.
Назад: Глава IV День рождения
Дальше: Глава VI Второе зрение

